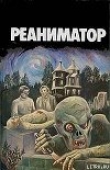Текст книги "Короткий миг удачи (Повести, рассказы)"
Автор книги: Николай Кузьмин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
– Ползи! – негромко, сквозь зубы распорядился вдруг Красильников и медленно достал из-за пазухи трофейный «вальтер».
– Куда? Куда ползти-то? – испугался Семен. – Не видишь? Миха, брось дурить. Слышишь?
Он кричал и отшатывался, но взрывы, свист и комья заставляли его приникать к Красильникову, и он, закрывая руками растрепанную голову без каски, неожиданно начал осмысленно поглядывать на пистолет в руке товарища. Красильникову показалось, что будет лучше, если он станет держать Семена под прицелом и подальше от себя.
– Бери немца! – приказал он, наставляя пистолет. – Быстро!
– Ну… хорошо! – зловеще покорился Семен, поднимаясь, и можно было лишь догадываться, сколько ненависти скопилось сейчас в его отчаянно трусившей душе. – Я возьму… Но потом…
– Волоки! – рявкнул Красильников, чувствуя, как зудит в его руке заряженный и пристрелянный «вальтер». Нет, не зря сегодня не выдержал и взорвался Павел, – против своего брата разведчика он не стал бы понапрасну пускать в ход кулаки.
Семен ухватил пленного за туго скрученные руки и, как барана, потащил наверх Поняв, что немедленная расправа миновала, немец обрадованно стал помогать ему втаскивать себя по осыпающемуся скату.
У края, перед тем как подставиться под огонь, Семен еще раз замешкался и затравленно глянул вниз В нем сильно жила надежда уцелеть, сохраниться любой ценой, дожить до будущего, до мирной, как мечталось, соблазнительной судьбы инженера.
– А его? – кивнул он на затихшего и забытого всеми Павла.
– Пошел! – заорал и оскалился Красильников, совсем не помня себя.
Пленный и Семен высунулись из воронки, перевалили и скрылись, – последний раз помаячили вверху их истертые солдатские подметки.
Красильников присел над раненым, не зная, на что решиться. Собственно, решение могло быть только одно, единственный выход для разведчика перед лицом врага, и Красильников потому и отослал вперед Семена. Умыть руки, не брать греха на душу, предоставив сделать это другому, он не мог, – Семен, каким он сегодня его узнал, непременно предал бы раненого, – пожалел. А обозленные неудачей немцы вдоволь налютовались бы, отвели бы над пленным разведчиком душу.
Обхватив развороченный живот, Павел лежал лицом в сухих колючих будыльях бурьяна. Красильников, склонившись совсем низко, уловил частое горячее дыхание, – впоследствии ему много раз казалось, что умирающий кого-то звал, повторял чье-то нежное, ласковое имя.
Ремень Павла с вырванной пряжкой валялся на противоположном скате, там, куда его забросило взрывом. Красильников запомнил, что как раз ремень-то с дымными черными краями разрыва и убедил его не трогать раненого, не добавлять ему напрасных мук.
Семен со связанным «языком» уползли недалеко. Выскочив на поле, совсем забыл о страхе, забыв, что пригибался недавно и томился беззащитной спиной, Красильников увидел их очень близко и сразу же подумал, что озирающийся, изо всех сил жмущийся к земле Семен непременно слышал одинокий пистолетный выстрел в воронке. Однако ему было наплевать теперь, слышал тот, не слышал. Он вообще выскочил тогда под огонь без всякой боязни, что его найдет и клюнет летучая злая пуля. Нисколько не пригибаясь, он что-то орал и раз за разом пускал в ту сторону, где бесновались немцы, длинные бессмысленные очереди, – веером, от живота И злился, что те двое, которым следовало двигаться быстрее, ползут так медленно, боясь подняться на ноги, и бил их, пинал, ругался, – подгонял. Лишь когда стало потише и разум к нему вернулся и страх, он разглядел, что Семен не только тащит на себе немца, но волокет еще и собственную ногу: словил-таки осколок, хоть и боялся с самого начала. Красильников скомандовал остановиться, разрезал на немце путы, и тот с большой старательностью протащил раненого разведчика весь остаток пути.
Неожиданное ранение Семена, причем серьезное, оставившее увечье на всю жизнь, примирило Красильникова, и он отправился в медсанбат проведать. Семен, наспех перевязанный, ожидал отправки в тыл. Он лежал тихий, обескровленный, с распухшим от побоев лицом.
– Ты… это самое… – проговорил он, медленно раскрывая и снова закрывая измученные глаза. – Сука я.
– Ладно, ладно, – неловко успокоил его Красильников, внезапно почувствовав себя виноватым перед ним. Он оглянулся: не слышит ли кто?
Семен отдышался и снова собрался с силами.
– Не поминай… Собачье это дело – погибать.
– Брось, чего там… Поправляйся.
Он не испытывал к увечному ни зла, ни осуждения, потому что примерно с того дня стал сознавать, что к войне, к каждодневной гибели своей нужна долгая тупая привычка, и у него самого до конца войны так и не прошел грешок «кланяться» близко пролетевшей пуле, – всякий раз, когда тоненько тенькало над головой, какая-то сила моментально сгибала шею. Унизительно, однако поделать с собой он ничего не мог…
– Гвоздями не интересуетесь? – расслышал Красильников вкрадчивый, но настойчивый голос рядом, и ему потребовалось усилие, чтобы очнуться и обратить внимание на грузного старика, пристроившегося к нему на скамейку. Красильников даже головой встряхнул, чтобы окончательно вернуться к горячей, знойной действительности.
День распалился во всю летнюю южную силу, и Красильников первым делом почувствовал, насколько раскалены стали ноги, оказавшиеся за это время на солнцепеке. Пиджак на коленях обжигал руки.
Старик, страдающе свистя больными бронхами, сидел на скамейке как бы сам по себе, но не сводил с приезжего, задремавшего в тени человека деловых осторожных глаз.
– Гвоздями, говорю, не интересуетесь?
Красильников рассмеялся и, убрав с колен накалившийся пиджак, с наслаждением встал.
– Нет, отец, гвоздями не интересуюсь. А вот пивом или, на худой конец, квасом…
У старика разочарованно опустились рыхлые плечи. Он брезгливо оттянул на сырой груди рубашку и с отвращением помахал себе в лицо ладошкой.
– Жарко.
Обратно Красильников вернулся скорым широким шагом. В каменном подъезде было прохладно, и он, взбегая по ступенькам, чувствовал, как тянет и саднит от пота все усталое, истомленное зноем тело.
На этот раз ему открыли сразу, едва он позвонил. Встретила его Роза, отдохнувшая, причесанная, встретила как хозяйка, у которой в доме приезжий человек.
– Дядю Леню не встретили? Значит, опять до поздней ночи. Сказал, что вас пойдет искать.
– А я и не уходил никуда, – сказал Красильников, избавляясь от неостывшего пиджака. – Жарко. До моря так и не дошел.
– Так день-то! – сказала Роза, пряча пиджак. – Подождите лучше до вечера. У нас ванна есть. Отдохните по-человечески.
Да, здесь он был человеком желанным и Красильников, не имевший близкой родни, никогда не ездивший по гостям, вновь почувствовал себя стеснительно от неподдельного радушия хозяйки. Когда он, с длинными мокрыми волосами, неся в одной руке ботинки, в другой полотенце, прокрался босиком по темному коридору, в комнате было пусто, но все заботливо приготовлено: занавешено окно и в покойном сумраке на свежей постели белел угол откинутой простыни…
Ходить по ресторанам Красильников не привык, не любитель был даже в лучшие свои годы, однако ресторанный обиход знал, потому что жене в последнее время приходилось подолгу бывать в отъезде.
Здешний ресторан оказался не чета черемховскому, и Красильников, стеснительно миновав роскошного, с надменной бородищей швейцара, остановился в широких, как ворота, дверях. Зал бы велик, слишком велик, но сквозь слоистый дым, поверх голорукой хохочущей публики Красильников сумел разглядеть эстраду к там, на самом верху, на узенькой, как колышек табуреточке, узнал Олега Пашкиного сына, нарядного, вертляво-веселого, совсем не такого, каким запомнился ему парнишка утром.
Со своей табуреточки Олег зорко заметил стоявшего в дверях Красильникова, – и тотчас все, кто был на эстраде, обернулись и стали вглядываться, а какой-то человек, немолодой, но тоже одинаково со всеми нарядный, черно-белый, соскочил в зал и, прихрамывая, заторопился навстречу. Только по хромоте и признал его Красильников: до того изменился Семен.
Он не устоял, не дождался, пока проберется к нему между столиками Семен. Нетерпение овладело им еще там, в комнате Розы, когда хозяйка стала наряжать отдохнувшего гостя и бережно гладила через мокрую тряпочку извлеченный из чемодана костюм. И он нетерпеливо подгонял шофера такси, и выскочил нетерпеливо, и только здесь, на пороге, немного оробел.
Подвыпившие люди, шумевшие за столиками у дверей, умолкли и обернулись, когда вдруг двое немолодых мужчин сбежались на ковровой истоптанной дорожке, с размаху прянули грудь в грудь и замерли, зарылись лицами, крест-накрест обхватив друг друга. С того момента исступленность встречи обеспечила друзьям постоянное и почти всеобщее уважительное внимание, – нечасты такие встречи в теперешнее время.
– Ну?.. – проговорил наконец Семен, немного отстраняясь, чтобы вглядеться затуманенными глазами, но тут порыв снова соединил их, и Красильников почувствовал, как бьет его по спине труба, которую Семен, забывшись, потащил с собой через весь зал. Он сильно изменился за все эти годы, совсем неузнаваем стал, и Красильников лишь по каким-то малым приметам узнавал в нем прежнего Семена. Эта представительная полнота, вальяжность, поперечный галстучек под круглым подбородком… Инженер, настоящий инженер – специалист с достатком, – именно таким представлял себя в будущем Семен на фронте. Руки Красильникова соскакивали со спины Семена, – скользил по импортной рубашке гладкий подклад дорогого твердого пиджака.
– Пошли, – задушевным голосом сказал Семен, и они, но разнимая рук, не поправляя пиджаков, побрели, толкаясь, к стенке, где расторопный официант, завидя их, принялся быстро прибирать освободившийся столик.
– А ты хорош… Хорош… – взволнованно говорил Красильников, не переставая поражаться переменам в Семене и все же узнавая его. – Даже не думал…
Чтобы не мешать официанту, Семен отодвинулся от столика и, довольный, улыбающийся, показал, что разговор потом будет, настоящий разговор, а сейчас пусть сначала приготовят все. Он не знал, куда девать из рук трубу, и, казалось, немного стеснялся. Смущала и гостя Семенова труба, небольшая сверкающая штучка, которой бывший разведчик зарабатывал на жизнь. Красильников сейчас особенно вспомнил, как много говорили они на фронте о будущем, – они тогда устали от войны и тосковали по мирной жизни как зерна по земле, и Семен во сне, бывало, видел свой обязательный инженерный диплом. Он и под огнем тогда боялся и полз все к тому же, о чем мечталось, а приполз, выходит, к этому вот… к трубе. «Но, видно, завлекательней и выгодней труба-то, – подумал быстро Красильников, все больше замечая, как стесняется своего инструмента старый фронтовой товарищ. – Иначе бы чего?.. Уж Семен своей выгоды не упустил бы».
Выручил Семена высокий щеголеватый парень с узким интеллигентным лицом, тоже черно-белый, как все из оркестра.
– Сеня, мы, однако, без тебя, – сказал он, непринужденно приблизившись.
– Да, ребятки, – согласился Семен, отдавая ему трубу и с облегчением придвигаясь к столику. – У меня сегодня ситуация – друг. Фронтовой друг.
Парень понимающе улыбнулся.
– Сегодня заказов будет – навалом. Командировочные.
– Валяйте! – отпустил его Семен.
Красильников, сцепив перед собой пальцы, с интересом рассматривал гудящий, утонувший в дыму зал, но когда появился ловкий официант с нагруженным подносом и принялся быстро, изящно загромождать стол, он руки убрал и попробовал помочь, однако официант необидно и мягко отстранил его, а Семен, засмеявшись, проговорил:
– Сиди. Не твое дело.
Во рту Семена, когда он улыбался или говорил, сверкали сбоку нарядные драгоценные зубы, и, кажется, сияние их придавало его лицу что-то новое, неузнаваемое. Однако Красильников еще не присмотрелся как следует, не решил для себя.
– Твое дело пить сегодня, – говорил Семен, дождавшись, пока управился официант, и принимаясь сам хозяйничать за столом. – Ну, так сколько это выходит?
– Не виделись-то? – догадался Красильников, принимая налитую рюмку. – Да лет девятнадцать, однако… или нет, все двадцать!
– Вот это да! – И Семен пальцем помаячил, чтобы гость держал рюмку, не ставил на стол. – А ты хороший сезон выбрал. Народу меньше, да и публика посолидней.
– Выбрал! – рассмеялся Красильников, примеряясь к рюмке. – Как дали.
– Выбирать еще не дорос? Но в чинах? Ну, да все равно.
Приподняв рюмку, он замолк, посуровел, близко глянул в самые зрачки. Чокнулись, помолчали. И кажется, одно и то же давнее событие возникло в памяти того и другого.
Удрученно заморгав глазами, Семен вздохнул и коротким заученным движением опрокинул рюмку в рот. Выпил и Красильников, но неторопливо, как человек не часто позволяющий себе такое развлечение. Отставив рюмку, сморщился, затыкал вилкой в присыпанные ломтики лимона.
– Ч-черт!
Семен, тоже морщась, тут же налил по второй.
Близко рассматривая поздоровевшую руку Семена с бутылкой, Красильников увидел багровое уродливое пятно, как от ожога, и вспомнил, что на том месте была когда-то не совсем приличная татуировка. Он обрадовался, что есть с чего зацепиться за воспоминания.
– Свел?
Семен, закуривая, зачем-то подмигнул и небрежно махнул рукой:
– Ну ее! Дурость!
Расстегнул пиджак, устроил локти на столе и дымил, щурился, смотрел на Красильникова веселыми глазами. Ни у кого пока не хватало умения затеять большой обстоятельный разговор. Выпито еще мало, что ли?
Неожиданно загремел, покрывая гам, оркестр, и Красильников, очень довольный, что не надо мучиться от молчания, стал смотреть на далекую эстраду. Больше всех его заинтересовал Олег, Олежка, Пашкин сын, на своей ненадежной табуреточке. Казалось, бес какой-то сидел в парнишке, не иначе, – до того гибко и ловко вихлялся он телом, плечами, головой, не говоря уже о руках, успевая бить, греметь, глушить тарелки, еще в какие-то моменты подкидывать и ловить палочки и в то же время не следить за собою напряженно, а сиять, завораживать подвыпивший зал молодой сверкающей улыбкой. Такого проворства Красильников в нем не подозревал. «В кого бы?» – подумал он. Павел, тот, правда, ловкий был, ничего не скажешь, но только здоровенный в плечищах, – разведчик природный, лучший разведчик в дивизии. На такую табуреточку его и не усадить бы… «Тоже, видать, искусство», – с уважением думал Красильников, наблюдая, с каким упоением вихляется Олежка, а когда оркестр так же неожиданно, как и начал, оборвал свое громыхание, у него было готово что сказать скучающему над рюмкой Семену.
– А парень-то… любит тебя, – и ласково кивнул в сторону эстрады.
Семен усмехнулся и неопределенно пожал плечами:
– Вместо отца, можно сказать…
Квелый он какой-то становился, будто и не рад был, что встретились. Или прошла уже первая-то радость?
– С Розой у вас что? – решился напрямик спросить Красильников.
– А!.. – сморщился Семен. – На дверях читал? Вот всю войну ей и стучали. И орали. Да и после войны… Чего говорить!
– Трудно было бабе, – заступился Красильников, помня о большой, но дружной квартире, а главное, что память о Павле соблюдается там свято.
– А кому легко? – рассердился Семен. – Тебе легко? Мне? Кому, скажи, легко?
Он отворачивался и в гневе теребил давивший шею галстучек. Красильников пожалел, что начал этот неприятный разговор.
– Ну, а дядя Леня?
И снова как о пропащем человеке махнул рукой Семен.
– Алкаш… Во! – поскучал по рюмке. – Все отдаст. Хотя помогал ей, кажется… Да ну его!
Неожиданно, как и в прошлый раз загремел вдалеке от столика оркестр, совсем загустел табачный чад, расстроенный Семен кинул в рот вторую рюмку и с омерзением затряс головой. Закусив и прогнав слезу, он вспомнил о госте и помаячил ему пальцем, чтоб не отставал, освобождал посуду.
Красильников, раздумывая, вращал на скатерти полную, с краями налитую рюмку.
– Розка о тебе… просто сказки рассказывает! – почти прокричал Семен, напрягая короткую шею. Он наклонился, чтобы лучше было слышно. – Ты по скольку посылал-то ей? Говорит, большой, наверное, пост занимает.
Красильников, не отвечая, вяло скривился. Кому какое дело, что у него за пост? Сколько мог, столько и посылал. Если жена в командировке да удастся сэкономить – побольше пошлешь. Не удастся – и совсем ничего не пошлешь. Всяко…
– Обижается она на тебя, – сказал он, неожиданно узнавая напряженную шею Семена. Многое изменилось в нынешнем трубаче с тех давних пор, но вот шея, жилистая шея, когда он придвигался и, заглядывая в глаза, напрягал голос, осталась прежней. И – глаза, пожалуй. Точно те же глаза…
– Кто? – живо изумился Семен и, нагнувшись к столику, перекрикивал оркестр. – Розка? Знаю. Дура. Ничего не понимает. Не хочет понимать!
Он кричал и багровел от натуги, голос его доносился, как сквозь разрывы.
– Из-за парня? – тоже пригнувшись, громко спросил Красильников.
– Да из-за всего! Куриная башка. Баба! Не понимает главного. Охота ей, чтоб он с портфельчиком ходил. Стипендию зарабатывал.
– Так и что? – кричал и пригибался Красильников. – Пускай!
Семен рассердился и руки-плечи вздел.
– А жить? У нас вон буфетчик, – и пальцем за спину, – тоже институт кончал. А знаешь, сколько дал, чтобы устроиться? Не поверишь!.. – Голос его сорвался, он отхлебнул из фужера. – И саксофонист у меня, сейчас подходил, университетский диплом. Можешь сам спросить!.. Сам, говорю, спросишь!
Красильников умолк, откинулся и долго в задумчивости покачивал головой.
– А помнишь? – дождался он тишины и поманил Семена. – Помнишь, Пашка все говорил: если, говорит, и подохнем, так хоть знать будем, за что.
– Э!.. – Семен брезгливо махнул рукой и стал смотреть, чем там занимаются на эстраде. Но не вытерпел, – повернулся и придвинулся опять. – Времена сейчас, Миха, совсем другие… Другое, говорю, время сейчас! – повторил он громче и категорически помахал перед лицом гостя умудренным своим пальцем. – Сам, поди, видишь… Да и мы, если взять, тоже ведь другие. Чего зря трепаться!
Плыл, слоился, густел под люстрами неубывающий пьяный чад, и ничего не разобрать было в позднем гаме разгулявшегося зала. Замолкал и снова бушевал на своих гремучих тарелках и барабанчиках Олежка, и весь оркестр, посадивший его, казалось, специально на самое видное место, лишь подыгрывал ему. Подыгрывали не только юнцы, вроде Олежки или саксофониста с университетским дипломом, но также мрачная толсторукая дама за роялем и лысый сосредоточенный старик со скрипкой.
Но вот откуда-то снизу, из-за черного лакированного бока рояля, на эстраду поднялась и прошла вперед тоненькая женщина в длинном блистающем платье до самого пола, и оркестр, разом усмирившись, зарокотал, замурлыкал, сдержанно обозначая одни лишь четкие, полновесные аккорды. Женщина, привычно двинув к самым губам змеиную головку микрофона, запела, и Красильников поразился ее высокому детскому голосу, а когда присмотрелся, то понял, что так оно и есть, – она еще совсем девчонка, затянутая в сверкающее порочное платье. Он стал разглядывать лицо певицы, юное, но тоже порочное уже, однако в этот момент чей-то настойчивый взгляд со стороны оказал наконец на него свое действие, и Красильников с раздражением поискал, кто это его разглядывает. Через несколько столиков, в глубине дымного, присмиревшего под песню зала, он увидел осклабившегося старика с таким же, как у Семена и всех оркестрантов, галстучком под подбородком. Старик, раздвинув в улыбке толстые щеки, заметил взгляд Красильникова и радостно приподнял рюмку. Он был совсем пьян. Красильников встряхнул головой и сердито отвернулся, однако тут же снова глянул на старика с просиявшей улыбкой, потому что узнал в нем дядю Леню. Старик понимающе покивал ему багровым хмельным лицом и, показав еще раз рюмку, опрокинул в рот.
– М-да… – задумчиво и как бы сам для себя проговорил Красильников, когда вместе с оркестром умолкла юная певица. – Что ж, выпьем, помянем покойника.
Семен встрепенулся, взглянул с удивлением, но рюмки не тронул, – не успел присоединиться, а теперь смотрел, как заедает живо гость, натыкивая что попало на вилку.
– Но ты… – бурчал о набитым ртом Красильников и быстро подбирая с тарелки, – но ты о Пашке… ничего?
– Что – ничего?
– Ну… только хорошее говоришь? Отец все-таки… Да и…
– А что мне? – с неожиданной желчью проговорил трубач и отвел глаза в сторону. – Я человек незлопамятный. Хотя, по совести если говорить он мне больше сын, чем ему. Мне! В нем все мое, что есть.
Перестав жевать, но не поднимаясь от тарелки, Красильников снизу вверх настойчиво и долго смотрел на сердитое, пошедшее вдруг какими-то пятнами лицо Семена.
– Все-таки ты бы его… не очень, – миролюбиво предложил он. – Мы-то уж кончаемся, а ему еще жить да жить.
– Во, во, именно! – воскликнул Семен. – Именно! Так пусть лучше учится сразу. Понял? А то как начнут потом ставить синяки да шишки – больненько будет. Никакой диплом не поможет.
– Потом больнее может быть. – осторожно, но с прежней настойчивостью возразил Красильников.
– Например? – насторожился Семен.
«А забрать их всех с собой в Черемхово! – озарило вдруг Красильникова. – И жить будут, и работать, как люди. Что они тут?»
– Ну… мало ли… – дружелюбно сказал он. – Нам-то, фронтовикам, о многом не следовало бы сбывать.
– А!.. – отмахнулся Семен, не переставая раздражаться. – Какого черта?.. Сейчас, Миха, в атаку никому подниматься не придется, – не то время. Сейчас, если что, тюкнет нас за чаем, за кофеем… за такой вот бутыленцией и – газ один от нас останется, пыль. Тень на стенке. Читал, наверное?
Красильников, поковыривая в зубах, усмехнулся и покрутил головой: в таких вещах пускай Семен не морочит ему голову, тут он чувствовал себя уверенно и знал, что ответить.
– Складно! Только не легко ли умереть собираешься? Один-то раз в жизни и лопата стреляет.
– Это ты к чему? – не понял Семен.
– Да все к тому же. Ребятишки-то… – кивнул на эстраду, – пехота-матушка, а может, даже наш брат разведчик. Хотят они, не хотят, а разочек в жизни подняться им придется. Необходимость заставит – рано или поздно. Что, не согласен? Зря! А подниматься-то, – продолжал он с неопределенной усмешкой, – голову высовывать ой как трудно! Страшно неохота. Не забыл, думаю еще?
И наблюдал, глаз не опускал, что делается с лицом сидевшего напротив.
«Ах, вот о чем?..» Семен шевельнул ноздрями, но сдержался и, выставив обтянутый хорошей рубашкой живот, привольно закачался на стуле, – решил иронией, издевочкой прибить.
– Подтекстом кроешь? В ногу с современностью?.. Не беспокойся, брат, я-то все помню. Пусть другой кто забывает, а я… – сделал ударение, – я все помню. И – не забуду! Вот, – постучал ногтем по передним зубам, – вечная память.
Видно было, что не по силам ирония ему, прорывалось давнее, накопленное и он собрался выговориться до конца, но в это время кто-то дружески хлопнул его по плечу, и он, не вынимая из карманов рук, не переставая раскачиваться на стуле, обернулся: один за другим подходили ребята из оркестра – саксофонист, Олег, певичка в длинном, очень тесном, сверкающем платье.
– В чем дело? – нахмурился Семен.
– Перекур, – сказал элегантный, уверенный саксофонист. Не замечая неудовольствия Семена, он придвинул свободный стул, отыскал на столе чистую рюмку и налил себе коньяку.
– Олежка, кирнешь? – спросил он, выжидая с бутылкой над еще одной чистой рюмкой.
Олег, тоже очень уверенный, небрежно покачиваясь на стуле, удивленно пожал плечами:
– Что за вопрос!
– А ты, детка? – спросил саксофонист у певички, стеснительно присевшей не к столу, а чуть поодаль, за плечами надутого Семена.
Девушка с опаской посмотрела на Семена, и тот, раздражаясь все больше, дернул щекой.
– Не надо, – поспешно отказалась девушка. – Мне же петь.
– С приездом! – провозгласил тогда развязный саксофонист, учтиво глянул на Красильникова и чокнулся о налитую Олегу рюмку.
Девушка почувствовала, что ее разглядывают, заметила взгляд Красильникова и смутилась, потупилась, хотела, как школьница, спрятать в коленях руки, но помешало туго натянутое на ногах платье. Смущение долго не оставляло ее, зарозовели даже беззащитные детские ключицы которых не скрывало грубое, яркое платье. Все в ней, как разглядывал Красильников, – ненужная косметика, ранняя усталость под глазами, само это вульгарное платье, шитое на какую-нибудь толстоплечую тетку, – все говорило о том, что в судьбу девчушки вмешалась чья-то черствая, соблюдающая лишь собственную выгоду воля.
– Может, конфет? – заботливо предложил Красильников. – Шоколаду? Цветов у вас тут нет?
– Сиди! – мрачно процедил Семен, по-волчьи показав блеснувшие сбоку зубы. Девушка метнула на Красильникова признательный взгляд и стушевалась окончательно. Олег, саксофонист, еще кто-то, сидевшие вокруг стола вольно, нога на ногу, с рюмочками у самых губ, посмотрели на Красильникова с усмешливой снисходительностью, и Красильников, хоть и одурел уже от выпитого, от света, гама и табаку, от человеческого мелькания, все же воспринял красноречивый взгляд оркестрантов как нужно: что-то здесь не для его ума.
– А вы, – подвинулся он тогда к отдыхающему саксофонисту, который нравился ему больше остальных, – вы что, в самом деле кончали университет?
Опять что-то примитивное было в этом прямом вопросе приезжего провинциала, но молодой человек великолепным жестом отнес от губ недопитую зацелованную рюмочку.
– Сеня сказал, да?.. Было дело.
– Нет, ты ему скажи, скажи! – вмешался угрюмый, разочарованный Семен. – А то он тут меня все подтекстом донимал. Прямо пижон какой то.
– Вот как! – приятно удивился саксофонист, и на его узком интеллигентном лице обозначилась заинтересованность. – Это очень современно… А что вас интересует конкретно? В моей судьбе, я имею в виду.
Красильникову хотелось поговорить вообще, придвинуться еще ближе, доверчивей, и он уже взялся за стул, чтобы придвинуться, как за соседним столиком, где давно гудела компания каких-то багровых толстяков в добротных кителях, вдруг раздалось грязное, тяжкое ругательство. Слышно было всем, но смешался один Красильников Он метнул взгляд на девушку и увидел, что она увлеченно водит пальцем по ярким узорам платья на коленях, – словно не слышала. Умный саксофонист сморщил в усмешке тонкие румяные губы.
– Вот вам, кстати, предмет моих дипломных исследований, – он кивнул рюмочкой на соседний стол. – Как на заказ… Вы не замечали, как легко, как изобретательно ругается человек в России? Что вы! Это же великолепная иллюстрация ко всей нашей многотомной истории. В мате, в российской нашей изощренной ругани, если хотите, можно найти и угадать все. Не надо заглядывать ни в Ключевского, ни в Соловьева, ни тем более в Карамзина. В современные учебники, между прочим, тоже… Историческая ругань! Русский человек застенчив по натуре, это верно, но оттого он и ругается так увесисто, так цветисто, что словотворчество его не может, не имеет права пропасть бесследно. Оно должно сохраниться, как памятник, и оно, надо сказать, сохраняется, оно живет и будет жить. Своеобразный памятник любой эпохе! Смотрите сами, что получается. Как какое событие – русский человек тут же увековечивает его, и не в чем-нибудь, а именно в мате. Разве не приходилось вам слышать уже кое-какие космические детали? Вот то-то! Это не показательно? А войну возьмем? Там, я представляю, такое было напряжение, такие страх и ужас, что человеку мало казалось вечных апробированных… ну, ингредиентов, что ли. И он, кроме родителей, кроме боженьки далекого, привносит в ругань то, что ближе, что вот перед глазами: врага, недруга, смерть, увечье, – все! И ведь с каким искусством!.. Нет, этим надо заниматься специально. И вот я, некоторым образом, решил удивить нашу славную науку. Вот соседский возглас от всей души. Могу не глядя сказать, что эти нагрузившиеся граждане – бывшие фронтовики. Так сказать, фольклор тех грозных, незабываемых лет. Я посвятил или, вернее, намеревался посвятить этому свою дипломную работу, этакое капитальное исследование: «Влияние Великой Отечественной войны на великий русский язык». Разве не интересно? И руководителя я нашел не доцента какого-нибудь, не профессора зашмаленного, а боевого, заслуженного дядю, подполковника в отставке, бывшего командира штрафного батальона. Вот это был знаток! Художник, творческий человек! Что эти жалкие фронтовички за соседним столиком?
Не понять было, шутил, всерьез ли все рассказывал парень, но Красильников видел, что оркестранты хоть и посмеиваются, а слушают заинтересованно. Саксофонист ему нравился все больше.
– А что, очень даже возможное дело! – поддержал он его. – Правда, Семен? Вспомни-ка, как на фронте крыли. Ах, и крыли же! Птицы замертво валились! Пули пугались! А?.. – Он переждал, пока отсмеются, и глядел на всех весьма воодушевленно. – Это сейчас смешно, а вот когда до смерти, как пелось, четыре шага, так человек, во что хочешь начинает верить. И что пуля его облетит, если испугать ее как следует, – тоже верит. Не вру! Не вру! Семен, да ты сам скажи им, не молчи. Им же все интересно!
Он готов был удариться в воспоминания, сгрудить ребятишек вокруг стола поближе, чтоб сидели и не дышали, узнавая, как доставалось когда-то старшим, и уж случай приготовился подходящий, тот незабываемый случай, когда смерть не в четырех шагах, а рядом, совсем вплотную караулила разведчиков, но они все же выбрались и уцелели, и не только уцелели, унесли лихие головы, а еще и «языка» с собой приволокли. Великий, почти необъяснимый теперь случай! Объясни его попробуй вот тут за столиком! Не поверят. А ведь было, на самом деле было, – не придумано под хмелем… Притихшие оркестранты, почувствовав настроение, приготовились и начали сдвигаться, как вдруг Семен поднялся и заторопил, заподгонял всех, кто сидел за столом:
– Пошли. Пошли-ка, ребятки.
Похоже, у него внезапно возникло какое-то свое решение и ему не терпелось поразить собравшихся Уходя от столика, он многозначительно сдавил Красильникову плечо:
– Посиди, послушай. Сейчас услышишь.
– Сеня, – напомнил, направляясь к эстраде, саксофонист, – четыре заказа из зала. Деньги получены.
– Ничего. У меня идея.
Стол опустел, вокруг в беспорядке остались покинутые стулья. Красильников ждал недоумевая, чем собирается удивить его Семен.
Парни из оркестра один за другим вспрыгивали на эстраду, расходились по местам, брали инструменты. Семен, сильно прихрамывая, ковылял позади певицы и, придерживая ее за локоть, что-то втолковывал. Девушка, приноравливаясь к его перебивчивому шагу, внимательно слушала и кивала головой.
Появилась на эстраде рыхлая мрачная дама, села за рояль. Старик скрипач, наспех поужинав, пробирался на свое место и несколько раз утер ладонью губы.