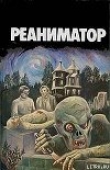Текст книги "Короткий миг удачи (Повести, рассказы)"
Автор книги: Николай Кузьмин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 23 страниц)
– А я так отродясь в сберкассе не была, – сказала она, изо всех сил желая загладить свою неожиданную вину. – Не знаю даже, как там. И маменька, хоть жизнь прожила…
Но нет, опять она не в лад! Это она поняла сразу, потому что все умолкли и с досадой переглянулись. Ничего хорошего сегодня от нее, одна помеха! И хоть понимала Марья, что молчать ей теперь надо и уж конечно по улыбаться, но улыбалось как в наказание само собой, и она лишь прикрывалась своей большой, измученной работой и щелоком ладошкой и лепетала из-за пальцев в оправдание:
– Это Степанида у нас… Она у нас в городе…
Одна Настенька, добрая душа, смотрела на нее с жалостью.
Ах, молчать, молчать ей следовало, – и без нее говорунов хватает. Молчание давило ее, – хоть Петруша бы затрещал! Перебирая на коленях твердые, навечно отглаженные складки, она заметила, что низенький брезгливо рассматривает ее руки, которые, к давнишней ее досаде, совсем незаметно почернели и вымахали черт те как, – будто одни только и росли во всем теле. Она застыдилась вконец, хотела спрятать и руки, но спрятать было некуда.
Низенький вдруг решительно потянул носом и поднялся. Она испуганно вскинулась, но он не посмотрел на нее.
– Ты куда? – метнулся к нему Петруша. Низенький оттолкнул его и сердито вышел в сени. Петруша выскочил за ним.
Сил не было поднять от стыда голову!
– Ох-хо-хо-о… – притворно зевнула Степанида, хотела встать и уж грузно оперлась на колено кавалера, но передумала и осталась сидеть. – Семен Семеныч, рассказали бы что-нибудь еще, что ли.
Однако скис и Семен Семеныч, томясь в предчувствии скандала.
Скоро Петруша, приоткрыв дверь, пальцем поманил Настеньку, и она опрометью выскочила к нему, а когда вернулась, то сразу подошла к убито сидевшей Марье, наклонилась и негромко сказала:
– Пойдем-ка на минутку.
Горше всего было Марье ковылять за товаркой в своих новых неудобных туфлях, чувствуя, что все смотрят вслед и замечают, как торчат у нее колени.
На дворе была ночь, ничего не видно, и после избы, после табачного дыма и куриного наваристого духу очень свежо. Марья стояла и не поднимала лица. Настенька, жалея ее, не стала таиться и сказала все как есть:
– Я за Нюркой сбегаю. Ты иди в клуб, там, говорят, кино хорошее: сплошь про любовь. Или еще куда… Не выгонять же их теперь!
– Да нет, чего ты… Я схожу. – Марья различила возле крыльца светлые куриные перья и подумала, не убрать ли, пока нечего делать? Или потом уж?
– Ты не обиделась, Маш?
– Что ты, господь с тобой!..
– Так я побежала!
Оставшись одна, Марья постояла, потрогала плетень, затем аккуратно притворила за собой калитку. В окнах избы было светло, но ничего не видно. Потихоньку, сторонкой, она пошла по темной улице. Ее напугала собака, выскочившая вдруг откуда-то из лопухов. Собака тоже испугалась, визгнула и, поджавшись, подвывая, закатилась, сгинула в темноту.
Возле клуба – далеко слышно – играла музыка. Несколько пар танцевало, и Марья слышала, как сильно измененный динамиком голос комсомольского секретаря объявлял очередной танец. Многие пришли в клуб семьями и в ожидании сеанса лузгали семечки. Гонялись и мешали всем ребятишки. Вокруг лампочки на столбе, с которого гремел динамик, густо роилась мошкара.
Марья остановилась, не приближаясь. Она издали узнала Нюрку, нарядную, веселую, с кулечком семечек в руках. «Сказать ей, чтоб шла? Да нет, без меня найдут и скажут». Она представила, как, должно быть, оживится низенький, когда увидит Нюрку. Конечно, баба молодая и в сельсовете работает, жилы из себя не тянет. Грамотная, училась. И смеется хорошо, – ей только дай зубы поскалить.
На низенького у ней не было никакой обиды. На Степаниду разве, – да и то…
Ее увидел Монька, пастух-дурачок, и остановился, стал натужно зевать большим уродливым ртом. Он всегда с минуту зевает, если не больше, когда хочет что-то сказать, – болезнь такая. А тут увидел ее во всем нарядном: и юбка, и туфли, и даже губы накрашены. Она сердобольно смотрела, как он тужился, показывая мелкие зубы по самому краю толстых десен, – больше десен во рту, чем зубов, – и подумала, что это в самом деле некрасиво. В маленьких глубоких глазках дурачка светилось нетерпеливое озорство. Рваный картуз без козырька едва держался на его мелких бараньих кудряшках.
Сказал наконец Монька, насилу выдавил:
– Ну… к-ка… день… а… а… ангела?.. С днем… а… а… ангела, матка! – и загыкал, закатился, выставляя мокрые голые десны.
Она не обиделась, только сморщилась и рукой махнула:
– Иди, иди ты, господь с тобой!
Монька, отсмеявшись, побежал к освещенному клубу, крепко шлепая по земле босыми черствыми ногами и волоча за собой длинный веревочный кнут.
«Дурак-то откуда все узнал?» – подумала она. Ничего-то в деревне не скроешь, все на виду. Теперь ей и вовсе не следовало подходить к клубу, показываться людям на глаза. О них, которые безмужние, все годы шла в народе беспутная, позорная слава. Особенно лютовали бабы, – Марью в каком-то году даже на выставку отказались послать. Да бог с ними, с бабами, – Марья сознавала, что, будь у ней самой мужик, она так же злобилась бы, если не пуще, остерегаясь несемейных стареющих соседок.
Она обошла клуб сторонкой, и правильно сделала, потому что Монька уже зевал и тыкал кнутовищем в ту сторону, где она только что стояла.
Идти в туфлях было по-прежнему неловко, и она не переставала жалеть тех, кому в погоне за красотой приходится терпеть такие муки.
Скоро в лицо пахнуло прохладой, она всмотрелась: речка, и где-то тут должен быть мостик. Прямо впереди стояла большая светлая звезда, и она же переливалась в речке, то размываясь в бегучих струйках, то остро постреливая игольчатыми лучиками. В черном поле, далеко, одиноко шевелился огонек, – видать, старики угнали коней в ночное.
Ступать по бревнышкам мостика стало совсем невмоготу, заподворачивались ноги, и Марья, сказав в сердцах нехорошее слово, догадалась наконец разуться и сразу выпрямилась, разогнула уставшие колени. В ручье было черно, и, если бы не звезда, купавшаяся в струйках, можно было подумать, что и ручей уснул, остановился в темноте. Что-то взбулькивало внизу, и Марья, прислушавшись сверху, поняла, что это текучая вода не унимается у коряжины, давно прибитой к зеленым, в длинной плесени, сваям.
Днем у ручья звон стоял от ребятни, и когда-то сама Марья, да и только ли она, а та же Степанида, Настенька, потом уже Нюрка и еще девчонки, все тогда, пока не выросли, пропадали тут целыми днями. Прикрывшись ладошкой и не счищая песка, они вбегали в воду и плескались, ныряли до синевы. А как-то по весне Марью чуть родимчик не хватил, – донырялась до того, что еле вытащили. Ну, мать, конечно, тут же прибежала, и, хоть первый испуг уже прошел, она от радости ли, что жива девчонка, от страха ли, что могла и не застать в живых, а только схватила ее за волосья, и, как была та голой, так она и протащила ее через всю деревню до дому. Тот день запомнила Марья, потому что был день ангела – самый ее праздничный в году день. Сначала мать постегала ее прутом, потом уложила и напоила малиной, а к вечеру, когда Марья проснулась под тяжелыми и жаркими овчинами, у маменьки был готов пирог. И тоже запомнился тот пирог, потому что слаще его Марья никогда больше не едала. Это было еще до войны, когда из деревенских печек в общем-то не выводился домовитый сдобный дух… Но и потом, в тяжелые годы, маменька чем-нибудь да обрадует, – если не полакомит, так хоть по голове погладит, но только плачет потом, все глаза повыплакала. При маменьке Марья еще знала хорошие дни, то-то и кричала потом, убивалась, когда понесли навсегда из избы материну домовину. И плакала она – не обряд блюла, чтоб люди похвалили, а будто чувствовала, что кончилось девичье житье, начинается бабья мука, и выла, причитала, надсаживала сердце. Даже после отцовской похоронной не кричала так Марья, как по маменьке, – все, кто шли за гробом, слезами умывались. Тоже понимал народ, что гиблое совсем житье подошло бабенке: одной, без мужика – ни пожалеть, ни заступиться…
Утихла музыка в деревне, потухать стали в окошках огни, а Марья все стояла на холодных бревнышках над ручьем и, зажмуриваясь, стряхивала слезы вниз, в небыструю воркующую воду. Тихо было, ничего не слышно, и без помех лежала на сердце Марьи протяжная унылая боль. Будь посветлей маленько, прошла бы она сейчас на могилки, села бы, пожаловалась, – выговорилась бы изболевшимся сердцем. Слова у ней давно уж заготовлены были, тогдашние еще, вечные сиротские слова: «Родимая ты моя маменька, да на кого ты меня покинула…» Не одно поколение русских, дорогих душе людей проводилось под этот старинный исплаканный напев.
Позднела, замирала ночь, и влажными становились остывшие бревнышки под ногами. В ручье уж откупалась веселая звезда, теперь она стояла низко над темным, непроглядным полем, но горела еще ярче. Сейчас бы в избу воротиться и, не зажигая огня, на стол не собирая, брякнуться на постель, лицом в подушку. Но в избе сейчас не до нее, она уж не хозяйка там, – освинели мужики, да и бабы не лучше… Она почувствовала, что озябла, и, разогнувшись, медленно и крепко утерла лицо. В поле шевелился, упорно не умирал одинокий огонек стариков, уехавших в ночное. Старики были суровые и когда-то тоже осуждали ее, как и бабы, но тогда было за дело, а вообще-то народ они справедливый, не пересмешники, как все, и примут ее, дадут пересидеть, сколько надо.
В каждой руке по туфле, она привычным скорым шагом направилась прямо на костер, без дороги, по траве, и сколько шла, столько смотрела на его невеликое, но живучее пламя, и глаза ее постепенно согревались, забывали о слезах и начинали тосковать по дремоте. «Приду сейчас, попрошу постелить, да и лягу…»
Стариков было двое, и, сколько помнила их Марья, столько они ругались, попрекая друг друга давними обоюдными грехами. Когда-то, того времени Марья еще не знала, старик Скороходов был крепким, вошедшим в большую силу хозяином, и Милованов нанимался к нему батраком. Потом подошла другая пора, и Милованов с полным правом разорил своего хозяина. Однако и в колхозе бывшие враги не могли один без другого и все эти годы только и знали, что бранились. В последнее время злой, ядовитый старик Милованов беспощадно наседал на Скороходова за то, что тот не откликнулся на просьбу правления помочь колхозу в уборке сена и спрятался за пенсионную книжку. А заставить пенсионера силой правление не могло – не имело права.
Утлый стариковский огонек плясал на умело сложенных чурбашках и совсем не требовал ухода, – гореть его невеликому пламени было до самой поздноты. За бранью старики не заметили подошедшей Марьи, не откликнулись на голос. Она постояла, при свете разглядела, что запылились на дороге туфли, и вытерла их руками. Опять заблестел на туфлях глянец.
Сидя у огня на коленках, сухонький костистый Милованов все порывался вперед и, сверкая непримиримыми глазами, едва не протыкал своего многолетнего недруга худым неистовым пальцем.
– Ты почему это лаешься бесперечь? – выходил он из себя. – Ты почему такие слова? Пес ты после этого, вот ты кто! Пес! – и пальцем, пальцем в него, будто обвинения прикалывал.
Скороходов, старик в теле и ровного здоровья, лежал у огня врастяжку и мусолил во рту пресную травинку.
– А это мое ружье, – отвечал он как бы с неохотой. – И я кому хошь скажу.
– Вот гад! – задохнулся от ярости Милованов, заозирался, как бы в поисках подмоги, и тут увидел стоявшую рядом Марью.
Светлые ястребиные глаза старика остановились на ней, как на досадной помехе. В провалах его щек лежали черные недобрые тени.
– Ну? – спросил он с рыву. – Чего тебе?.. А свадьба?
– Какая свадьба, дядь Вань? Господь с тобой, – нисколько не обиделась Марья, привыкшая к вечным насмешкам.
– Ну… или ангела день? Девка дома сказала, что к тебе идет. Праздновать.
– A-а, – сообразила Марья. – Так это не у меня. Это у Насти, у соседки моей.
– Черт вас разберет! – выругался Милованов, отворачиваясь.
Скороходов перестал жевать и, не меняя вольной позы, скосил на нее равнодушные глаза:
– А вырядилась-то чего?
– Так… как же? Тоже хотела пойти.
И о ней забыли.
– Дядь Вань, а дядь Вань, – попросила она, – я возьму постелить?
Милованов с раздражением повернул к ней сухую свою птичью головку, глянул на кучу тряпья, взятого в ночное, хотел выбрать, что поплоше, но пожалел и времени, и неостывшего запала в душе.
– А! – махнул он рукой. – Бери!
Но она помешала ему еще раз, вспомнив, как хорошо начался сегодняшний вечер с гостями.
– В мире-то что делается, – стала она рассказывать, расстилая на земле старый овчинный полушубок. – Один профессор, говорят, взял да и пришил собаке вторую голову.
Милованов раздосадовано осекся.
– Ну? – выжидающе насупился он, наставляя большое стариковское ухо.
Заинтересовался и Скороходов, выпростав из-под усов изжеванную травинку.
– И пришил, говорят, и жить стала, голова-то, – охотно рассказывала Марья и, пока говорила, положила в сторонку туфли, разобрала и аккуратно расстелила под собой юбку, чтобы не помять нарядных складок.
– Ну? – еще злей, еще нетерпеливей поторопил ее Милованов, раздражаясь все больше.
– А что – ну? Загрызли, говорят, одна другую. Нешто могут две собаки вместе?
– А, болтаешь тут! – яростно озлобился Милованов и глазами, казалось, убил бы ее.
– Так ведь люди говорят, дядь Вань!..
– Ляжь! – рявкнул старик и на весь вечер отгородился от нее узкой колючей спиной.
– Ох, господи! – вздохнула без всякой обиды Марья и затихла, пригрелась на ласковой мягкой овчине.
Задремывая и не переставая ощущать сквозь уставшие веки присутствие неутомимого уютного огонька, Марья плохо понимала, о чем там грызутся старики, без конца припоминая все, что не забылось и не забывалось. Ей хотелось подняться утром рано, раньше всех, и первой прибежать на ферму. Она не думала, что бабы не выручили бы ее, загуляй она сегодня и опоздай завтра к утренней дойке. Выручили бы – не ее, так коров пожалеют… Ну, а она завтра еще лучше сделает, всех удивит: бабы-то замужние прибегут как угорелые, а у нее уж нате вам – все готово. И своих и ихних – всех подоит. «Ну Марья, – скажут, – маменька родимая, вся в нее. Той тоже покою не было…»
– Нет, ты скажи, – неожиданно проник до нее настойчивый голос Скороходова, – ты скажи лучше, кто меня тогда разграбил?
– Не разграбил, а раскулачил. В мильённый раз тебе говорю!
– Ну ладно, раскулачил. Кто?
– Ну, я…
– Ты и твоя власть! – уточнил Скороходов, тоже, когда нужно, умевший быть ядовитым.
– А пенсию, пенсию кто тебе, дураку, дал? – взвился Милованов. – Кто?
– Согласный, – тоже власть.
– Так почему ты, враг, той же власти подсобить не хочешь? Тебя ж как человека просили!
– А вот так и не хочу, – спокойно отвечал Скороходов и, судя по голосу, опять заправил под усы травинку. – Я несознательный теперь.
– Брось к чертовой матери изо рта, когда со мной разговариваешь! – завизжал Милованов и даже, кажется, кулачком застучал.
Боясь, как бы не вышло великого лаю, Марья уперлась руками и приподнялась, но увидела, что старик Милованов уже не сидит, подскакивая на коленках, а лежит, лежит неловко на боку, маленькой своей седой головкой на земле, скребет ногтями грудь и жутко зевает побелевшим ртом. Как ветром сдунуло тут рассудительного Скороходова! «Подержи его!» – крикнул он Марье, сунулся на коленях к куче тряпья, порылся, достал откуда-то пузырек и, плеснув из чайника в кружку, стал важно, насупленно капать.
Голова старика перекатывалась на Марьиных коленях, твердая и тяжелая, как сорванная тыква. Марья со страхом чувствовала, что голова совсем не держится на стариковской шее, и ей хотелось крикнуть Скороходову, чтобы он быстрее считал и капал.
– Вот! – сказал он наконец и краем кружки, как покойнику, раздвинул Милованову помертвевшие губы.
Больной задвигал горлом, почувствовалось, что оживает, напрягается у него шея. Неловко придерживая его, чтоб ловчее было пить, Марья по запаху от стариковской неряшливой головы поняла, что не знает бывший батрак заботливого домашнего ухода. У Степаниды, у той одни гулянки на уме, а старуха… Что ж, при такой дочери и у старухи ни до чего руки не доходят.
– Пей, пей, нечего! – негромко строжился Скороходов, круче наклоняя кружку. Но Милованов отвалился и, не раскрывая глаз, слабым движением отвел кружку от губ.
– И чего, скажи, кажилишься без надобности? – ворчливо выговаривал Скороходов, заглядывая, много ли осталось в кружке. – Раз твоя власть, так ты должен быть как генерал. А то лопнет у тебя когда-нибудь нутро, так грязью и потекет. Ну, полегшало? – он допил из кружки.
– Так ведь сил нету совладать с тобой! – измученным голосом пожаловался Милованов.
– А ты и не совладай! Зачем это тебе?
– Фу-у!.. – помолчав, с облегчением вздохнул старик и медленно посмотрел, кто это над ним, у кого он на коленях.
– Лежи, лежи, – сказал Скороходов, убирая пузырек. – Я сейчас настелю тебе.
И вот что было интересно, и об этом знали все в деревне: как бы ни ругались старики, сколь ни попрекали друг друга, однако еще не было случая, чтобы Скороходов уязвил своего противника бесстыжей непутевой дочерью. О Степаниде он не поминал ни при какой обиде, – слишком больным было это место в душе несчастного отца.
После припадков, и это тоже было всем известно, старики затихали и жили мирно день или два. В эти дни Милованов отходил сердцем и жаловался своему другу ли, врагу ли на Степаниду. Скороходов был единственным человеком, перед которым открывался убитый позором старик, и Скороходов терпеливо выслушивал, сочувствовал и всякий раз давал дельные, продуманные советы.
Под журчанье мирного стариковского разговора Марья все ловчилась устроиться получше на стареньком коротком полушубке, сумела, кажется, пригрелась и, задремывая, стала думать о том, что и у них, у нынешних нестарых, не за горами закатное время. Она уже сейчас хорошо представляла, какие из них получатся старухи. Ну, о Нюрке конторской говорить пока рано, а вот Настенька, как и сама Марья, выйдет сухотелой и беспокойной, работницей до самой гробовой доски. Так и умрет где-нибудь за делом. Хуже и труднее всех придется Степаниде. Рыхлая и пустомясая, она станет в тягость и себе и родственникам и доживать будет в вечных жалобах на болезни и болячки, которых не выгонишь ни березовым веником на банном полке, ни сушеной, заваренной на ночь малиной, – первеющие средства от всего! И запах от нее пойдет совсем даже не отцовский, – хуже. Ведь старики, разобраться если, извечно пахнут по-крестьянски: конями… сеном… дегтем…
Ночью Марья часто просыпалась, – мерзли голые ноги. Она поджимала колени и зябко заворачивалась вся, с головой и ногами, однако пропекало снова, она с холодным измученным лицом приподнималась, чтобы нашарить что-нибудь на ноги, и, пока возилась, успевала заметить затухающий костер, стариков, уснувших близко один возле другого, слышала лошадиный храп и звяк небрежных пут. А ближе к утру, когда совсем захолодала ночь и луга обдались тяжелой, обильной росой, когда низко над деревней взошла багровая краюшка позднего месяца, обозначив колодезные журавли и крыши, Марья различила и самих коней, – в сером медленном рассвете они собрались вокруг, будто пришли стоять и караулить своих сторожей.
Боясь лишиться сладкого неверного забытья, она не разжимала больше глаз и быстро шарила, шарила вокруг, пока не сунулась рукой в остывающую круговину мягкой теплой золы. Счастливая догадка осенила ее зажмуренное лицо, она подвинулась, пристроилась иззябшими ногами и – сон не сон ли ей почудился внезапно, но она запомнила тот миг надолго, потому что кто-то нежный и заботливый склонился вдруг над ней по-матерински, согрел, склонившись, и растаял зыбко – словно проплыл, провеял поверху крылами большой и грустный ангел.
Сон на этот раз сморил ее надолго, – давно она не просыпалась так поздно. «Ладно это я!» – удивилась Марья, вскакивая на ноги. К утренней дойке она, конечно, опоздала.
Она стала собираться, поискала и нашла туфли и только теперь поняла, отчего это она так разоспалась: Скороходов, поднявшись первым, сожалел ее и укрыл своей телогрейкой. От тепла и сон свалился такой дурной, – обо всем забыла. «Это надо же! – попрекала себя Марья. – Ну, не выручат если бабы – быть скандалу!» Но даже если и подоили они за нее, все равно пересудов теперь на полгода: о дне-то вчерашнем все уже знают…
Милованов спал один, свернувшись как мальчишка, с закутанной головой. От ручья наползал туман, и в тумане раздавались отдаленные петушиные вскрики, звон ботала на телячьей шее и голос Скороходова, густой и добрый, окликавший где-то рядом лошадей.
Ручей дымился, и Марья, медленно войдя в воду, почувствовала скользкие теплые камушки. Занемевшие от росы ноги млели, как в парном молоке. Склонившись, Марья с недоверием увидела в темной разбуженной воде собственные ноги. От границы света и воды и вниз они были словно чужие: толстые, уродливо раздутые – почти как у Степаниды.
Чье-то несмелое торопливое прикосновение к пальцам заставило ее подобрать юбку и наклониться к самой воде. Внизу, взблескивая серебристо, бойко сновала вокруг ног стайка мальков. Прикосновения мальков были приятны, и Марья подумала, что так или примерно так, должно быть, теребит мать нетерпеливый изголодавшийся ребенок.
Туман вокруг теплел и становился оранжевым, но солнце еще не пробилось. Запрокинув лицо, Марья стояла и наслаждалась шаловливой щекоткой мальков. Но вот совсем близко, у кромки ручья, громко и низко замычал теленок, забрякал колокольцем, и Марья спохватилась, быстро пошла из воды. «Ах, бить-ругать меня надо, гулену! Заработала я сегодня „медаль“».
Домой она почти бежала, торопилась миновать улицу. Ей было неловко, что никому не объяснишь, откуда вдруг она в такое время и в нарядах.
В избе разведенки Настеньки закатывался больной, надсадившийся от плача ребенок.
– Да цыть ты, чертово дите! – ругалась злая, измученная Настенька и принималась ожесточенно укачивать: – А-а-а!.. А-а-а! Цыть! Я кому сказала?
В конце улицы, выгоняя стадо, Монька-пастух оглушительно хлопал кнутом.
1966 г.