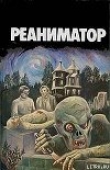Текст книги "Короткий миг удачи (Повести, рассказы)"
Автор книги: Николай Кузьмин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Где тебя носит? – накинулась она на предупредительно распахнувшего дверцу шофера.
– Танечка, золотце, – изумился он, – да я тебя уж сколько жду! На всю железку жал, думал…
– Ну ладно, жал он! – И Танька, захлопнув за собой дверцу, независимо вздернула голову и даже не посмотрела на удивленных Серьгу и художника.
Трехтонка ушла, тронул лошадь и Серьга.
– Ну, язва, – сказал он. – И в кого только такая? Видали, как она?
– Да видал, – вздохнул Константин Павлович.
– А председателя не слыхали, как она осрамила?
– Рассказывал Борис Евсеевич.
– Рассказывал! Тут видеть надо было, слышать! Народу полон зал, а она его, а она его!.. Ну, девка!
– А может, было за что? – заметил до смерти уставший художник.
– Было… Может быть, и было. Да разве кого из нас не за что драть? Все не святые. А только не надо бы забывать, мил человек, что до Корнея-то Иваныча было! Бывало, выйдешь на базар, а там одни семечки да милиционеры. А сейчас – не сравнить. Сейчас жизнь стала хоть куда. Мыслимо ли дело – о нас в газетах стали писать! О нас! Когда это было?.. Оно конечно, – помолчав, продолжал Серьга, – Корней Иваныч скуповатый мужик, это у него есть. Но ведь и транжирить-то ему никто не давал права. Ведь общество-то, оно его избрало, оно с него и ответ спросит. А дай он трактор такой вот, как Танька. Ну, поработает она день, поработает другой. А потом возьми да и надоешь ей все, возьмет она да и сломает трактор. С кого за это голову будут снимать? С нее? Как бы не так. С нее взятки гладки.
– Но ведь она же водит трактор, – возразил Константин Павлович. – Сама научилась. Значит, стремится…
– Стремиться-то она стремится, – согласился Серьга. – Этого у нее не отнимешь. И вообще головастая девчонка, – чего зря говорить. Только вот… только вот мужиком бы ей лучше родиться! Что такое девка? Баба, она баба и есть. Жалко мне ее, пропадет она в своем женском звании!
8
Борис Евсеевич вежливо пропустил художника в комнатку и вошел сам.
– Тут вы совершенно правы, – говорил он. – Мало, обидно мало работали у нас с молодежью. Судите сами – почему молодняк бежал из родных деревень и сел? Да потому, что он не только не любил этой проклятой отцовской работы хлебороба, а и боялся ее. А раз так, он и земли-то знать не хотел и никогда не любил ее. Впрочем, сейчас вроде молодежь стала оседать на отцовской земле. Демобилизованных стало много приезжать, школьники остаются. Но работы, настоящей работы, чтоб привить вот эдаким еще пацанам и девчонкам любовь к земле, – такой работы ведется недостаточно.
Борис Евсеевич занимал половину небольшого домика, крытого почерневшими трухлявыми горбылями. В небольшой оградке, в углу, Константин Павлович разглядел поставленную на столбы бочку с отгороженной кабинкой для купанья. Этой своеобразной душевой установкой Борис Евсеевич и прельстил уставшего после поездки в поле художника. Константин Павлович даже размяк, представив себе, как прохладные упругие струи воды бьют в горящие плечи.
Пока он купался, Борис Евсеевич сидел поодаль на бревнышке и громко рассказывал:
– Представьте себе, что всю эту механику мне ребята сами устроили. И бочку взгромоздили. Мое дело только воду таскать.
– Отличная механика, – хвалил блаженствующий в кабине Константин Павлович. Он стоял под щедрым освежающим дождем, закрыв глаза и подняв обожженное солнцем лицо.
Борис Евсеевич с улыбкой прислушивался к плеску воды.
– Ребята у меня молодцы, – говорил он. – Все сами. Это был у нас тут один въедливый старикашка, даже членом родительского комитета состоял. Так он прямо из себя выходил: «Все-то вы, говорит, превзошли в своей школе, а вот заставь вас пилу развести – и не сможете». Что же, крыть нам нечем. Стали мы тогда ребят понемногу приучать. Это потом уж постановление вышло об уроках труда. Ну, а сейчас у нас почти каждый ученик умеет не только трактор или машину водить, а даже маломальский ремонтишко произвести.
– Значит, вам и нужно воевать с вашим Корней Иванычем, – снова ввернул Константин Павлович. – Вы же сами понимаете, что он ребят по рукам бьет.
– Не-ет, – мягко возразил учитель. – Он все это прекрасно сам понимает… А вы что так скоро? – вдруг спросил он, не слыша плеска воды.
– Достаточно, – благодушно пробасил из кабинки Константин Павлович. – Большое спасибо.
– Может быть, воды не хватило?
– Что вы, что вы!
Снимая заботливо перекинутое через стенку чистое полотенце, Константин Павлович обратил внимание, как покраснели и болят от малейшего прикосновения руки. «Не заметил-таки, сжег».
– Видите ли, – снова заговорил Борис Евсеевич, дождавшись, когда гость оденется, – Корней Иванович очень своеобразный человек. Я скажу даже больше – он талантливый человек. Это мое искреннее убеждение. Но талантлив по-своему, как вообще талантлив почти каждый из наших людей. Я вот никак не перестаю удивляться – сколько все-таки зарыто хорошего в людях! А особенно в ребятне. Поистине счастлив народ, который имеет таких ребятишек!
Константин Павлович испытующе взглянул в худое умное лицо учителя, подумал и спросил:
– Скажите, я слыхал, что вы пишете. Вы об этом, видимо, и пишете?
– Да, – несколько помедлив, ответил смутившийся учитель. – Но это только желание написать. А вы сами понимаете, что между желанием и сущим… Однако я работаю. Сижу как проклятый. И я бы хотел, если только вас не затруднит, показать вам несколько страничек.
– Пожалуйста, пожалуйста! – горячо откликнулся Константин Павлович. – Я с удовольствием…
– Ну, положим, удовольствие не бог весть какое читать чужие опусы.
– Да перестаньте! Честное слово, мне очень интересно.
Вытирая полотенцем волосы, Константин Павлович следом за хозяином вошел в дом, в низенькую прохладную от закрытых ставен комнату. Борис Евсеевич распахнул окно, придвинул ближе к свету стул.
– Вот, – сказал он, выбирая из толстой кипы на столе несколько страниц, – хотя бы вот эти. Они мне что-то очень туго давались.
Константин Павлович взял, отбросил с глаз мокрые спутанные волосы.
– Угу, – пробормотал он, принимаясь читать. Почерк у учителя был крупный, ученический, очень четкий и разборчивый. Пытаясь сосредоточиться, Константин Павлович несколько раз повторил первую фразу, потом почему-то скользнул взглядом в конец страницы, ничего не понял и, принимаясь перечитывать внимательно, с настроением, неожиданно увлекся. Не глядя куда, он откладывал прочитанные страницы и незаметно для себя что-то бормотал, вскидывал брови, одобрительно фыркал. Его, как художника, увлекла плотная, упругая ткань произведения, скупая и ясная манера письма. Он поймал себя на первом же пришедшем на ум сравнении: то, что он читал, казалось неожиданно зазвучавшей струной на очень чистой протяжной ноте.
Он дочитал коротенькую главку, но откладывать не торопился. Думая о прочитанном, он машинально повторил заключительную фразу, на которой замерла звучавшая нота, помолчал и сказал:
– А что? Очень хорошо.
Потом он отложил последние странички, встал и взволнованно прошелся.
– Послушайте, – заговорил он, останавливаясь у стола, за которым, опустив узкое некрасивое лицо, сидел Борис Евсеевич, – почему бы вам не послать это куда-нибудь? В журнал, скажем, в редакцию…
Польщенный учитель бережно складывал разбросанные страницы.
– Как вам сказать? Рано, мне кажется, еще. Вот годика два еще посижу, тогда может быть… Не люблю, знаете ли, поспешность. А литература, по-моему, это такое святое дело…
– Да разве только литература! – воскликнул увлеченный Константин Павлович.
– И другое, конечно. Но я говорю о том, что всего ближе мне.
Константин Павлович, чувствуя на сердце непонятно возникшую легкую радость, с любовью посмотрел, как худые нервные пальцы учителя бесцельно перекладывают вещи на столе, и неожиданно сказал:
– А хорошо. Честное слово, хорошо! Мне, например, очень понравилось. Просто я рад, черт возьми, за вас!
И он разговорился, и, совсем не ожидая того, рассказал этому почти совершенно незнакомому человеку все, что мучило его последнее время, что заставило его уехать из Москвы. Он говорил и смотрел в спокойные, утомленные глаза под сильным некрасивым лбом, говорил и радовался той свободе, с какой лилось из его души признание, – давно уж он не говорил так хорошо и полезно.
– И вот приехал я, а вот тут у меня, – постучал он по груди, – вот тут что-то все еще неспокойно. Боюсь. Боюсь, что опоздал я уже, отстал. Отстал, как от поезда. Ушел он, и не догонишь.
– Во всяком случае, – осторожно сказал Борис Евсеевич, – хорошо уже то, что вы задумались.
– Но молодость-то, молодость! Разве ее вернешь?
– Зато у вас есть опыт. Ведь эти годы, я думаю, не прошли для вас зря?
– На это только и надежда, – вздохнул, успокаиваясь, Константин Павлович. И, успокоившись окончательно, он спросил: – А у вас, если не секрет, вся вещь будет о чем? Как я догадался, вы пишете о своих же людях?
– Конечно. Если говорить сугубо профессионально, то сюжет у меня совершенно простой. Но у меня забота не об этом. Видите ли, меня всегда возмущало, что раскается какой-либо преступник – и об этом начинают трубить все газеты. А простой, незаметный человек, каких у нас миллионы, работает всю жизнь, работает честно, хорошо, но работает так, что в герои не вылезает. И вот о таком за всю жизнь никто доброго слова не напишет. А ведь он всю жизнь отдал труду! Работал как лошадь…
Борис Евсеевич встал и, как в классе, принялся ходить.
– Вот возьмите вы того же Корнея Ивановича. Простой мужик. Устанавливал Советскую власть. Из-под расстрела бежал, учтите. Потом колхозы, потом война. На войну уходил, дома оставил всего полмешка свеклы. А детишек – полон угол. И вот я так спрашиваю, вернее, спросил бы, будь я какой-нибудь иностранный корреспондент: «А что вы защищали-то, мистер Корней Иваныч, на фронте? Эти полмешка?» А ведь человек двух сыновей там оставил, самого покалечили, – видали, на деревяшке ходит. И вот еще что, – спросите-ка его самого, что он защищал, – не скажет толком. А ведь защищал! И если надо было бы, он и на смерть пошел бы! Пошел! Без всяких!.. Так вот я и хочу написать о таких вот людях, как Корней Иванович. Ведь на их плечах Россия держалась и держится. Не на героях, а на них, простых, но незаметных. Я не знаю, как одним словом назвать это чувство, – может быть, это и есть то, что мы называем патриотизмом, но оно сидит в наших людях в самой крови и помогает нам во всех суровых испытаниях. Во всех!.. Простите, вам не скучно?
– Что вы, что вы! – запротестовал Константин Павлович. – Продолжайте, пожалуйста.
– А может быть, это какое-то в глубине сердца сидящее чувство Родины? Может быть… Мне, например, не нравится, когда слово Родина орут во все горло. О ней не кричат, нет. У наших людей Родина в душе. Вот стог, например, это Родина. Полянка в лесу – тоже Родина. Или осинка над отцовской могилой… Понимаете? И вот где-то в подоплеке, что ли, моей книги мне хочется ясно показать, что, не будь этого подчас необъяснимого чувства в душах миллионов наших Корней Иванычей, на всей земле сейчас слышался бы тупой стук фашистских солдатских сапог. Земля стала бы мертвой, и пыльный ветер листал бы вырванные страницы из любимых нами книг. Я это так иногда ясно себе представляю, что мне становится страшно…
И вот ради этого, – после долгого молчания произнес Борис Евсеевич, – мне кажется, стоит жить и работать.
– Да, только ради этого, – тихо откликнулся Константин Павлович, заглядевшись в открытое окно на жаркие краски заката.
– Огромный труд, и только бы хватило сил…
– Проводите меня, – попросил Константин Павлович.
Дома, в ограде, он долго стоял и смотрел на распускающуюся яблоню. Рясный цвет уже пышно осыпал все дерево, и оно стояло вызывающе нарядное среди поблекшей зелени огорода. «Вот расцвело же, – думал Константин Павлович, – что хоть и с опозданием? Видимо, природа все же берет свое».
Ему стало легче, – так тепло и мягко на душе, что он с близко подступившими слезами вспомнил чудесные строки любимого поэта: «И может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной», – и ему захотелось работать, захотелось сильно, с диким нетерпением. Он боялся, что у него с годами атрофировался вкус к цвету, и хотел начать писать широко и вольно, чтобы было много света, воздуха, воды, он ощущал в груди подмывающий зуд вдохновения, и ему не терпелось почувствовать знакомое упругое прикосновение кисти к холсту.
9
И он засел за работу, ушел с головой, и знал, что теперь такое состояние у него надолго.
Принимаясь работать, он решил писать так, как лежит на душе, – свободно, без каких-либо условностей, ничего не придумывая, не притягивая за уши. Этим, ему казалось, он избавится от той тяжести, которая сковывала его все годы и не давала ощущения полноты и счастья.
Загрунтованный холст у него был припасен заранее, Константин Павлович вынес его во двор и устроился работать на давно облюбованном месте – в тени, под цветущей яблоней. Он решил писать на воздухе. Он знал, что на воздухе краски ощущаются – совсем иначе, и уже прошел через жестокое разочарование, когда все, что в мастерской казалось красочным и тонким, на воздухе жухло и исчезало самым непонятным образом. У него это было уже за плечами. В свое время он отдал этому немало времени и сил и добился, что именно восприятие красок на воздухе стало одной из самых сильных сторон его всеми признанного мастерства. И сейчас, настраиваясь на будущую картину, Константин Павлович решил блеснуть самым трудным, самым непостижимым.
Писать он, конечно, будет маслом – старым добрым маслом. Это все от бесталанности, думалось ему, когда хулят веками испытанное масло, говорят, что оно устарело, и кидаются в сомнительные новшества. Он теперь не жалел и самого себя, признавая, что от незнания жизни кидался он в поиски, что все его метания, за которые порой даже хвалили, были не чем иным, как самой настоящей отчаянностью от сознания своего бессилия. Жизнь проходила, запаса наблюдений не было, а работать было нужно, хотелось успехов, славы, и вот тогда-то и оставалось одно: перебиться на технике, сыграть на новизне и необычности, прикрыть внутреннюю пустоту изощренностью формы; если даже порой это удавалось, то все равно со временем кануло в вечность, умерло, как однодневка, – словом, на поверку не оставалось ничего, один пшик.
Обо всем этом думалось теперь удивительно легко, потому что Константин Павлович чувствовал невиданный прилив сил, голова горела и на сердце было неспокойно. Это было давно забытое, но очень знакомое состояние, и он даже подумал, что уж не молодость ли, случаем, возвращается, и с некоторым самолюбием решил – пусть говорят, что молодость вернуть нельзя, а она все-таки может вернуться, если только очень сильно захотеть! Вот он захотел и, можно сказать, добился. Он плюнул на все, на все свои привязанности и, несмотря на возраст, потащился в самое золотое для отдыха и лечения время куда-то в немыслимую даль, на землю отцов, которая давно уже стала для него чужой и забытой. А он все же поехал, и, как оказалось, сделал правильно. Да, сильному желанию подчинится все, даже старость!
В пышной кроне распустившейся яблони дружно, совсем по-весеннему, гудели пчелы. Несколько крохотных белых лепестков слетело сверху и опустилось на холст.
Константин Павлович работал упоенно, подмываемый предчувствием несомненной удачи: так послушно оживал под его кистью холст, так теплы и выразительны были краски, так точно и к месту ложились мазки. Так смело, широко и легко он уже не писал давным-давно и даже стал опасаться, как бы не увлечься. В его возрасте нужно мудрое спокойствие, строгий отбор и кристальная ясность разума, чтобы в слепом азарте не поскакать по проторенной дорожке. Ему уже нельзя ни повторяться, ни топтаться на достигнутом, – не для этого он уезжал из Москвы.
Константин Павлович работал целый день и остался доволен. Только так, думал он, имеет право жить художник. Природа, непосредственное восприятие жизни и – работа. Черт возьми, как жалко, что так много в жизни потеряно! Сколько времени растратил он по пустякам! Сейчас стыдно вспомнить, но тех сил и времени, что он убил, скажем, на постройку дачи или на обстановку квартиры, хватило бы, пожалуй, не на одну картину. А все эти бесконечные заседания и совещания, все то, чему он радовался и что ценил как проявление почета и уважения. Жалко, очень жалко, что всего уж не вернуть!
После целого дня работы Константин Павлович устал, но усталость была приятна ему, и, откладывая краски, он полюбовался тем, что сделано. Инвалид, очень похожий на Серьгу, когда тот купался на речке возле станции, стоял на берегу (каком берегу, Константин Павлович еще не решил, но в мыслях рисовалось что-то просторное, чтоб больше было воздуха и солнца, больше неба)… инвалид стоял и удивительно легким движением прикрывал от солнечного блеска глаза ладонью единственной руки. Константин Павлович был очень доволен, что ему удался этот простой и неискусственный жест – рукой от солнца. Человек стоял как живой. Безмятежный такой и очень человеческий получился жест! Конечно, нужно будет еще продумать композицию, понадобятся детали и фигуры, понадобятся дни огромного напряжения, чтобы наполнить картину задуманной тонкой игрой света и воздуха, но Константину Павловичу было приятно сознание предстоящих трудностей, потому что он чувствовал в себе силы сделать все так, как ему представлялось.
Да, правильно он поступил, что уехал в родные места. И ведь что интересно – как-то неожиданно возникло у него это решение, словно в самой его крови вдруг заговорила скрытая и неодолимая власть отцовской земли. Нет, эти недели и месяцы в деревне не пройдут для него зря. Он напишет картину – и хорошую, сильную картину! – приедет в Москву с радостным чувством победителя. Приедет он в самое сезонное время – зима, ранние огни в огромных витринах, морозный снег. И – выставки, концерты. Хорошо!
Усталый и довольный, Константин Павлович постоял у начатого холста, смахнул несколько крохотных лепестков и, вытирая руки, медленно пошел к калитке, где, как ему показалось, остановилась машина. Он подумал, что хорошо, если бы сейчас вдруг пришел Борис Евсеевич. Можно было бы душевно поговорить об искусстве, о том, что искусство – это не только талант, но и труд, каторжный труд, самоотречение и сосредоточенность. Именно после сегодняшнего дня Константин Павлович готов был говорить об этом с охотой и усталым азартом.
На дороге против дома, точно, стоял грузовик – знакомая трехтонка. Но Бориса Евсеевича не было. Когда Константин Павлович подошел к калитке, то увидел Таньку, растрепанную, стремительно выскочившую из кабины. Шофер в тельняшке и в лихой кепочке сунулся было следом за ней: «Танечка, да ты чего?» – но она не дала ему и на землю студить, а задержав на подножке, вдруг со всего размаху влепила пощечину, потом еще и еще, и била бы все злее и злее, если бы шофер не попятился и не закрылся в кабинке. Танька рванула дверцу, но машина тронулась и, подымая пыль, бесшабашно понеслась по улице, скрылась…
Танька все еще стояла у дороги и, сжав кулачки, никак не могла унять возбуждение. Константин Павлович с удивлением смотрел на ее пепельно-смуглое злое лицо.
– Танюша, – решился наконец окликнуть, – боже мой, что с вами?
Она вздрогнула, бросила на него мрачнейший взгляд сощуренных глаз.
– Сволочь! – проговорила она, оглядываясь туда, где скрылась машина. – Ишь… Думает, если я… так… Теперь будет знать!
После так хорошо проведенного дня Константину Павловичу весь случай с Танькой казался очень занятным.
– Да перестаньте, Танюша, – ласково уговаривал он девушку. – Зайдемте лучше ко мне, я хочу показать вам одну вещицу. Идемте, идемте, не бойтесь. Что за глупости!
Он был добр сегодня, и мысль поразить и осчастливить Таньку возникла у него только что. Она потупилась, неуловимо быстро и привычно начертила пальцем ноги какой-то вензель на пыли и согласилась. Проходя через дворик, она увидела под яблоней начатый холст и задержалась, но он потащил ее, не давая остановиться.
– Идемте, идемте. Это после.
В доме было не прибрано, – сестра рано утром ушла на работу. Константин Павлович, уверенно хозяйничая, усадил девушку, извинился за беспорядок. Танька сидела тихо, настороженно. Он достал из ящика акварельный рисунок Вишенки, посмотрел еще раз сам и с загадочной и торжествующей улыбкой протянул Таньке.
– Возьмите, возьмите.
Она взяла недоверчиво. Сначала она нахмурилась, как бы приглядываясь и пытаясь разобрать, что нарисовано, – но это было очень недолго. Внезапно лицо ее смягчилось, дрогнули и опустились ресницы.
– Ой… мама! – прошептала она и, зажмурив глаза, прижала портретик к груди.
– Это вам, Танюша, – сказал Константин Павлович.
– Спасибо. – Влажными сияющими глазами она посмотрела на портретик, опять прижала его и поднялась. – Извините, я пойду. – И ушла, бережно унося подарок.
На художника она так и не взглянула. Константин Павлович кашлянул, потер горло, – он был растроган.
Выйдя из дома, он долго бесцельно стоял на пороге. Стоял, посматривал в вечереющее небо, покачивался. Потом нехотя подошел к картине и со стороны, как на чужую, смотрел, не вынимая из карманов рук. «М-да, над композицией надо думать. Думать». Взял карандаш и попробовал обозначить, где что расположится. Тут вот берег, тут речной плес. За рекой поле, огромное пространство, где плавится, перекипает знойный день. «Может, облако? Да нет, все не то. Тесно, очень сужено. И вообще…» Но он вовремя удержал себя, подумав, что недовольство его, видимо, от усталости. Не нужно горячиться, решение, такое, как нужно, придет со временем.
Он подошел к калитке и загляделся на улицу. Солнце уже село, гасла заря. В деревне было пусто. Константин Павлович так и простоял бы один до звезд, до темноты, но, к счастью, увидел проходившего неподалеку Бориса Евсеевича и окликнул; обрадовался, затянул в гости.
10
В тот вечер Борис Евсеевич засиделся допоздна, – за разговорами не заметили, как и время ушло. Прощаясь, учитель сказал, что на днях они старой, уже сколотившейся компанией собираются на рыбалку, на всю ночь. Не хочет ли Константин Павлович?
– Да конечно же, товарищи! – обрадовался Константин Павлович. – С удовольствием!
– Тогда готовьтесь. Одежонку подберите, подстелить что-нибудь… Да вам тетка Дарья все сама устроит. Дело ей знакомое.
Сестра и в самом деле проявила в сборах на рыбалку удивительную осведомленность. К тому времени, когда за ним заехали Борис Евсеевич, Серьга и Корней Иванович, в сенцах были припасены сбитые кирзовые сапоги; старые, заскорузлые, из какой-то с трудом гнущейся материи штаны и пиджак, тоже, видимо, не раз побывавший под проливным дождем. Константин Павлович тут же, в сенцах, при лампе, быстро переоделся. Необычный костюм сидел на нем коробом, но он прибил, осадил его, где надо, руками, и ему было приятно убедиться, что теперь он ничем не отличается от остальных.
Непривычно шагая и все оглядывая себя, он вышел к ожидавшей подводе. Было темно, только на западе в разрывах облаков чуть рдела заря. Разглядеть, кто сидит в телеге, было невозможно, но два огонька самокруток светились явственно, – это ждали Серьга и Корней Иванович. Лошаденка в ожидании осела на заднюю ногу и задремала.
Рассаживались шумно и бестолково, – Константин Павлович переменил, однако, места четыре. Наконец уселись. У Корнея Ивановича сквозь прутья грядушки торчала деревяшка.
– Смотри, за столб бы нам не зацепиться, – произнес Серьга, видимо, каждый раз повторявшуюся шутку, разбирая вожжи.
– Трогай, балабон, – густым голосом сказал Корней Иванович.
Серьга погонял не шибко, и ехать было покойно. Медленно догорала заря, но еще долго светлело в закатной стороне, и когда подвода выехала к реке, то Константин Павлович, покачиваясь в телеге, смотрел и не мог насмотреться, как блестели вдали перекаты и повороты реки. Низко над головой пролетали какие-то запоздалые птахи, лошадь шла шагом, трава была высока и хлестала по ногам. Положив руки на грядушку, Константин Павлович смотрел на реку, слушал, как глухо и тупо постукивают ступицы колес, и с удовольствием вдыхал мужицкий запах упряжи, дегтя и ночной сырости. «Вот, – думал он, – поселиться здесь хотя бы на год, на два. Ей-богу, можно написать такую вещь, что ахнут! Ведь как многого мы там не замечаем, не знаем, а если и знали что когда-то, то как быстро все забывается. Нет, не надо, не надо забывать, не надо отставать!»
Телега остановилась, и Константин Павлович, задумавшись, размечтавшись, с удивлением оглянулся, – оказывается, приехали. Корней Иванович с палочкой в руке бодро поковылял выбирать место, учитель в обе руки забирал из телеги какие-то сумки и припасы, Серьга распряг и увел пустить в луга лошадь. Обратно он пришел не скоро, но принес целую охапку сухих сучьев – для костра.
Когда померкли перекаты и на берегу темной уснувшей реки заплясал огонек костра, Корней Иванович, грузный, тяжелый, с трудом вытянул по земле ногу и тягуче, взахлеб зевнул:
– Ох-хо-хо… Вот уж поистине охота пуще неволи. В Москве, поди-ка, сейчас у телевизоров люди, а мы тут на комара приперлися. Как думаешь, Константин Палыч?
– Конечно, еще не поздно, – откликнулся Константин Павлович. – Передача идет…
– Ну, да вот дождемся и мы, – закряхтел Корней Иванович, подбрасывая в костер прутик, другой. – Как только в области построят телевизор, – а строят там с зимы, это я точно знаю, сам ездил смотреть, – как только там построят, тут мы и к себе его наладим. Тогда все, Борис Евсеич, прощайся с рыбалкой! У телевизора плесневеть будешь.
– Почему? – сказал Борис Евсеевич. – Раз в неделю всегда выбраться можно.
– Сказал! Эдакие деньги угробим, а ты на рыбалку бегать будешь? Нет уж, смотреть придется.
– Не жалко денег-то? – спросил Константин Павлович.
– А чего их жалеть? Для наших людей, дорогой Константин Палыч, будь у меня золото, мне бы и золота не жалко. Ведь как вспомнишь-то сейчас – чего только им вынести пришлось! Боже ж ты мой!
– А трактор-то все-таки забрали у ребят, – усмехнулся Константин Павлович, пощупав под собой холодную землю и подворачивая полу пиджака.
– Дался вам этот трактор! – недовольно произнес Корней Иванович и потянулся к огню, чтобы выбрать уголек для прикурки. Толстое лицо его сморщилось от жара, глаза совсем утонули в щелках. Он прикурил, бросил уголек обратно в костер. – Отдам я им этот трактор, отдам. Дайте только уборку закончить. Урожай-то видели нынче какой? То-то. Его до зернышка надо убрать. А ну завтра дождь, тогда что? Соображать все-таки надо.
– А дождь будет, – поспешил вмешаться Борис Евсеевич. – Я радио слушал. Обещали по нашему району.
– Ну вот, видите, – уже более мирно сказал Корней Иванович. – Радио… Тут и без радио ясно, что будет, – и он пощупал больную ногу. – Так что-то ноет сегодня!
– Вот это радио тоже! – вдруг ни с того ни с сего рассмеялся Серьга и поднялся, сел, растрепанный как со сна. – Помнишь, Корней Иваныч, как это радио нам налаживали? Ну да как же! Еще ведерко-то нам у правления повесили, а сумасшедший нам возьми да и сшиби его… Да неужель забыли?
– A-а, – протянул Корней Иванович каким-то крайне недовольным тоном и быстро, украдкой взглянул на художника.
Беспокойный взгляд этот насторожил Константина Павловича. Он и без того почувствовал, что неосторожно помянутый Серьгой сумасшедший в какой-то мере касается его, а точнее, сестры Дарьи. Понял он это еще и потому, что Корней Иванович сразу умолк, а учитель, как мог, постарался замять неприятный разговор. Но оставить разговор Константин Павлович не дал, – он хотел наконец узнать о семейной жизни сестры все, как было.
– Вы понимаете, – неловко начал Корней Иванович, – тетка Дарья уж так просила ничего вам не говорить. Вроде стесняется она этого, что ли. А по-моему, чего тут стесняться? Мужик он был хороший. Золото, можно сказать, мужик. И зарабатывал, и все… Но вот находило на него. Ну уж тут, как найдет, так хоть из дому беги.
– А чего это с ним? – заинтересовался Константин Павлович.
– Да как вам сказать? Война опять все та же, пропасти ей нет! Танкист он был, из трактористов уходил, – не наш брат, не пехота. Ну, а танкистам-то известное житье! Ведь как лупить по ним начнут, так свету белого невзвидишь! Сердце кровью обливается! Броня-то эта самая – разве под ней от смерти загородишься? Уж в земле-то спасу нет, а им, сердешным… Как свечки, бывало, запылают и так горят, дымят по полю.
– Ох, ну их и с броней ихней! – покряхтел и махнул рукой внимательно слушавший Серьга.
– Ну вот и их когда-то запалили. Так он еще ничего – выскочил. И не только выскочил, а еще и кой-кого повытаскивал. Раненый был, а повытаскивал. Там ведь, когда ранят-то, сперва вроде и не чуешь ничего… Ну, повытаскивал, а самого-то последнего и не успел, – шибко уж будто заниматься начало. Это он нам потом рассказывал. А последний этот возьми да и окажись первейшим его другом, самым что ни на есть товарищем. И когда-то, говорит, самого из полымя вынес. Ну как тут пережить? На глазах, можно сказать, сгорел. С тех пор вот у него и… того. В госпитале еще, говорят, начинаться стало, ну а уж потом… и вовсе. Такое вот дело.
Корней Иванович умолк и принялся подкладывать в костер, раздувать горячие угли. Пламя заиграло, набирало силу, озаряя лица сидевших вокруг людей.
– А так он хороший был мужик, работящий. И в Дарье души не чаял. Но вот уж как находило на него – тут все! Это он нам радио-то сшиб. Повесили нам ведерко у правления на дереве, а тут как раз на него и найди! Ну, вырвал кол да колом по нему, по ведерку-то. Как не было! В последнее время, правда, на него все чаще находить стало. И как уж он скончался, мы все, грешным делом, вздохнули за Дарью, – дескать, отмаялась, сердешная. А так он нам товарищ был. Бывало, на рыбалку – только вместе. Одежонка-то на вас – его.
Константин Павлович вздрогнул и невольно оглядел все, что на нем надето.
– А вот сын у них был хорош, – с чувством проговорил Серьга. – Помнишь, Корней Иваныч?
– Хороший парень, – серьезно подтвердил Борис Евсеевич.
– На племянника вы бы сейчас порадовались, – говорил Серьга. – Война, зараза. Косит без спросу.
– А дочь? – спросил Константин Павлович.
– А что дочь? – желчно ответил Серьга. – Известное дело – баба. Махнула хвостом – и нету ее. Чужое мясо.
– Да-а… – вздохнул Корней Иванович, поудобнее укладывая ноющую ногу. – Племяш у вас хорошим человеком рос. Тут как-то к нам – в третьем году, что ли! – приезжал какой-то ферт из Польши. А может, и не из Польши, а еще откуда-то оттуда. Из газеты какой-то. Вроде бы другом приходился, но я бы от такого друга подальше. Ну, ходил он тут у нас и все фыркал. То ему не по душе, другое. Гладенький такой, морщится. И попадись он на ферме на тетку Дарью. Подошла это она к нему, посмотрела, посмотрела, да и говорит: «Так это, говорит, в твоей землице моего-то закопали?» И так это она ему сказала, что он завял, зажался и тут же убрался из колхоза. Тут же! Вот какая у тебя сестрица! Я после этого к ней присматриваться стал. Тихая вроде, но, если надо, покажет себя! Хочу вот ее в правление сагитировать.