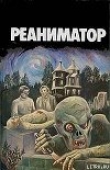Текст книги "Короткий миг удачи (Повести, рассказы)"
Автор книги: Николай Кузьмин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 23 страниц)
Взор его был ясен, напорист и тверд. Борис Николаевич, нервно поправляя на шее шарф, отводил страдающие глаза.
– Так ведь и общественность… По-моему, в таких случаях основным предметом, что ли… не документом, нет!.. а предметом, на котором строятся человеческие отношения, должна быть любовь. Все-таки любовь! Мне так кажется… А как раз любви-то, как можно догадываться, нет и, надо полагать, не было. Я так нахожу…
Не только сила убеждения, чтобы возражать пенсионеру, но даже сами слова давались сегодня с трудом.
– Это вы ее наслушались! – возмущенно отрубил Кухаренко, багровея еще больше и с остервенением запуская палец за воротничок. – Как это так – не было! Значит, что я – силком, выходит? Вы, знаете, не того… Вот, если вам всего мало, – читайте! – Он проворно достал из папки и положил на стол хорошо разглаженный листочек с потертыми местами на сгибах. – Что же я, так зря бы и пошел по организациям? Слава богу, не дурак еще!
И все ворочал головой, высвобождая полнокровную, дородную шею.
Первым делом Борис Николаевич посмотрел, нет ли и на листочке казенной печати.
– Что, тоже письмо? – спросил он.
– Почему – тоже? – не понял старикан, складывая свою увесистую папку. – Просто письмо. Да вы читайте, читайте!
Письмо было от Муси.
«…Весна у нас на Кубани вступает в свои права: тепло, сухо, птички поют, насекомые выползают на поверхность греться. Фото Ваше у меня на видном месте в альбоме, на которое я очень часто смотрю. Мне многие говорили, что у меня каменное сердце, но оказалось, что для моего каменного сердца Егор Петрович сумели подобрать алмазное стеклышко…»
Борис Николаевич вздохнул и утомленно потер переносицу. Глаза его еще скользили по корявым торопливым строчкам разглаженного и отлежавшегося в папке письма, но он ничего не видел и не понимал, – перестал понимать. Ему не хотелось ни вникать в это сутяжничанье обозленных друг на друга людей, ни тем более разбираться, на чьей же стороне окажется в конце концов какая-то ничтожная доля правоты. В нем поднималось раздражение и все большая неприязнь к сегодняшнему нахрапистому посетителю, – именно настойчивость его и неумолимость, ясные непреклонные глаза выводили журналиста из себя. Чувства эти настолько вдруг овладели им, что Борис Николаевич, сдерживаясь, зажмурился, стиснул зубы и едва не простонал, принявшись быстро-быстро поглаживать пальцами ноющие виски. Так, с закрытыми глазами, он просидел с минуту, если не более, соображая в то же время, что сказать, как вообще избавиться от всей этой недоброй суеты чего-то добивающихся людишек, которым не хватало постоянной обремененности большими чувствами и тревогами. А ведь могло и так быть, да так, наверное, и было, что где-то усталый, измученный хирург, золотые руки, заканчивал на живом раскрытом сердце ювелирный шов или на далекой наблюдаемой планете, погасив турбины, садилась мягко станция с Земли, а в этот миг управдом товарищ Бакушкин, любовно подышав на казенную печать, деловито скреплял вот этот, с позволения сказать…
Но что-то следовало говорить, и Борис Николаевич взял себя в руки.
– Ну? – тотчас оживился посетитель, наблюдавший за журналистом. – Что теперь скажете? Не любила?
– Знаете что, – предложил Борис Николаевич, – вы мне оставьте все это. Я еще почитаю, подумаю. А то я сегодня что-то… не того, – и растопыренными пальцами он повертел у себя возле головы.
Кухаренко помедлил, потом с неохотой согласился.
– Понимаю, – произнес он и, не настаивая больше, засобирался. – Но это все скоро выйдет? В газете-то напишется?
– Ну, знаете… – возмутился Борис Николаевич, – у нас так быстро не делается!
– А то смотрите… я, если что, могу и посодействовать. Куда сходить, написать.
– Нет, нет. Никакого содействия не требуется. Не нужно.
Пенсионер окинул журналиста взглядом, словно определяя его способность и пробивную силу.
– Смотрите сами, товарищ корреспондент. Подождем… Но только я вам со всей документации лучше копии сниму. У меня же не только это. Тут, если начать разбираться… А вы поправляйтесь. В таких делах здоровье прежде всего.
«Ну, слава богу», – вздохнул Борис Николаевич, и раздражение его пошло на убыль.
Развалив на коленях добротную папку, Кухаренко вкладывал и никак не мог вложить на свои места предусмотрительно сберегаемые бумажки. Борис Николаевич обратил внимание, что папка пенсионера полным-полна какими-то разнокалиберными листочками. «Ну, подобрал старик алмазное стеклышко».
– Таких наказывать надо, к порядку призывать, – сердился и ворчал пенсионер, стараясь уложить листочки. На коленях у него лежал уже целый ворох потревоженных бумаг.
Встав из-за стола, чтобы помочь ему, Борис Николаевич спросил:
– Она у вас кто по специальности-то?
Вдвоем они управились скорее, Кухаренко захлопнул папку и поднялся, высоко вознесся над журналистом благоухающей обритой головой.
– Какая ее специальность, товарищ корреспондент! На маникюршу учится. – Он снисходительно рассмеялся, махнул рукой и утер в морщинистом глазу слезинку. Напористость его пропала, он расположился, если можно, поговорить откровенно, не по-казенному, а как мужчина с мужчиной.
– Так заходите, буду ждать, – тотчас предупредил это намерение Борис Николаевич, и его сухая горячая рука утонула в прохладной толстой ладони пенсионера. «Штангой, черт, или борьбой занимался!» – определил он, по привычке отличая здоровых, тренированных людей.
– Болеть, как я вижу, не приходилось? – спросил он, провожая посетителя к двери. Громадный Кухаренко двигался, как шкаф. Вопрос журналиста доставил ему удовольствие.
– Да не припомню вроде, – скромненько поежился старикан, и Борис Николаевич, утомленный постоянными головными болями и слабостью, представил себе, какая, должно быть, у этого пенсионера красная гулкая гортань, исправные печень и кишечник.
– Морж, наверное? – спросил он, живо наставляя палец.
– Что такое? – насторожился старикан.
– Ну… в проруби купаетесь или снегом?
– A-а! Это точно, – подтвердил Кухаренко. – Два раза. Утром и вечером, как на молитву. У нас там снег замечательный. Вот так гребанешь и… – он ощерился, закряхтел, показывая, как растираются колючим чистым снегом здоровенные грудь и бока.
– Чудесное дело! – загорелся Борис Николаевич. – За городом живете? Я уж, кажется, веки вечные не был за городом. Забыл, как и лес пахнет.
– Так что же? – добродушно гудел сверху посетитель. – Вот налажу я свои отношения и – милости прошу. У нас там снегу или воздуху этого хоть, извините, задницей ешь. Буду рад. Еще раз извините за выражение. Человек простой.
Зазвонил телефон, и Борис Николаевич быстро повернулся к столу. Старикан неумело поклонился и разлаписто зашагал из кабинета. Только теперь, глядя ему в спину, можно было заметить, что, несмотря на завидно сохранившееся здоровье, он все же поддается возрасту. В грузной походке уже угадывалось ковыляние, мотались сзади дорогие просторные брюки.
Борис Николаевич узнал в трубке голос жены.
– Борька, ты не забыл?.. Как о чем? Здравствуйте, я ваша тетя! О Софье Эдуардовне. Мы же вчера договорились. Я ей только что звонила, она ждет.
– Том, – взмолился Борис Николаевич, – может, как-нибудь потом? Вот видишь, я уже стихами шпарю. «Том – потом…»
– Борька, перестань! Нет, нет, не хочу и слушать. Да и Софья Эдуардовна ждет, имей совесть. Это займет минут сорок, не больше. Ты слушаешь?.. Алло?
– Слушаю, слушаю, мучительница! От тебя же не отвяжешься, невыносимый человек. Ну хорошо, не кипятись. Иду. Ты где, откуда звонишь?..
Осмотр на этот раз был тоже дотошный, и Борис Николаевич покорно ложился, вставал, дышал и замирал, сгибал и разводил руки, приседал. Софья Эдуардовна не признавала стетоскопа и прикладывалась к голой спине больного теплым мягким ухом и щекой. «Дышите… А теперь замрите, голубчик». Было в этом что-то старинное, да и сам вид седой дородной Софьи Эдуардовны с выразительным львиным лицом, с которого поминутно падало и повисало на шнурочке крохотное прозрачное пенсне, – все говорило о временах минувших и невозвратных, когда болезни были не так многочисленны и замысловаты, а лечение их поддавалось совсем простым, почти домашним средствам.
Раздетый Борис Николаевич снова видел свое тело, разглядывал, пробовал напрягать мышцы и поражался неведомо когда наступившей худобе и слабости. Он стал замечать, что постоянно чувствует свое сердце. Оно не болело, нет, но ощущалось все время, билось мелко, горячо и напряженно, будто убавившийся вес, исчезнувшая сила мышц навалили на него дополнительную нагрузку и оно, не отказываясь, как старый добрый товарищ, выполняло свой долг до конца.
Разрешив одеваться и принимаясь выписывать рецепты, Софья Эдуардовна вдруг попросила обождать и с озабоченным лицом снова приникла ухом к груди. Видно, в самом деле что-то замечалось за сердчишком, подумал Борис Николаевич. А в остальном вся процедура осмотра лишь позабавила его, и он больше всего остался доволен тем, что угодил жене. После того как его крутили и вертели на все лады в институте у Зиновия, услышать здесь что-либо толковое было бы просто смешно. Он и к наставлениям величественной Софьи Эдуардовны отнесся вполуха: слушал, кивал и соглашался, а сам думал о том, что неделю еще надо подождать, а потом опять к Зиновию и, если все окажется в порядке, надо будет в первое же воскресенье, в первый же свободный свежий день – в лес, на лыжню, на снег, подкормить, подправить издерганный, уставший организм. Ну их, всякие дела, им конца-края не будет, надо когда-то и собой заняться…
В отличие от него, Тамара выслушала все, что говорилось, необыкновенно внимательно, а кое-что записала. Одетый, настроенный хорошо, Борис Николаевич стоял у двери и, натягивая перчатки, прислушивался к прощальному разговору женщин. По словам Софьи Эдуардовны, чтобы обмороки не повторялись, следовало пока соблюдать одно: покой и покой.
– Может, читать хоть разрешите? – улыбнулся Борис Николаевич.
Тон журналиста показался Софье Эдуардовне обидным, однако, пока она ловила и снова водружала на место легкие стеклышки пенсне, он поспешил откланяться.
– Том, я подожду тебя на улице.
У женщин оставались еще какие-то свои секреты.
Тамару он дождался не скоро.
– Вы что там, самоварничали? – спросил продрогший Борис Николаевич, приплясывая на снегу и хлопая себя по плечам.
– Слушай, Борька, что у тебя за идиотские насмешечки? – накинулась на него жена. – Ты вел себя возмутительно. К Зямке он не хочет, к светилу ему неудобно, я договариваюсь… Видали его – он одолжение сделал! Мне просто стыдно перед Софьей Эдуардовной.
Борис Николаевич приобнял ее за плечи.
– Тебе хватило сумки для рецептов?
– Слушай, оставь эту идиотскую манеру! Нашел над чем шутки шутить!
– О-о, да мы сегодня в гневе! Ну, Том, вам тогда сюда, а мне сюда. До вечера.
– Какое еще – до вечера? А ну стой! Видали его!
Никаких до вечера. Мы идем вместе. Да, да, не делай удивленных глаз. Ты что, не слышал: покой. Вот и пошли.
– Том, ты прекращай наконец свой китайский произвол. Я на работе – пойми ты! Мне некогда вылеживаться. Меня люди ждут.
– Ничего не случится, полежишь. Если надо, с шефом я сама поговорю. И с секретарем тоже. Пошли, нечего стоять.
– Ну, слушай… Мы что, ругаться будем? – Он сердито вырвал руку и отступил на шаг, на полтора. Они долго смотрели друг другу в глаза: он – возмущенно, она – терпеливо и, как ему показалось, скорбно.
– Понимать же надо, Том…
– Глупый ты, – сказала она с мягким упреком. – Забыл, как мы намучились с мамой? Вот тебе и ладно. Для меня лично хватит. Вот, по горло, на всю жизнь! Взрослый человек, а ведешь себя… Пойдем, хватит базар устраивать.
– Диктатура! – проворчал Борис Николаевич, но все же подчинился и пошел.
Предписание Софьи Эдуардовны оказалось как нельзя кстати. Если первый день безделья дался с усилием, то уже на следующее утро, проводив жену на работу, Борис Николаевич испытал заметное облегчение, которому искренне удивился: ему хотелось одиночества, и никогда раньше он не подозревал, что даже самый близкий человек может иногда мешать жить так, как хотелось бы. Оказывается, он не привык к своей квартире днем, совсем не ценил одиночества, не знал того удивительного состояния, когда приятны пустота и тишина вокруг, приятна полнейшая изолированность, обеспеченная толстыми стенами и крепкими дверьми. Днем в доме вообще становилось малолюдно.
Часто звонила с работы жена, звонил Зиновий, измученный ожиданием защиты диссертации.
– Старик, я кончаюсь! – жаловался он. – На ночь съедаю по мешку снотворного. Жую, как овес… Надо хоть увидеться, потрепаться.
Позвонил однажды секретарь редакции и долго болтал о том о сем, пока не сказал главного: оказывается, больше всех печется о заболевшем журналисте старик Кухаренко, могучий пенсионер. Первые дни он терпеливо наведывался в редакцию и так же скромно уходил, унося под мышкой свою внушительную папку, а вчера не выдержал и взбунтовался.
– Прямо озверел Ромео, оглушил всех! – негромким торопливым тенорочком рассказывал секретарь, и Борис Николаевич представил себе прокуренный суматошный секретариат, груды материалов, телетайпных лент и клише на столе и как секретарь, разговаривая с ним, прижимает плечом телефонную трубку, а сам не перестает обеими руками рыться во всем этом привычном беспорядке, находит, что надо, подписывает и засылает в набор, огрызается на сотрудников и отдает распоряжения выпускающему.
– Ты как – лежишь, поправляешься? А прийти не сможешь? Ну, смотри. Мы его уж как-нибудь без тебя. Любовь должна пройти проверку. Верно?
Остроты у секретаря, как всегда, не получались.
Последовали еще приветы от сотрудников: от одного, другого… от всех, и Борис Николаевич догадался, что в секретариате полно народу – заканчивается половина месяца, а значит, подходит день выдачи гонорара, и ребята узнают у секретаря, не идет ли в номер собственный материал. Ну, после гонорара, как правило, ресторан на скорую руку, чтоб не особенно задерживаться и дома избежать скандала, выпивка, много дыму, взаимных обид, упреков, споров…
Закончив разговор, Борис Николаевич отодвинул телефон. Он ни о чем не расспрашивал секретаря, – редакционные новости, накопившиеся за последние дни, сегодня нисколько не интересовали его. Он вытянулся, удобно закинул под голову руки и снова стал лежать, молчать и смотреть в потолок. Это было внове для него – такое вот увлекательное одиночество. Еще совсем недавно ему хотелось движений, все его тренированное, сильное тело прямо-таки просилось в горячую мускульную работу, теперь же потребность была одна: лежать, смотреть в потолок и-чтобы не мешали. В конце концов он выключил телефон, потому что звонки, постоянные вторжения в его изолированность мешали забыть о том, что происходит без него, они напоминали, что жизнь, как ни отгораживайся стенами и дверьми, идет, она бежит, торопится, и вот уж получается, что он все равно необходим, как бы ни прятался, он нужен чуть не позарез, а позарез этот – ну его к черту! – ведь не на миллион же лет заведено у человека сердце: вон как убивается оно, будто одолевает какие-то постоянные помехи.
Откинув плед, Борис Николаевич спустил ноги и заученно попал в обношенные, истертые шлепанцы. Собираясь утром на работу, Тамара оставляла на плите обед, нужно было лишь зажечь газ и поставить на огонь кастрюльки. Вяло двигая ногами, он протащился на кухню, разогрел, что приготовлено, но есть не стал – хлебнул, ковырнул и вернулся обратно. Висели шторы по сторонам окна, на улице падал реденький снежок. Могучий Кухаренко, подумалось ему, наверняка осудил бы такое отсутствие аппетита. Разве это обед для взрослого мужчины? Уж что-что, а аппетит у старикана, надо полагать, железный: сожрет все, что положат, и потребует добавки.
Укладываясь и пряча под плед костлявые коленки, Борис Николаевич повозился, чтобы лечь и не чувствовать напряженных частых ударов сердца. Кажется, удалось…
Он хорошо представлял себе, где живет пенсионер: большой жилой массив, местные Черемушки. Только там Кухаренко мог получить новую квартиру, больше негде. Когда-то на том месте стояла захудалая слобода, грязная, с провисшими гнилыми крышами избушек. Борис Николаевич бывал в слободе часто, печатая в газете трескучие материалы о новизне, сметающей отжившее и никому не нужное старье. Слобода гибла, исчезала на его глазах. Окраина строилась еще и по сию пору, город рос и расползался, но у него уже были другие интересы и обязанности. Как журналист он вырос, укрепился очень быстро. И все же счастливое состояние тех первых лет, когда он только начинал и радовался каждой напечатанной заметке, казалось ему теперь куда приятнее, чем нынешнее, хотя последние фельетоны Б. Кравцова считались событиями в городе и редакция гордилась им, поддерживала и всячески его защищала. А слободу, район своей газетной молодости, Борис Николаевич запомнил так, что казалось, навсегда остались в памяти сырой осенний ветер в голой арматуре кранов, зябнущие, насеченные дождиком блоки поднимающихся стен, с пустыми рыжими рамами окон, жидкая антрацитовая грязь в колдобинах кривой разъезженной дороги, а по холодам, едва завьюжит, крохотный отрог переметенного через дорогу сугробика и на нем, поперек, грязный рубчатый след автомобильной шины…
– Кто там? – неожиданно крикнул Борис Николаевич и приподнялся. Кто-то был в квартире, вошел, потому что через широко распахнутую форточку движением воздуха внесло несколько снежинок. – Том, это ты?
В коридоре сильно затопали ногами, сбивая налипший снег, затем в комнату, вытягиваясь из-за косяка, заглянуло красное, с запотевшими очками лицо Зиновия.
– Это я, старик. Привет.
Он был осыпан снегом и несколько раз хлопнул шапкой о колено.
– Напугал-то!.. Но как ты проник?
– А на улице снежок, замечательно! – говорил Зиновий, раздеваясь. – Встретил Тамару, она дала мне ключ… Ну, лежишь, байбак, диван продавливаешь?
Не вставая, Борис Николаевич дотянулся и дернул висюльку торшера. За окном стало совсем черно. Зиновий, утираясь платком и приглаживая редкие волосы, нерешительно вошел в комнату. Он смотрел, не наследил ли на полу. Борис Николаевич подвинулся на диване, приглашая садиться.
– А Тамара куда? В магазин?
– Не спросил, старик. По каким-нибудь, наверное, делам.
– Я просил ее в редакцию зайти.
– Может быть, и туда, ничего не сказала. А что у тебя телефон выключен? Звоню, звоню…
– Да так, мешает… Ты знаешь, Зям, супруга меня стаскала к Софье Эдуардовне. И вот лежу, раздумываю о смысле жизни, – прекрасная штука бюллетень.
– Она что, смотрела тебя?
– Софья Эдуардовна? Еще как! Крутила, вертела… Люблю я этих величественных интеллигентных старух. Что-то в них старинное есть, вымирающее. В будущем, мне кажется, старики станут совсем другими. Вот меня взять. Ты представляешь, какой я буду старец? Желчный, въедливый. Внештатный инспектор, гроза продавцов и контролеров… И этот твой Модест Генрихович – тоже приятный. Таким бы мне хотелось…
– Берзер? Берзер – чудный старик. Но что тебе сказала Софья Эдуардовна?
С усилием приподнявшись, Борис Николаевич несколько мгновений смотрел на широко распахнутую форточку.
– Может, прикрыть ее маленько?.. Сделай одолжение. – Снова лег, подоткнул с боков плед. – А что она скажет? Сердчишко что-то ее насторожило. Да я и сам замечаю… Твой Берзер ничего не говорил?
– М-м… видишь ли, старик, греха таить не буду – прослеживается у тебя небольшое недомогание. Нервишки, перебои – всякая такая бяка. Но это не смертельно.
– Ну и слава богу! Вот так ты и Тамаре скажи, если спросит.
– А что ты свои лыжи забросил? В лесу сейчас, на хвое – разлюбезное дело. И я бы с вами. У меня сейчас, кажется, настоящее предынфарктное состояние.
– Насчет лыж Том командует. Все вопросы и предложения к ней. У нас сейчас железная диктатура. Видишь – лежу, не шевелюсь.
– Плюнь, шевелись. Это тебя Софья Эдуардовна закатала? Узнаю специалиста со стажем. – Он взял со столика несколько рецептов и небрежно просмотрел. – Тоже прописала? Выбрось. Ни к чему.
– Не вздумай этого сказать Тамаре.
– Что это ты такое толстенное штудируешь в своем уюте? – Зиновий, отложив рецепты, взял в руки Библию и чуть не выронил, – не рассчитал тяжести. – Ого! Чувствуется… Но что это? – Он раскрыл и удивился, завистливо покачал головой: – Достал все-таки?
– Занятная книженция, слушай! И – настраивает, знаешь. Я тут для себя целые Америки открываю, честное слово!
Перелистывая страницы, Зиновий щурился и говорил в своей привычной иронической манере:
– Припадок философствования? Так сказать, прекрасный миг озарения? Момент познания истины?
– Не греши, еретик, не кощунствуй. – Борис Николаевич жестом попросил книгу в руки. – Теперь я, кстати, точно узнал, что это ваши Христа распяли. Ваши!
– Да, да, великое открытие, старик! – согласился Зиновий, отдавая книгу. – Что сам Христос существовал – этого еще не доказано, но что распяли его евреи – в этом уверены все.
– Ты подожди, там есть роскошные места. – Борис Николаевич торопливо полистал книгу, отыскивая запомнившееся место. Нашел, заложил пальцем. – Вот, слушай. Разве не здорово? «Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать…» А? Или вот еще. «Сердце мудрых – в доме плача, а сердце глупых – в доме веселия». Дескать, веселись, веселись, человече, поумнеешь – думать станешь. «В доме плача…» Это же об основном, Зяма, – что человек должен быть постоянно недовольным собой. «При печали лица сердце делается лучше». Вот – тоже написано. Недовольство – стимул совершенства. Понимаешь?
– Так что ты хочешь? – говорил Зиновий, расхаживая по комнате и трогая в задумчивости свой внушительный нос. – Тысячелетие… даже два тысячелетия живет и не может исчезнуть эта, с позволения сказать, идеология…
– Великолепный охмуреж! И ведь здорово придумано. Но мне сегодня вот что не дает покоя. Слушай, Зям, вот кромсаете вы где-то в своих анналах какого-нибудь усопшего, а он лежит, молчит, и ничто, ничто в нем не протестует. Хоть бы пикнуло, дернулось, возмутилось! А?.. Но ведь он жил, он же любил, бегал, хохотал. Куда все подевалось? Неужели в пыль, в воздух, в ничто? Было и вдруг не стало, – а?
Умудренно склонив голову, Зиновий неторопливо протирал очки и подслеповато моргал беспомощными обезоруженными глазами.
– Нет, Зямчик, что ни говори, а все-таки смерть – великое таинство. Загадка Бытия. Я это с большой буквы называю.
– Да я понимаю, что не с малой, – отозвался Зиновий. Едва он вздел очки на место, на его худом носатом лице вновь установилась привычная ироническая усмешка.
– Куда, ну куда, в самом деле, девается человек? – увлеченно продолжал Борис Николаевич, усаживаясь в постели и поджимая укрытые пледом коленки. – Вот тот же Маяковский, тот же Хемингуэй. Или Есенин, скажем. Неужели ушли они – и нет их, растворились без остатка? Прах и в прах вернулись? Ведь не укладывается же в разум! А может быть, бредут они где-нибудь сейчас легким неслышным шагом и чуть-чуть пылят? А? Плывут так, знаешь, на каких-то далеких, далеких дорогах? Не может же человек уйти и раствориться, будто его и не было!.. Я почему-то все время вижу, как идет не торопясь усталый Хемингуэй, думает, чуть шаркает ногами и – пыль, пыль, пыльца из-под подошв. Еле так заметная… И так он будет брести и брести, не исчезая насовсем… А?..
– Утешение самоубийц! – с досадой заявил Зиновий. Он мимоходом взял и снова бросил на столик книгу.
– Ты думаешь – самоутешение? – спросил Борис Николаевич.
– Бесспорно! – отрезал Зиновий. – Тут, тут надо как следует устраиваться! Там, – он неопределенно показал куда-то вверх, – там ничего не будет. Ни-че-го!
– Э, Зямчик, кто заглядывал!
– Слушай, – возмутился Зиновий, – ты бросай эту поповщину! Противно же слушать!
– Противно… Но ведь смотри, что получается. Ты никогда не обращал внимания, что на шаг на этот… ну, чтобы, значит, сразу… без всего… на этот шаг, как правило, решаются умные и мужественные люди? Ты прочитай предсмертные письма Цвейга. Ты прочитай… А тот же Маяковский? Хемингуэй? Нет, Зям, эти люди любили жизнь. И уж чем-чем, а трусами не были. И вдруг – бац! Конец. Все.
– Но почему ты, черт тебя дери, не допускаешь мысли, что эти люди способны на ошибки? Вот тебе и пример. И – объяснение их дурацким – я в этом убежден! – поступкам.
Борис Николаевич с сомнением покачал головой:
– Дурацким… Слишком просто. Слишком это просто, Зям! А может быть, это мудрость, прозрение? А? Знаешь, слишком мы все какие-то непосвященные. Все наши заботы о том, что вокруг нас, об обыденном, повседневном…
– Не хочу быть пророком, – сердито перебил его Зиновий, – но придет время, и все мы – и ты, и я, грешный, – все мы убедимся на собственном примере, что высшая мудрость во всем этом – самая простейшая: тебе положено жить, ты и живи! И все на свете, в том числе и медицина, только помогает этому, чем только может.
– А, опять ты о своем! И никак, никак ты не хочешь понять меня! Ну почему ты не можешь допустить такое? Смотри: а вдруг на всех на них снизошло эдакое гениальное озарение и они увидели, что там, впереди, еще большая и долгая дорога, может быть даже бесконечная, и они просто, так сказать, прикрыли за собою дверь, чтобы оставить то, что надоело, обрыдло, измучило? А? И сделали это легко-легко, без всяких там угрызений и мучений…
– …и разнесли себе вдребезги башку, мозг, этот чудеснейший, неповторимый и необъяснимый аппарат, за который, кстати, их любил, ценил… обожествлял весь мир? – вскричал Зиновий и раздраженно – тычком в переносицу – поправил очки. – А, да что с тобой говорить, с идиотом!
– В общем-то… и это правильно, конечно, – не сразу согласился Борис Николаевич. – В том-то и сложность, милый Зям. В том-то и сложность.
– Чего, чего сложность? – с дружеским укором напустился на него Зиновий. – Что ты забрал себе в башку, чудак? Что за припадки мировой скорби?.. Ну? Философ?
– Видишь ли, в наше время смешно, конечно, предполагать, что кто-нибудь всерьез верит в существование бородатого мужика на небе. Будда, Христос, Магомет… Все это лабуда. Какая-то оголтелая религиозность. Но что-то слишком многого мы пока не в состоянии объяснить! Слишком многого!
Как чуткий, терпеливый доктор, Зиновий сдвинул простыни и плед и опустился на краешек дивана.
– Ну что, что, дурная голова, ты не в состоянии объяснить?
– Как – что? Мало ли…
– Да что, что конкретно?
– Конкретно? Ну хотя бы сны. Смотри – я никогда, ни разу в жизни не был на охоте, не убивал и воробья. А во сне я держал подстреленную птицу, еще теплую, и я до сих пор чувствую, как у нее трепетало сердце. Ну… как это? Что?.. А взять предчувствия. Зеркало треснуло, сломался гребень. Да мало ли! Вот умирает человек, и в тот момент, когда душа его, как говорится, отлетает, где-то за тысячу и больше километров вдруг дрогнет сердце у матери, сестры, любимого человека. Какая сила, что дает такой намек, сигнал? А может быть, как раз душа-то улетевшая и прилетала попрощаться?.. Необъяснимо это все пока. Необъяснимо…
Зиновий слушал, иронически и чуточку страдальчески покачивая головой.
– Мистику, мистику, старик, разводишь! Это от безделья.
– Ничего не мистику! Я не рассказывал тебе о маме? Так вот. Ты знаешь, она жила не с нами. Но в последние дни мы у нее дежурили. Измучились… ужас! Собственно, надеяться на чудо было глупо, но вдруг она поднимается, требует зеркало и гребень и говорит, чтобы мы шли к себе, дежурства сегодня не нужно, ей лучше. Я, как приехал, сразу же – хлоп! – и заснул. Но ночью в меня будто выстрелили! Вскочил, сердце хоть рукой держи. Вид, конечно, самый дикий. Тамара испугалась, а я рвусь бежать чуть не голяком. И знаешь, – опоздали. Прибежали… ключ у нас свой был – лежит. Все! И ты меня теперь хоть режь, но я знаю: это она звала меня, когда я спал. Говорю же: это было как толчок, как выстрел!
Зиновий потупился.
– Ну, старик… на эту тему можно спорить и спорить. Все дело в том, что в научных кругах в настоящее время…
– А, круги твои! Пойми – меня тогда это потрясло. Да вот и недавно с Тамарой. Я же говорил тебе: как она узнала, что мне плохо? От кого? Не от людей! Значит, по воздуху? Фантастика!
– Старик, я хочу сказать, что уровень наших нынешних накопленных или, верней, добытых опытом знаний…
– Постой, Зям, дай доскажу. Вот гляди: стоит приемник. С миром он ничем не связан, а между тем принимает волны с другого конца Земли. Так неужели ты думаешь, что человеческая душа примитивней этой дурацкой коробочки? Да в тысячу раз тоньше и умнее! Даже у летучей мыши обнаружили что-то вроде радара. А уж человек-то!.. Наша беда в том, что мы привыкли, как тот хохол, все взять в руки, пощупать. А если есть штуковина, которой не пощупаешь?
– Старик, так я тебе об этом и хочу сказать. В последнее время в журналах начинают проскакивать догадки о еще неизвестном нам виде материи. Ты ведь к этому ведешь?
– Может быть. Но человеческая душа, я в этом уверен, Зям, настолько уникальный, настолько совершенный аппарат, что передать или принять какие-то сигналы – для него пустяк. Существует, представь себе, некая волна, на которой спокойненько, как этот вот приемник, работают две близких, родственных души. И не криви свои выразительные губы, никакой тут мистики, никакой чертовщины нет!
– Какая уж чертовщина! Тут, старик, скорей… это самое… вопрос божественного.
– Да как хочешь называй. Не знаю, попадалась ли тебе на глаза небольшая заметка. В какой-то деревне – не то в Курской области, не то в Орловской, словом, в самой что ни на есть российской, – вдруг обнаружилось, что маленькая девочка во сне бормочет какие-то непонятные слова. Бред, и очень странный. Ну, по врачам ее, затем в Москву, в клинику. Короче, выяснилось, что девочка разговаривает на одном из древнейших наречий Индии, наречий, которого и в самой Индии сейчас не существует! Ну? Каково?
– Да, да, я помню, – подтвердил Зиновий. – У нас этот случай занесен в картотеку.
– Вот видишь! И вот лежу я сегодня, а мысли, мысли, черт! Ты знаешь, в последние дни мама мне несколько раз жаловалась, что ей стал сниться какой-то хам, типа надсмотрщика, который стегает ее кнутом.
– Фрейд! – усмехнулся многоопытный Зиновий. – Типичный Фрейд.
– Ишь ты… Фрейд! А почему ты не хочешь предположить совсем другое; представь, что она уже жила когда-то, давным-давно, во времена рабства, и – вот, воспоминания… А?
– М-да-а, Борька. С головой у тебя, брат, не все в порядке.
– Я тебе больше скажу, Зям: мне сейчас и самому кажется, что я уже когда-то жил. Был, существовал и многое, гораздо больше, чем сейчас, уже пережил, перечувствовал…