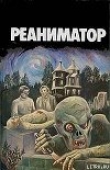Текст книги "Короткий миг удачи (Повести, рассказы)"
Автор книги: Николай Кузьмин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
– Ну, старик! – успел вставить Зиновий, насмешливо раскинув руки.
– Смейся, смейся! Но недавно во сне я даже пережил собственную смерть. Ей-богу! Помню – проснулся в диком, дичайшем страхе… Что это такое, Зям? Ты в состоянии мне это объяснить? Ты, медик, почти кандидат, будущее светило науки?
– Ну, насчет светила давай не будем. А вот то, что тебе только в эти дни стукнуло в твою бедную голову, – так над этим, к твоему сведению, уже давным-давно, – бьются светлейшие умы. Но, как я тебе уже начал говорить, уровень наших нынешних знаний пока что, к сожалению…
– Вот, вот! – обрадованно подхватил Борис Николаевич. – И я тебе об этом же. Именно – уровень! Ты замечал когда-нибудь, как муха, бабочка колотится в стекло? Ей непонятно: мир, воздух, солнце – вот они, а вырваться не может. Что-то прозрачное, невидимое, а мешает. Так не является ли наше нынешнее невежество – я говорю об относительном невежестве! – об относительном, – не мефистофельствуй!.. Не является ли оно для нас тем же стеклом? Мы где-то рядом, на подходе к большим открытиям, которые нам объяснят почти что все.
– Ну, верно, – выжидающе согласился Зиновий. – Я тоже так считаю.
– Ты тоже так считаешь… – усмехнулся Борис Николаевич и, повозившись, улегся, натянул до подбородка плед. – Я сегодня вот о чем раздумывал. Смотри: давай посадим себе на ноготь муравья. Как думаешь: вот этот работящий и пытливый муравей, догадывается ли он, исследуя наш ноготь, о том, какое сложное и во многом необъяснимое создание человек в целом?
– Ты хочешь сказать…
– Да, да. Я это и хочу сказать! Что, что нам объяснит всю сложность мира, – не материального, нет! – тут уже много всего! – а мира неосязаемого, невидимого… какого-то… – ну, понимаешь? – у которого мы покамест, быть может, только на ногте?
– Разум! – твердо заявил Зиновий и очень выразительно постучал по лбу. – Только разум. Развивающийся непрерывно, свободный от неизвестностей, все знающий и все постигший. Без тайн!
– А может… – помолчав, проговорил Борис Николаевич, и взгляд его, когда он уставился в глаза Зиновия, стал дымчатым, как бы шальным, – а может, это и есть… бог? А?
– Ну, старик… – от неожиданности Зиновий растерялся. – Значит, все дело будет только в терминологии. Хотя я лично, – тут он вновь обрел былую твердость и насмешливость, – я лично буду всячески не соглашаться с этим термином!
– Вот видишь, – рассеянно вздохнул Борис Николаевич, и взгляд его устремился в черное потевшее окно, в космический бездонный мрак за форточкой, где воспаленному воображению мерещились замысловатые системы далеких остывающих миров. – Когда-то примитивная догадка наших предков и – вдруг… Бедный бог! Настырный человечишко уже много объяснил: и гром, и молнию, и землетрясение… даже атомную энергию открыл. Что же богу-то, бедняге, остается?
Бр-рынь! – раздался вдруг в коридоре бесцеремонный гром звонка, потом еще, еще, – настойчиво и резко.
– Ну вот, – расстроился Борис Николаевич. – Только разговорились!
– Мама родная! Ключи же у меня! – ужаснулся Зиновий, бросаясь открывать.
– Хозяйка! – громко возгласил он из коридора.
Шаги, шуршание пакетов, ощутимое дуновение холодка, – человек вошел с улицы, с мороза.
– Все руки оттянула! – жаловалась на кухне Тамара. – Подержи-ка, Зям. На стол не ставь, я сейчас.
– Том, ты что так долго? – крикнул Борис Николаевич, с наслаждением забиваясь под теплый плед и чувствуя, как, должно быть, настывает на улице к ночи.
Не отзываясь, Тамара проворно совалась по кухне, выкладывая покупки. Шаль спущена на плечи, на ботиках снег. Зиновий с тяжелой, набитой припасами сумкой терпеливо ждал.
– А я в редакции завязла, – рассказывала Тамара, забирая у него наконец сумку. – Этот разочарованный любовник сегодня из всех буквально душу вынул. Вынь да положь ему Кравцова! Уже из обкома звонили.
– Жена! – снова позвал Борис Николаевич. – Ты где? Зямка, черт, оставь свои штучки, пусти ко мне жену. О чем вы там шепчетесь?
– Зям, – негромко спросила Тамара, прислушиваясь, не встает ли с постели муж, – я с собой заявление взяла, секретарь дал. Показать ему?
– Какое еще заявление?
– Ну… этого… Ромео. Он же из обкома теперь не вылезает. Оттуда в редакцию прислали.
– Конечно! Какой может быть разговор? Пускай работает. Это для него сейчас самое милое дело. А то он совсем тронется. Ты бы послушала, что у него в башке творится! Где он эту чертову Библию достал?
– Боюсь я, – пожаловалась Тамара. – Только расхлебались с тем фельетоном, теперь – снова. Видела я этого Ромео. Он же как танк – раздавит любого… Опять нервотрепка?
– Ничего, это даже к лучшему. А то – видали его? – Христосик нашелся!..
– Вот негодяи! – притворно ворчал в комнате Борис Николаевич. – О болящем и скорбящем и не вспомнят… Зиновий! Я вызываю тебя на дуэль!
– Уходишь? – спросила Тамара, увидев, что гость направляется к вешалке. – Оставайся. Поужинаем вместе.
– Пора, – отказался Зиновий, влезая в пальто. – Какие у вас планы на завтра?
– Зямка! – позвал Борис Николаевич. – Ты что, уходишь? Том, не пускай его. Сними с него очки. Или портфель отбери, портфель!
– Пока, старик. До завтра. – Одетый, в шапке пирожком, Зиновий заглянул из коридора в комнату и помахал перчатками. В другой руке он держал объемистый, как чемодан, портфель.
– Сбегаешь? Завтра увидимся?
– Обязательно! Ну, пока. Будь здоров.
Заперев за ним дверь, Тамара постояла в темном пустом коридоре, прижавшись лбом к холодной обитой двери, затем, не замечая, что в комнате, привстав на диване, муж с нетерпеливой улыбкой ждет ее появления, медленно прошла на кухню. Загремела там кастрюлями.
– Жена! – звонко позвал Борис Николаевич. – Что за черт! Я сегодня дождусь жену или нет? Это что, бунт на корабле?
Дни в одиночестве кажутся ему теперь долгими, почти бесконечными, и он с удовольствием кричит во весь голос, на всю квартиру. Ему хочется разговаривать, шуметь, даже бегать, он перестает чувствовать свое напряженное сердце. Тамара, однако, не появляется, и он, удивленный, по-прежнему веселый, настроенный и кричать и двигаться, попытался разглядеть с дивана, что она там делает на кухне. Ему видна лишь мотающаяся по стенке тень Тамары, – она забралась на табуретку и тянется к горячей, яркой лампочке под самым потолком и внимательно, изучающе разглядывает на свет собственную ладонь.
– Что ты там делаешь? – удивился он и начал ногами шарить шлепанцы. Тамара поспешно спрыгнула с табуретки и появилась на пороге. Он поднял навстречу веселое лицо, задорную улыбку человека, которому наскучило одиночество и неподвижность. Ей бросилась в глаза только сейчас замеченная худоба мужа. Особенно поразили ее уши – большие, как бы отросшие, и сильно оттопыренные. Но ему ничего, он улыбается, смеется и хочет подняться на ноги, задорно поддергивая неряшливо закатанные рукава несвежей рубашки. Тамара прикусила губу и, сильно зажмурившись, затрясла головой, как бы не желая видеть похудевшей растрепанной головы мужа, бледных, словно у болевшего подростка, рук и – уши, ужасные эти уши!.. От жалости, которая у женщин сильней и долговечнее любви, у нее сами собой брызнули слезы.
– Борька, милый! – вскрикнула она и, бросившись к нему, опрокинула его обратно на подушку. – Борька… Ты у меня самый хороший! Самый, самый…
Соскользнула и шлепнулась увесисто на пол старинная книга.
– Том!.. – забарахтался Борис Николаевич. – Помилуй, что с тобой? Ты меня утопишь!
Кое-как ему удалось приподняться, и он начал успокаивать жену.
– Слушай, сумасшедший ты человек! А ну-ка, ну-ка, давай сюда твою мордаху. О, сколько мокроты! Что случилось, Том? Тебя обидели? У тебя неприятности? Ты мне-то можешь рассказать?
Зажмурившись еще крепче, Тамара затрясла, затрясла головой, потом, понемногу успокаиваясь, обеими руками принялась утирать заплаканные щеки.
– Ну что вдруг за истерика?.. А, Том?
Она вздохнула, высвободилась и ушла.
– Пойду умоюсь.
«Вот номера-то!.. – удивился он, не зная, промолчать ему сегодня или все же настоять и добиться, что случилось. – Не стоит пока…»
– А мы тут с Зямкой, – громко заговорил он, едва в ванной стих шум воды, – мы тут с Зямкой, знаешь, о чем толковали? О бессмертии души.
С полотенцем через плечо, утираясь, Тамара показалась из ванной. Припухшие глаза ее смотрели виновато.
– Ты не обращай, пожалуйста, внимания. Я сейчас в редакции была, там тебе одну бумагу передали.
– В редакции? Так давай ее сюда. А что за бумага?
– Тип этот… был в обкоме. Заявление оставил.
– Кухаренко? Мой друг Ромео? Так это же великолепно! Том, ты сейчас получишь удовольствие – первый класс! Уверяю, таких сочинений ты еще не читала. Давай, где оно у тебя?
– Великолепного, по-моему, мало. Там и о тебе. – Тамара уходила и принесла сложенную вчетверо бумагу. – Читай, я еще не разулась. А наследила!.. Ох, неряха я, неряха!
Лихо запустив пальцы в растерзанную шевелюру, Борис Николаевич быстро пробежал глазами пространное, обстоятельное заявление, тут же рассмеялся и со счастливым видом хлопнул себя по груди:
– Ну, что я говорил? Том, немедленно ко мне. Ты права – это жалоба. Просто блеск!
Он схватил жену за руку и усадил, заставил слушать, хотя она пришла в комнату с тряпкой вытереть пол.
– Я тебе кусочек, Том. Ну, пожалуйста! Вот отсюда. Смотри… Значит, так, внимание. «…В заключение позволю несколько сказать о второстепенном: это о моих субъективных качествах. Я исключительно ревнивый субъект, а это значит, и любвеобильный. Исключительно чистоплотный и страстный. Из простого крестьянина я окончил два высших учебных заведения, написал много разных работ по техническим вопросам, построил много промсооружений и даже целых городов типа Севастополь. Вспыльчив, но скоро отхожу. Во время вспышки, особенно когда мне прут ахинею, могу прибегнуть, в мужском обществе, к нецензурным словам. Очень люблю ласки и ласкать любимого человека. Обладаю, так сказать, даром домашней поэзии и частенько пишу…» Ну, не классика? Поправилось у тебя настроение? Это он о себе, обо мне там дальше. А вот в редакции у меня его стишата лежат, – вообще закачаешься!
– Слушай, Борька, неужели ты его в самом деле воспринимаешь только так вот, со смешочками? – возмутилась Тамара, вытирая пол и разгибаясь, убирая с лица упавшие волосы. – Этим заявлением возмущена вся редакция.
– Том, милый! Так ведь ископаемый же тип!
– Хорош ископаемый! Ты меня прости, но этот твой Ромео занимается самым элементарным принуждением к сожительству. Ну, она, конечно, дура набитая, но он-то! Видела я его сегодня собственными глазами и до сих пор не могу отделаться от впечатления. Мне он показался каким-то наглым захватчиком, – скажем, римским легионером, мясистым, с ручищами, ляжками, бычьим сердцем. Такой, как козленка, убивает старого ослабевшего раба и не знает никаких запретов в своих утехах… Или надсмотрщик с бичом на галерах… Ты не думаешь, что он может ее убить?
– Что ты! Такие убивают иначе.
– Но за что он на тебя-то взъелся?
– Э, Том. Мало ли… – Борис Николаевич поморщился. – Может быть, за то, что у меня нет такой здоровой глотки.
– Вот, вот! А мы все проповедуем, что мир наш с каждым нарождающимся человеком становится лучше.
– Ну, Том, будущее гарантировано нам на сто процентов, и не надо о нем так уж убиваться, – проговорил Борис Николаевич, с увлечением читая заявление.
– Кем, кем оно гарантировано?
Борис Николаевич оторвался от чтения и удивленно посмотрел на жену:
– Как это кем? Всеми. В конце концов оно гарантировано такими категориями, как честь, благородство, доброта. Совесть, наконец.
– Совесть! А ты думаешь, таких, как… этот твой… их совесть мучит?
– Кухаренко?.. Мучит, Том, – Борис Николаевич умудренно покивал. – Должна, по крайней мере. Просто обязана. И вообще, как я погляжу, человечество наше, несмотря ни на что, живет и довольно здорово развивается. Значит, в большинстве своем, в массе подавляет порядочность. А это главное.
– Вот Христосик-то действительно! – возмутилась Тамара. – Да этот твой Ромео любого проглотит и косточки выплюнет. И не поморщится!
– Ну, вы с Зямкой как сговорились! – расстроился Борис Николаевич и, отмахнувшись, стал дочитывать.
Потом ужинали, и Тамара, убирая посуду, долго гремела на кухне. Когда она управилась, Борис Николаевич опять лежал под пледом и задумчиво посасывал кончик карандаша. На коленях у него, на толстой книге, как на столике, лежало несколько чистых страниц бумаги. Занятый своими мыслями, он молча подвинулся и показал Тамаре место рядом с собой.
– Я тихо, – извиняющимся голосом проговорила она, укладываясь. – Так что-то сегодня устала!
– Лежи, лежи, – пробормотал Борис Николаевич. – Накройся как следует. Вот так. Ну, удобно тебе? Спи, я немного доработаю. У меня тут одна мыслишка прорезается, мне надо помолчать.
– Припадок гениальности! – тихонько рассмеялась Тамара и, прячась от света, укрылась с головой.
Решено было как-то сразу, и Борис Николаевич не успел опомниться, а Тамара уже созвонилась с Зиновием, мимоходом лихо сдернула с супруга одеяло и молодецки крикнула: «Але-гоп!..», повытаскивала из далеких углов запрятанные, почти забытые за лето вещи, захлопала ящиками, дверцами, дверьми, – словом, подняла тот самый переполох, когда в обжитой утренней квартире не стало спасенья от суеты, беспорядка и мелькания. «Идея овладела массой!» – иронически называл Борис Николаевич такие вспышки неукротимой деятельности жены.
– Нет, я намерен бороться с диктатурой! – проворчал Борис Николаевич, не слишком охотно спуская с постели бледные ноги с худыми мосластыми коленями, однако постепенно беготня и сборы передались и ему, и он, встряхивая, разворачивая, прикидывая на глазок выбрасываемые на середину комнаты вещи, стал покрикивать, что не видит толстых, вязанных крючком носков, которые он всегда надевал поверх тонких, тоже шерстяных, что у брюк оторвались внизу штрипки и что надо не забыть положить тюбики с мазью на самый верх, под руку, а не прятать на дно, – потом весь рюкзак перероешь, покуда найдешь.
– И гетры, гетры где?
Сборы были приятны. Голая нога хорошо легла в сухой, нагретый за горячей батареей носок, и Борис Николаевич с удовольствием повертел всей стопой, следя за тем, чтобы не осталось ни рубчика, ни морщинки. Трико, залежавшееся и пыльное, тонкая фуфайка, все теплое, плотно обтянули тело, и он почувствовал мускулы, крепость и силу, поиграл, подвигал плечами, ощущая повсюду прикосновение тугой податливой ткани. Брюки у него были старые, заслуженные, еще со студенческих времен, когда за зиму приходилось чуть ли не каждый месяц выступать на соревнованиях. Огорчало, что пропали, завалились куда-то гетры, – тогда нога, обтянутая поверх брюк до колена, выглядела бы совсем как у гонщика: поджарая, неутомимая – одни мускулы и сухожилия. Без гетр брюки чуть полоскались внизу и человек утрачивал спортивность, устремленность, а обретал какой-то дачный прогулочный вид сгоняющего жирок горожанина.
– Обойдешься без гетр, – заявила Тамара, понемногу утихомириваясь в сборах. – Будем кататься чинно и благородно, как солидные взрослые люди.
– Променад пенсионеров! – усмехнулся Борис Николаевич, не переставая собираться.
– Я не помню, – спросила Тамара, – Зямка хоть стоять на лыжах умеет?
– Вы с ним одного примерно класса, – ответил он, сильно затягивая шнурки на ботинках. Тупоносые, пахнувшие мазью ботинки сели плотно, обняв всю ступню до щиколоток. Ноги были в порядке. Он взял с развороченной постели пестрый, давно не надеванный свитер, просунул голову и, убирая с глаз волосы, почувствовал, как теплый шерстяной ворот высоко охватил шею, заставляя задирать подбородок. Цокая пластинками ботинок, Борис Николаевич стал ходить по комнате, собирая последние вещи.
Тамара, тоже в свитере и туго натянутых брюках, хлопотала на кухне, готовя бутерброды. Волна волос то и дело сваливалась ей на глаза, и она отбрасывала их рукой с зажатым в кулаке ножом.
– Лыжи в кладовке! – крикнула она, выглядывая из-под свалившихся волос.
Лыжи были заставлены, загромождены какой-то рухлядью. Борис Николаевич вытащил их и несколько раз стукнул об пол, разглядывая. Они перестоялись за лето, были сухи и ободраны, но сберегались, как положено: на распорках. Он щелкнул по парусиновым мешочкам, которыми были затянуты загнутые концы лыж, – поднялся серый фонтанчик пыли.
– Брось! – крикнула Тамара, заметив его раздумчивое разглядывание. – Намажемся на месте. Посмотрим, какой снег.
Она шуршала газетой, заворачивая бутерброды.
В эту минуту над входной дверью загремел, залился звонок, – приехал Зиновий. В коридоре стало тесно. Борис Николаевич почувствовал, как из дверей по ногам стегнуло холодом. Зиновий был все в той же шапке пирожком, но в пиджаке, натянутом на свитер, в шарфе и стареньких неглаженых брюках от костюма, заправленных в белые носки. Поставив увязанные лыжи в угол, он, как был в перчатках, запустил под очки большие пальцы, протирая запотевшие стекла. Румяное лицо его морщилось от удовольствия.
– Погода – прелесть! – доложил он, укрепляя очки. – Великолепная идея. Кому это стукнуло в голову?
– Диктатору. – Борис Николаевич, одетый, натягивал на уши вязаную шапочку и кивком головы показал на кухню.
– А что? – серьезно сказал Зиновий. – Диктатура иногда – великолепная вещь.
В настывшем темном подъезде их шаги проклацали отчетливо и гулко. Дом еще спал. На крыльце их неожиданно встретило солнце и настоявшийся морозный воздух. Борис Николаевич на мгновение зажмурился, затряс головой: «Хорошо!»
Спускаясь по выщербленным ступенькам, он едва не упал: подкованные ботинки сильно разъезжались на снегу.
Они побежали к остановке, неся лыжи в одной руке и взмахивая другой, когда оскальзывались на твердых навощенных кочках.
Автобус брали штурмом. Над головами, сберегаемые от давки, плыли и исчезали в провале дверей увязанные и зачехленные лыжи, – много лыж. В этот ранний час обычные озабоченные пассажиры, наслаждаясь воскресеньем, еще спали, а за город направлялись крикливые стаи лыжников. Веселый штурм автобуса был для них началом хорошего, бодрого дня.
Несколько парней в автобусе, одни, без девушек, были одеты тщательно и скупо, ничего лишнего, и Борис Николаевич, разглядывая их сухощавые гончие фигуры, будто в себе самом ощутил их горячую, нетерпеливую кровь, их нарастающий азарт от близкого свидания с пустым заснеженным лесом, где раскатившемуся человеку нет никаких помех отбрасывать назад преодоленное пространство. Среди шумливых поющих горожан, набившихся в автобус, они выделялись молчаливостью, лишь иногда кто-нибудь из них обронит словечко и все они посмотрят в окна. Это были зимние бродяги, навсегда преданные одинокому безмолвию гонки.
Миновали окраину, большие новые дома, стоявшие на взгорке. За ними начинался лес. Где-то здесь, в одном из домов, жила Софья Эдуардовна, сюда же приглашал журналиста на снег и на воздух здоровенный бугай Кухаренко. Автобус катил быстро, Борис Николаевич успел лишь мельком разглядеть знакомые места. Отсюда он написал свою первую серьезную заметку, отсюда же и первый фельетон, потом написался другой фельетон, еще и еще, и новое увлечение стало как бы специальностью. К нему теперь и приходят в редакцию, как к специалисту на прием…
Скоро автобус, качнув всю массу плотно сбившихся людей, остановился, и в заскрипевшие двери вывалились первые приехавшие. С невысоких горок, усыпанных пестрой россыпью ярко одетых лыжников, доносился звон голосов и смеха. Через раскрытые узкие двери виднелось сверканье снега, мрачная строгая зелень сосен и пролетающие по склону разноцветные фигурки.
– А мы? – нетерпеливо спросила Тамара, оглядываясь на мужа. Она была возбуждена, красива, раскраснелась и блестела глазами. Парни-бродяги, сидевшие молчаливо впереди, нет-нет да и отметят ее ленивым медлительным взглядом.
На вопрос жены Борис Николаевич презрительно скривил губы:
– С горочки на санках? Мы поедем дальше.
Молчаливые парни уже давно засекли его и отметили в нем своего – бывшего лыжника. Ему не хватало лишь гетр, и он чувствовал, что озноб касается его необтянутых ног.
Они вышли все вместе на далекой лесной остановке. Одинокая дорога тонула в нетронутом снегу. Здесь было пусто и тихо. Автобус, поплевывая вбок синим дымком, укатил и скрылся за поворотом.
Парни молча развязали лыжи, вколотили ноги в крепления и, все такие же молчаливые, скрылись за кустарником. Раз или два донесся тонкий скрип снега под лыжной палкой.
За дорогой, по ту и другую сторону, возвышались в небо могучие державные колонны сосен, и, видимо от их величия, от их высоких мрачных крон, здесь не было такого блеска, как возле города на горочках. Тени на крупном вымороженном снегу лежали тихие, едва заметные. Вверху постоянно угадывались шевеление и шум, и снег между рыжими колоннами сосен был усыпан редким мусором иголок.
Сонно, одна за другой, опускались сверху медленные, малокровные снежинки.
Зиновий, задрав голову и придерживая рукой шапку, наблюдал за беспечной сорокой, уронившей с тяжелой ветки сухую кисею просыпавшегося снега.
– Прелесть! – сказал он, очарованно осматриваясь. – Просто здорово!
– Мажемся, мажемся! – кричала Тамара. – Боря, посмотри в рюкзаке тюбики. Я положила их в карман.
Голос ее звенел, но глох тут же, в великом снегу и соснах, непоколебимо подпиравших небо.
Узкая, с продольным желобком поверхность лыж была сильно изранена царапинами, поисточилась и иссохла. Уперев один конец в землю, а другой положив себе на плечо, Борис Николаевич резкими сильными ударами тюбика по дереву стал наносить частые мазки. Тюбик крошился, затачиваясь с одного бока и теряя в мазках на дереве свой глубокий бутылочный цвет.
Растирать мазь он принялся сначала пробковой распоркой, а затем ладонью, держа лыжу на весу за дужку крепления. Широкие ритмичные взмахи руки по всей длине лыжи разогрели дерево, комочки мази растопились, сильно запахло хвоей. Скоро горячей, пылающей ладони стали нечувствительны царапины, дерево заскрипело под рукой, покрываясь крепким маслянистым глянцем.
– Прекрасная затея! – снова сказал Зиновий, весь распаренный, красный, неумело повторяя все, что делал Борис Николаевич.
Тамара отобрала у него лыжу.
– Клади пока мазь, а я разотру.
Волосы поминутно мешали ей, и она отбрасывала их сгибом испачканной руки.
– Ну, все? – спросил наконец Борис Николаевич, оглядывая попутчиков. – Тогда по коням!
Вдев носок ботинка в крепление, он нашарил шипы и туго затянул душку, пригибая ее вниз. Лыжа закрепилась плотно, став как бы продолжением ноги. Он вдел руки в ременные петли и, оперевшись на палки, несколько раз сильно, назад и вперед, подвигал ногами. Скольжение было хорошее.
– Ну-с…
Тамара уже откатилась от дороги и теперь, высоко поднимая из снега лыжи, выбиралась на пригорок.
– А снег, а снег пахнет, чувствуете? – кричала она, оборачиваясь.
– Ну-с, я вперед, а вы за мной, – сказал Борис Николаевич и мощно оттолкнулся палками. – Я предлагаю небольшой кружок по окрестностям. Или сразу курс на город? Все-таки забрались далековато.
– Командуй сам! – кричала Тамара, беспорядочно взмахивая палками и уминая снег. – Устанем, выйдем к автобусу.
– Мадам! – позвал сзади раскрасневшийся Зиновий, с упоением одолевая глубокий снег. – Мадам, предлагаю забег сильнейших. На Кравцова равняться нечего. Он нам не пара.
– Боря, ты далеко не убегай, – попросила Тамара. – Оглядывайся.
Судя по состоянию снега, недели две назад была оттепель, и Борис Николаевич вспомнил, что в самом деле не так давно стояли сырые ненастные дни. Неглубоко под свежим снегом образовалась плотная корка наста, и; если идти быстро, она легко выдерживала человека.
Сначала Борис Николаевич никак не мог освоиться с вольным размашистым шагом, но постепенно припомнилась забытая сноровка, и шаг стал длинным, накатистым, с широкой и ритмичной работой рук. Унялось и сердце, будто тело со всеми мышцами подхватило его учащенный темп, и дышать и двигаться стало легко и вольно.
С сухим шелестом раздавался под ногами сыпучий вымороженный снег, и Борис Николаевич, наклонив голову, видел мелькание острых кончиков лыж, попеременно обгоняющих одна другую. Они высовывались из-под снега, как перископы. Идти становилось все легче, и он с удовольствием ощущал, как захолодело от быстрого бега тело, как пружинят, напрягаясь, ноги и крепнут, наливаются плечи от резких толчков палками. Колючий морозный воздух покалывал гортань, но чем размашистей становились шаги, тем чаще и гуще вырывалось из груди горячее дыхание, и по тому, как загорелись и упругими сделались щеки, он чувствовал, что этот ясный, настоянный на хвое воздух вентилирует все его тело, выдувая изнеженную квартирную немощь.
Ему попались свежие следы, две ровных узеньких полоски, скупо прорезавшие снежный покров между соснами. Борис Николаевич вспомнил о парнях в автобусе. Несколько минут он шел по следу, раскатываясь еще сильнее, но потом свернул вбок и пошел своим путем, наблюдая все время, как загнутые кончики лыж режут никем не тронутый пласт снега. Следы попались ему снова, и он еще раз прокатился по чужой лыжне, но потом свернул и уж больше не соблазнялся, прокладывая свой собственный след.
– Бо-ря-а!.. – протяжно донесся до него далекий, глохнущий в могучем безмолвии леса крик. Он остановился, сильно и шумно отдуваясь. Сохли губы, сердце колотилось под фуфайкой – хоть удерживай рукой. Задирая ногу, он перекинул лыжи, став на свой же след лицом назад, и, ослабив колени, грудью навалился на палки, стал ждать.
Две фигуры, двигаясь близко одна за другой, маячили далеко между деревьями. Борис Николаевич, отдыхая, с улыбкой наблюдал, как они, глубоко проваливаясь на каждом шагу, неумело переставляли ноги.
Озябли плечи, и Борис Николаевич, разогреваясь, несколько раз взмахнул руками.
– Ну, тянетесь вы, ну тянетесь! – встретил он их. – Да ноги-то сгибайте. Что вы как деревянные?
Зиновий, трудно дыша всей грудью, остановился и растопырил руки, упираясь в палки. От него валял пар, он боролся с одышкой.
– Старик… не кощунствуй. Помни… часовой стрелке… не угнаться за минутной. Зато она и показывает-то… часы!
Борис Николаевич рассмеялся.
– Сомнительное утешение на гонках!
Тамара, тоже задыхаясь, блестела счастливыми глазами.
– Ну… тебе нравится? Ты далеко ушел.
Теперь, в лесу, он не казался ей больным, он выглядел и здоровей и мужественней смешного, неуклюжего Зиновия.
Борис Николаевич снова навалился на палки.
– Знаете, братцы, давненько уж не чувствовал я себя так здорово! Просто великолепно! Все-таки в нашем любимом и треклятом городе, в прокуренном своем офисе человек медленно, но верно закисает. Оттуда все и немощи. А здесь чувствуете, как всего тебя продувает? Насквозь! – С восхищением задрав голову, он половил языком редко падавшие снежинки. – Все эти дни, признаться если, я, братцы, ощущаю какой-то припадок, что ли, озарения. Такое, знаете ли, свалилось, как на столетнего. Мудрость, так сказать, возраста. Сам не пойму откуда… И вот бегу я сейчас, а в голове все шевелится, шевелится. Смотрите, – мы часто говорим: свобода, свобода, абсолютная свобода! И как эталон этого, лучшее доказательство люди всегда считали выбор пути – идти куда захочешь. Хоть на все четыре стороны! Но ведь что получается-то? Ведь, выбирая какую он хочет дорогу, человек совершенно не свободен. Совершенно! Это один обман. Выбрав дорогу, он уже тем самым подчиняет себя… или, иначе скажем, в зависимость ставит от воли строителя, проложившего эту самую дорогу. А тот, в свою очередь, наверняка был не свободен и зависел от заказчика, от материала и средств, от характера местности, наконец! И так во всем. Вот уж на что, кажись, медицина, а тоже. Вот тобой, Зям, что распоряжается? Болезни. Само существование человека. И ты от этого никогда не свободен. Какая-то всеобщая обязательность! Все равно что вечное вращение Земли. Человек живет, и одним этим он уже обязан и обязан. Сплошь и до конца дней. А всякие там права – это лишь жалкая компенсация за наши вечные и никогда не проходящие… Но чего вы ржете, черти?
– Старик, – рассмеялся, не в силах больше сдерживаться, Зиновий, – мне хочется достать блокнот и записывать твои мудрые мысли.
– Афоризмы! – подхватила Тамара. – Я, например, представляю себе даже обложку книги: «Б. Кравцов. Мысли. Афоризмы. Диалоги». Платон перевернется от зависти.
– А ну вас! – смешался Борис Николаевич и, толкнувшись палками, легко ушел вперед.
– Гении самолюбивы! – крикнула Тамара вдогонку.
Зиновий напутствовал:
– Ты не очень-то махай! Слышишь? Не на гонках.
– Догоняйте! – не оборачиваясь, крикнул Борис Николаевич, вновь входя в ритм быстрого бега.
Озноб в лопатках, когда он застоялся, постепенно проходил, шаг вроде бы снова стал размашистым и легким, но что-то, как он чувствовал, мешало теперь ходьбе, и Борис Николаевич, понаблюдав, заметил, что пропал прежний накат, и, как он ни старался, лыжи зарывались и не справлялись со снегом, – будто снег вдруг посыпали песком. Он стол слышать громкие шлепки задников и крепче налег на палки, хотя знал и помнил, что опытный лыжник никогда не станет насиловать рук в начале дистанции, – сила рук обычно сберегается к концу, когда устанут ноги. Те парни, зимние бродяги, сейчас наверняка поиздевались бы над ним… Наклонив корпус, он подчеркнуто четко стал отмерять крупные скользящие шаги, следя за накатом и отталкиваясь, когда нужно, палками. Снова зашелестел, расступаясь под лыжами, снег, и упругое сопротивление воздуха свидетельствовало, что ход наконец-то приличный, как вдруг при замахе ногой правая лыжа заскочила за пятку левой, и он не успел даже упереться палками, – упал грудью в снег. Подломился наст, и руки провалились глубоко в пушистую и холодную бездонную мякоть. Он неловко выбрался и поднялся, вытряхивая из перчаток зернистый крупный снег. Такой позорной запинки с ним никогда раньше не бывало, – разве что мальчишкой, когда только становился на лыжи.
Попутчики были где-то позади и позора его не видели. Он поспешил уйти подальше.
Пробуя раскатиться, набрать прежний широкий, размашистый ход, он снова упал, но на этот раз легко, на одно колено, успев выбросить перед собой палку. Отряхиваясь, он обнаружил, что противно дрожат непонятно почему ослабевшие вдруг колени, а на шее и запястьях, там, где плотно прилегал свитер, неприятно мокро и холодит: от растаявшего снега или от испарины. Но лицу было жарко, сильно стучало в висках. «Второе дыхание?» – подумал он, унимая вздымавшуюся грудь. Когда-то, на студенческих гонках, на третьем этапе эстафеты, он так же вот осекся посреди дистанции и, задыхаясь, не в силах справиться с дрожащими ногами, завистливо и раздраженно смотрел, как пролетают мимо соперники, оглашая притихший безлюдный лес требовательными криками: «Лыжню!» Он сходил и пропускал их вперед, но тащился тоже, ступая из последних сил, и вдруг как-то само собой унялось и затихло сердце, окрепли колени, и он задышал, задвигался, покатился, набирая ход, и уже летел, махая метры и метры, и доставал убежавших далеко вперед, наступал им на задники, требуя яростно и громко: «Лыжню!»