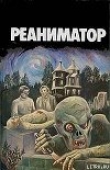Текст книги "Короткий миг удачи (Повести, рассказы)"
Автор книги: Николай Кузьмин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц)
– Вот видишь, – и долго стряхивала с папиросы пепел, – а ведь тогда отказывался. Понравилось. Но не бойся – заплатим, не обидим. Я слышала – твоя-то и переезжать не хочет. Что же решили делать?
Павел покраснел мучительно, до слез. Не помнил, как и вышел. «Нет, к черту все! Не хватало еще… Позорище, стыд какой… Узнали бы ребята! Тьфу!»
8
Дома его ждала счастливая присмиревшая Пелагея. Едва дождалась.
– Ну, иди. Смотри, – сдержанно теплилась она радостью.
– Ох, отстань только от меня, – отмахнулся Павел. – Не до этого…
У нее испуганно остановились глаза.
– Да, Павлик, да что с тобой?
– И не спрашивай, и не лезь, – отворачивался он. – Тут сквозь землю бы провалиться!
Она убито опустилась на стул, закрыла лицо.
– А я-то думала… Старалась. Для себя, думаешь, все? Для тебя же, все как лучше хочешь.
– Слушай, ради бога, перестань! И так тошно.
– Ну вот…
– Хорошо, чего у тебя там?
Пелагея притихла, всхлипывая, рассказала, что давно уж собиралась прикупить вторую корову. Вот, купила… Вела, радовалась… Думала, что и он…
– Одна-то корова на мне была, другую на тебя записала бы… И налогу бы никакого не было. Так ты…
Павел только руками развел:
– Вот… – и не договорил, задохнулся, выскочил из комнаты. «Теперь только козы не хватает!»
В темном сарае стояла покупка – высокая, крупной кости корова, жевала сено. На скрип двери она повернула голову и равнодушно выкатила на Павла сверкнувший антрацитовый глаз – совсем не признала в нем хозяина. «Тут и не распутаешься… Коровы эти, курочки, козы. Насос еще… – со злостью вспомнил он недавние свои восторженные надежды. – Уж хоть бы затопляло, что ли, скорей!»
В комнате, подав ужинать, Пелагея подошла сзади, припала к его сердито сгорбленной спине.
– Все-то ты недоволен, Павлик, все дуешься… А ведь тут твоих денег ни копейки, свои выкладывала.
Павел бессильно опустил ложку.
– Да разве я об этом!
– Все я вижу, все знаю, – прошептала она, глотая слезы. – Отдам я тебе эти деньги. Вот наторгую и отдам. – И ушла в горницу, на постель – плакать на всю ночь.
Осунувшийся, небритый Павел ворочался во дворе артели – монтировал моторы. Нужно было заканчивать их установку – и к черту. Не рад был, что и связался. После ссоры с Пелагеей он ходил туча тучей. Приплюхался было пронзительный дед – подержать, подать что, – но Павел так рявкнул на него, что тот молча, балансируя костылем, удалился чуть ли не на цыпочках. Фаина Степановна все эти дни наблюдала за ним издали, с крылечка, словно догадываясь, что с ним происходит; не подходила. Только вечером, когда Павел наконец закончил опостылевшую установку моторов, она вышла, остановила его и молча подала деньги. Накинув на плечи старенький пиджачишко, Павел так же молча взял деньги и, не считая, сунул в карман.
Фаина Степановна долго смотрела ему вслед, потом неизвестно к чему произнесла:
– Ну, вот и еще один.
И по-женски пожалела Пелагею.
Павел, смутно решаясь на что-то окончательное, быстро шагал домой. Стешку он заметил еще издали и хотел разминуться с ней по другой стороне улицы. Было не до разговоров, не до зубоскальства. Но бойкая девка не постеснялась перейти дорогу.
– Уж не на свиданье ли опаздываешь?
Павлу ничего не оставалось, как остановиться.
– Чего тебе?
Стешка удивленно заиграла бровями:
– Ничего себе – хорош кавалер! Ты что, всех так встречаешь? У-у, какой злой! Павлик, ты чего? Тебе бы радоваться надо – с покупкой. Совсем куркулем становишься!
И умолкла, прикрылась рукой, испугавшись остервенело дернувшегося Павла.
– Я б тебе сказал!.. – выдохнул он, уничтожая ее бешеными глазами. – Взяли привычку!..
Пелагея стояла во дворе с ситом корок и голосисто звала гусей: «Тега, тега, тега…» Крупные, заматерелые за лето гуси вразвалку тянулись во двор. Старый гусак с костяной шишкой на клюве стал в самой калитке и о чем-то гортанно предостерегал проходившую мимо него стаю. Павел с ходу пнул гусака в бок, и тот отлетел, обиженно загоготал. Стая брызнула врассыпную.
Пелагея, бросив сито, кинулась к Павлу:
– Чего это он тебя? Уж не укусил ли? Да я его тогда…
Павел проскочил мимо.
– Никто меня не кусал. Отстань.
Скинув пиджак на ступени крыльца, он направился в огород, к колодцу – умываться.
– Господи, уж и гуси ему мешают! – горестно воскликнула Пелагея, собираясь заплакать.
Начерпав кадушку, Павел с наслаждением окунул голову. «Фу-у, дела… Вот и лето проходит, а искупаться так и не пришлось».
Над деревней показался самолет. С оглушительным треском он поплыл над самыми тополями, сделал над деревней два круга. Задрав мокрую голову, Павел смотрел на его зеленое брюхо, легкие крылья этажеркой и почти различил лицо летчика. Холодная вода текла Павлу за ворот, по груди.
На улице восторженно визжали ребятишки:
Эроплан, эроплан,
Посади меня в карман…
Самолет улетел к горам, потом вернулся снова, уже на порядочной высоте. Павел видел, как летчик прощально помахал рукой. Еще минута, две, и самолет стерся на блеклой синеве вечереющего неба – ушел, полетел в сторону широких дорог.
Павел насухо вытер голову и долго стоял, бездумно глядя под ноги. По двору беспризорно бродили гуси, обиженный Павлом гусак теребил валявшееся на земле сито – все добывал какую-то прилипшую корку. В сарае тихонько замычали непоеные коровы.
На улице Павел увидел разноголосую толчею баб и ребятишек; пронзительный голос покрывал все:
– А какой цель хотел ероплан? План. Да. Зачем? Чтобы зато… – что? – затоплять. Верно.
От этой группы, едва только Павел показался из ворот, отделилась неузнаваемая в сумерках фигура и направилась к нему. Когда она подошла поближе, Павел узнал Стешку.
– Слушай, – робко коснулась она его локтя, – ты чего сегодня рассерчал? Ведь честное слово…
– Ничего я не серчал, с чего ты взяла? – Павел недовольно дернул плечами. Стешка пошла рядом.
– Ты подожди, Павлик…
Он фыркнул:
– Вот Пелагея тебя увидит. Она тебе…
– Боялась я ее! – заносчиво вскинула голову Стешка.
– Смотри…
– Ну это ладно. Ты-то что – обиделся?
Павел усмехнулся. Спросил:
– Ты сестру там не видела? Хоть бы домой ее отпустили на денек.
– А кто ее держит? Сама старается. Анна у тебя правильный стала человек.
– Пусть хоть проститься придет. Теперь когда еще удастся.
Стешка насторожилась:
– Проститься? С кем? Павел, ты чего?
– Ладно, ладно, это я так.
– Да постой, куда ты? – Павел остановился. Стешка пыталась заглянуть ему в глаза. – Ну, перестань. Приходи сегодня в клуб. Танцы будут.
– Вот, вот, – издевался Павел. – Мне сейчас как раз только танцев не хватает.
Стешка опять придержала его за руку, заторопилась:
– Ну, не хочешь, давай где-нибудь…
– Чудной ты человек! – только и нашелся что сказать Павел. Гордая, неприступная Стешка, сникнув, недоуменно смотрела ему вслед. А он, не думая о жестоком равнодушии своих слов, шел прямо по улице, за деревню, – сам не зная куда.
…Домой он вернулся поздно – пропели вторые петухи. Ущербная луна заливала сонную деревню малокровным неживым светом. Блестела наезженная дорога, копнами чернели избы. Во дворе он заметил по-прежнему валявшееся сито. Вздыхали в сарае коровы.
Павел осторожно вошел в избу. Через не закрытое ставнями окно падал мутный лоскут света, маленьким половичком стлался у кровати. Пелагея спала нераздетой – видимо, ждала. Лицо ее было спокойно, только красивые густые брови нет-нет да дернет измученная, беспокойная гримаса. Наверно, и во сне она переживала свою неудавшуюся вдовью жизнь.
Под ногу Павла попал какой-то твердый предмет. Он нагнулся и поднял. Это был маленький флакон из-под духов. Собственно, духов в нем не было давно, и Пелагея наливала в него кипятку, чтобы настоялся он прилипчивым дорогим запахом. Только теперь Павел ощутил слабый нездешний аромат. «Ждала…» Он постоял, подумал – что же у него осталось в душе напоследок? Была только жалость. И сделал единственное, что мог, – достал из кармана и положил на стул деньги. Все, до копейки…
После этого, зажав в руке пустой флакон, он вышел из избы.
Остаток ночи Павел шел широким, легким и вольным шагом. А когда совсем рассвело и густым заревом полыхнул восток, он добрался наконец до реки. Широкая, могучая, она несла в себе радостную неудержимую силу. Розовое небо опрокинулось в ней возле далекого берега, и разгуливавшийся, набиравший силу ветерок уносил застойную дымку утра и пятнил зеркальную гладь темными зализами.
Начинался день.
От тальниковых зарослей другого берега отчалила лодка бакенщика; черные весла разбивали золотое зеркало реки. «Проспал старик», – подумал Павел, наблюдая, как торопливо машут весла.
И, чувствуя, как холодит речная свежесть щеки, как вливается в грудь упругая гудящая радость, он закричал с обрыва неожиданно зычным, озорным голосом:
– Э-ге-ге-ей!..
Над рекой вставало солнце, щедро неся людям свет и заботы нового дня.
1957 г.

ДЕНЬ АНГЕЛА
Со света в сарае показалось темно, однако Марья не стала дожидаться, пока привыкнут глаза и ощупью пробралась в угол, где гнездились куры. Сухой, продутый ветром сарай давно стоял без надобности, потому что корову пришлось продать сразу после смерти матери, и теперь в хозяйстве оставались одни курицы, всего три, но хорошие – неслись исправно и всегда дома. Марья звала их по именам и особенно выделяла Барыню, самую любимую, степенную и важную. Другие курицы были гулены, таскались по чужим дворам и вечером зови не дозовешься, а Барыня ковырялась дома, – походит, поскребет лапкой, склюнет. Хозяйку она тоже любила и не боялась, ловить ее не приходилось, сама доверчиво давалась в руки.
Пошарив в умятых, насиженных гнездах, Марья нашла два яичка и очень удивилась, что в гнезде Барыни ничего не оказалось.
– Ты что же это, матушка? – озабоченно проговорила она и, нагнувшись, подняла с земли Барыню, которая, но обыкновению, неторопливо паслась возле ног хозяйки.
– Маш, а Маш, – позвали в это время с улицы, и Марья, не отпуская курицы, выглянула на свет и узнала соседку, разведенку Настеньку. Соседка быстро поманила ее рукой: – Подь-ка сюда.
С двумя яичками в руке Марья, щурясь, показалась из сарая и, пока подходила, спрашивала глазами, что могло случиться, какая надобность. Настенька, бабенка бедовая, часто прибегала за какой-нибудь пустяковой выручкой: то луку или соли, то оставить на часок ребенка, а раза два пустить просила, – это когда неожиданно наезжал Петруша, немолодой уж заготовитель, а у Настенькиной матери дежурство было в день.
– Слушай, Маш, – засекретничала соседка и все оглядывалась по сторонам, хоть подслушивать их было некому, – мы к тебе сегодня поздравлять придем. Ты будешь дома?
– Поздравлять? – не сразу догадалась Марья. – А кого поздравлять-то, с чем?
– Тебя, кого же еще? – настойчиво шептала Настенька. – С днем ангела.
– Хватилась, матушка! У меня уж когда прошло.
– Прошло? – И Настенька сильно расстроилась. – А я-то думала… Вот дура я, дура! Что же теперь делать?.. Ну, мы все равно придем, ладно? Я уж и дома сказала.
«Опять, наверное, Петрушу принесло, – улыбнулась Марья. – Так бы сразу и говорила».
И по глазам, по придыханию соседки она поняла, что так оно и есть.
– Да господи!.. – как всегда, согласилась Марья.
Настенька и не ожидала отказа. Она засмеялась и, снова оглянувшись, поманила товарку поближе.
– Только ты это… – зашептала она в самое лицо и не могла уняться, все блестела глазами, оглядывалась. – Мы, слышь, не одни придем. Ты окна занавесь, чтоб не пялились.
– Да кто будет-то?
– Тут видишь что получилось… Да подойди ты, чего я на всю улицу! У Петруши какой-то начальник приехал, новый человек, только в дело входит. Ну, мы и подумали его со Степанидой познакомить. А что ей? Я уж говорила, она согласная. У Нюрки конторской хотели, да у нее бабка заболела, дома лежит. Остаешься ты… Мы и тебе приведем, – они трое приехали.
– Да ой! – Марья закраснелась и прикрылась рукой. – Меня-то вам зачем?
– Вот дура-то! Третьего-то мы куда денем?
Но все равно Марье было приятно и радостно, что не забыли ее старые товарки, хоть и обходить стали последнее время, давно уж обходили, – Настенька еще ничего, приветливая баба, а вот Степанида как чужая, встретится и не посмотрит. И в радости, в предчувствии хорошего компанейского вечера Марья хоть сейчас готова была захлопотать чтоб к назначенному времени у нее все было в самом лучшем виде. Она еще не забыла, как принять гостей, и уж постарается, примет.
Убегая, Настенька наказала напоследок:
– Как подоишь – домой иди. Стемнеет, я и приведу.
Когда-то они собирались так вот часто… ну, как часто? Раз, а то и в два месяца раз. Горькое это было, но желанное вдовье веселье: один короткий угарный вечер. И хоть погано бывало по утрам, да и маменька жива была еще, ругалась, а все равно тянуло, и сначала Марья обижалась, что забывают ее подруги, только потом смирилась и затихла: они-то еще ничего, в теле, а ее работа вымогала до жил, особенно четырехразовая дойка, – провалиться бы тому, кто ее выдумал! – когда не только день напролет, а и ночью не выбраться было с фермы. Мужик и тот с такой работы надсадится.
Не забывала ее одна Настенька, – утром обязательно прибежит и, прыская, о многом недосказывая, поделится: где, кто, с кем. Но тоже что-то редко стали собираться бабы, обходили их заезжие кавалеры. Одна Степанида еще держалась, хоть и она неузнаваемо заматерела и телом и лицом. Или помогало ей, что в лавке работала, всегда на виду в на работу наряжалась, как городская? Степанида, и Марья знала об этом с девчонок, никогда себя деревенской не считала и ничего деревенского не любила. Большой уж девкой она вдруг исчезла из деревни и объявилась в городе, подавальщицей в чайной. Старик Милованов проклял ее и матери запретил даже поминать о беспутной дочери. Но вот дошли слухи, что со Степанидой нехорошо, что осудили ее по какому-то делу, а года через полтора она появилась и осела здесь навечно. Отец хоть и не прогнал ее из дому, однако до сих пор не заговаривал, не замечал, будто и нет ее на свете. Матери одно переживанье!
Наблюдая, как урывает свое беспутное бабье счастье Настенька, Марья много переживала и жалела всех: и себя, и Настеньку, даже Степаниду. Разве повернулось бы все так, вся их нелегкая, беспросветная жизнь, если бы не проклятая война, погубившая и искалечившая стольких здоровых мужиков?
Было еще одно терзанье у нее, собственное, и она делилась им с соседкой всякий раз, когда у той хватало времени посидеть и посочувствовать. Лет шесть назад Настенька свела ее с одним заезжим, свела вот на такой же вечеринке, и тот остался жить, будто и в самом деле нашел, чего искал. Но пожил недолго, с неделю, если не меньше, а через несколько дней Марья узнала о нем из повестки в милицию. Получив повестку, она забеспокоилась, зарубила курицу, яиц собрала и потащилась по осенней грязи на станцию, где он сидел в линейном отделении. Потом таскалась не раз и не два, сильно жалела его, а он не всегда хотел даже видеть ее и лишь торопил с передачами. «Да брось ты, на черта он тебе такой сдался?» – ругалась Настенька, но она все равно таскалась бы, если бы не суд и – всему конец. И до сих пор она нет-нет да и вспомнит: хоть и плохой был, а все-таки муж… мужняя жена, не огрызок, от которого всяк откусит и сплюнет. Сами же они, Степанида та же, называли себя огрызками и начинали понимать, что не от хорошей, видно, жизни придумано кем-то хмельное залихватское присловье, что в сорок пять баба ягодка опять…
Вечером Марья управилась на ферме скоро, половину дел оставила назавтра. Бидоны, например, и утром можно перемыть, если заявиться пораньше. Она торопилась домой и убежала рано, однако Настенька, уже наряженная и чистая, встретив ее, удивилась:
– О, ты еще не дома! А я к тебе.
– Ладно, ладно, я сейчас. Ты иди, я вперед побегу.
Успеть надо было много, и Марья, оглядываясь на вырядившуюся Настеньку, которая остановилась с кем-то возле клуба, соображала и никак не могла решить, за что же сначала приняться.
Стукнула косая разболтанная калитка, Марья вбежала, скрылась в избе и тут же показалась обратно, но уже без платка, простоволосая, захлопотавшаяся вконец. Барыня, как всегда, паслась дома, деловито и сосредоточенно разгребала у плетня. Пробежав в сарай, Марья посмотрела и не нашла других куриц: «Опять где-то шлендают, язвы!» А некогда было, так некогда! Она сунулась в один угол, в другой, затем вспомнила, где забыла топор, и сбегала в сенцы. С топором она все той же торопливой пробежкой подскочила к Барыне и неловко подхватила ее под мышку одной рукой. Сначала Барыня запротестовала, захлопала крыльями, но скоро успокоилась и, наклоняя головку, пыталась взглянуть на хозяйку, понять, что это с ней. В самой глубине студенистого немигающего глаза курицы светилась и любопытствовала какая-то крохотная неуловимая точка.
В сарае, у самых дверей, стояла древняя изрубленная колода. Марья вдруг больно вывернула Барыне крылья, стиснула в руке и стала пристраивать ее на выщербленной колоде пушистой взъерошенной шейкой. Глаз курицы налился кровью и яростно, протестующе завзирал снизу. Коротко, по-мужски замахнувшись, Марья ударила топором и тут же почувствовала, как напряглась в последнем усилии Барыня.
– Ну, ну, ну… – ласково проговорила она, отбрасывая топор и не давая курице вырваться, пока не выцедилась кровь.
С окровавленной, трепыхающейся курицей в руке, держа ее на отлете, чтоб не испачкаться, она вышла из сарая, когда во двор вступила Настенька.
– О! – удивилась наряженная соседка. – А тебе не жалко?
– Господи!.. – хлопотливо молвила Марья, бросая дергавшийся, весь встопорщившийся комок перьев у крыльца.
– И консервами бы обошлись, – сказала Настенька, медленно поднимаясь по ступенькам. Она несколько раз посмотрела, как билась, загребая коченеющими лапками, Барыня.
Марья позвала товарку и попросила слить на руки. Плескалась она экономно, но ловко, быстро, по-молодому, омывая длинные голые руки, шею и под мышками. Чтобы утереться, она достала старинное расшитое полотенце, но попользовалась лишь самым кончиком, оставив остальное для гостей.
Во что нарядиться, она знала еще утром, когда договорилась и ушла Настенька. Как-то в городе, на воскресной толкучке, ей попалась застенчивая девчушка, предлагавшая завернутую в газету совсем еще новую юбку со множеством отглаженных складок. Марья хоть и сразу польстилась, но выторговала у девчушки несколько рублей и осталась очень довольна покупкой. Хорошая попалась юбка и для нее подходящая. На прошлый праздник надевала, – была как все: и не скажешь, что тела совсем не осталось.
Раздетая, с тонкими плечами и худыми длинными руками, на которых совсем неожиданными казалась огромные темные ладони, она застыдилась перед Настенькой и быстро нырнула в сундук. У ней и белье было приготовлено: все как у людей. И, суетливо просовывая голову, одергивая, расправляя, она, как и всякая женщина, празднично возбуждалась от давно не пробованного запаха обнов.
– Сзади не погладить? – спросила она, поворачиваясь так и эдак, осматривая себя.
Настенька изучала ее придирчиво, но с каким-то непроходящим затаенным сомнением.
– Ты бы, Маш, хоть молока побольше пила, что ли…
– Так ведь пью! Не пью разве?
И все так же бойко крутилась, поправляла, – прихорашивалась.
– Губы тебе, что ли, подкрасить?.. На-ка вот. Или дай – я сама. Вот так… И тут еще. Во, во! Ну что ж, ты у нас девка еще хоть куда! Только не скалься шибко Мужик-то твой, он знаешь, что говорил? «Как, говорит, увижу ее, так ударить охота. Все десны выставит!»
Это Марья знала, это маменька ее наградила улыбкой. У других только зубы блестят, и они знай себе скалятся во весь рот, а маменька, а от нее и Марья сызмальства научились поджимать губы, а если уж приходилось, так прикрывались рукой… Однако о муже Марьином соседка раньше ничего не говорила, – вдруг сейчас что-то проболталась. Значит, было у них, раз делился он с ней. То-то Марья выведывать пробовала у него. «Что это, – спросит, – ты у нее опять сидел?» – «Да так, – скажет, – поговорить заходил». А в глаза и не посмотрит… Ладно, чего уж теперь?
Неловко Марье было в туфлях, – тоже новые и на каблуке, но от каблуков-то и мука. Ног не выпрямить, коленки торчат. Как они там в городе только ног не переломают? «Ладно, – успокоила она себя, – сяду за стол, и не видно будет».
Занавески соседка задернула сам? и проверила, надежно ли. Когда вспыхнул под потолком свет, Настя сказала:
– Ну, пошла я. Жди.
И Марья осталась, не зная, сесть ли за дело какое приняться, выйти ли навстречу. Она садилась, как гостья, и разглаживала на коленях юбку, перебирала твердые складки. К лицу то и дело подкатывал жар, щеки ее смуглели и молодели, и синими тогда, таинственными становились тени от ресниц.
Пришли, кажется!.. Она вскочила. И точно: в сенях затопали шаги, много ног, в дверь деликатно постучали. «Господи, стучат еще!..»
Приоткрылась дверь, и в избу заглянул знакомый глаз, смешливый и лукавый, – Петруша, Настин хахаль. Немолодой уж, волос лезет, а все Петруша. В деревне его так и звали: хахаль.
– Позвольте?
И мигнул, сощурился, настраиваясь на веселость, как свой человек в доме.
Видно, его толкнули сзади, он вошел, оставил дверь открытой. И у Марьи опустела голова, поплыло в глазах. Она стояла и подавала дощечкой руку: Петруше сначала, – тот с какой-то обязательной прибауткой и подмигиванием, потом неторопливому и важному, в костюме и галстуке, Семен Семенычу, самому главному, и наконец третьему, низенькому, совсем без шеи, который еще издали, из сеней, так и стриг ее глазами, не отрываясь. «Этот!» – еще больше растерялась Марья и не знала, как ступить, что сказать. В голове у ней сложилось сразу, что Петруша, конечно, с Настенькой, – вон они уж и хозяйничают в избе, как свои люди, – важный и солидный, с галстуком, ясное дело, для Степаниды – он и не отходит от нее, то за руку, то за талию придержит, усаживая на скрипучий ненадежный стул, а Степанида, умело затянутая где надо, пышная и совсем городская, только усмехается накрашенным ртом, а если что и скажет, так вбок, через капризную губу. «Ну, это пока не выпила», – хорошо знала Марья. Из головы у ней не выходил наказ товарки, и, подавая своему руку, она на всякий случай прикрыла рот. А он, как только ступил через порог, потух почему-то, скуксился и имя свое буркнул так, что она и не разобрала.
В избе все вроде бы пошло, как и положено Петруша с Настенькой мельтешились, собирая на стол; Семен Семеныч, доверительно наклоняясь, ворковал над ухом надменной Степаниды. И только сама хозяйка сидела, как была, прикрывая счастливый рот рукою.
– Курицу-то когда варить? – как по секрету спросила Настенька и незаметно пощекотала ее, чтобы была поразговорчивей, не давала низенькому киснуть в одиночестве.
– Ставить надо, – откликнулась Марья и стала успокаиваться.
Несмело, но все чаще она поглядывала на своего и находила, что он хоть и не Семен Семеныч, а все же хороший, надежный человек. Сразу видно… На душе у ней потеплело, совсем стало тепло, она уже любила его, и жалела, и по-своему понимала все, что другие обязательно обратили бы в насмешку. Что ж из того, что коротковат, – рост, он от бога, от отца с матерью. А что в теле и посапывает, так это, полагать надо, от сердца. Годы-то немолодые, сердце надсажено, да ко всему и продуло где-нибудь в дороге. Погода, хоть и лето, гнилая, у Настеньки вон ребенка едва отходили, а всей и простуды было, что искупали в корыте у колодца. И молчаливость его понимала, – не всем же как Петруше-балабону. Человек основательный, серьезный…
Настенька, часто обращаясь к ней то за тем, то за другим, начинала сердиться и больно толкала ее, чтоб не сидела букой, веселилась бы. А Марье и было весело, но, чтобы не торчать, не мозолить всем глаза, она догадалась помогать соседке и скоро забегала, залетала из избы в погреб, доставая, что надо, и совсем не боясь запачкаться. Постепенно она даже оттеснила Настеньку, собираясь все сделать сама. Не надо ей помогать, маменька, бывало, никакой помощи не терпела, и все у ней в руках горело, любая работа. А бегая, она нет-нет да и посмотрит на низенького: замечает ли он, какая она в хозяйстве? Это не Степанида, у которой с ногтей краска не сходит. Мать, рассказывают, замучилась с ней. И что только мужики в таких находят? Ну, мяса нарастила, а еще что? Вон у Семен Семеныча, хоть он и при галстуке, а рубаха, видать, неделю не стирана. Думаешь, постирает Степанида? Как бы не так! Не из таких. На другой день она и не посмотрит, – мимо пройдет, не узнает. Было уж как-то: полюбезничала вот так же с заезжим циркачом, а наутро нос в сторону. Серчать принялся циркач, насилу успокоили бугая. А отцу с матерью лишний позор, – скандал-то на улице, на всю деревню…
Когда все было готово: начищено, нарезано и только на огне еще кипело и булькало, она спохватилась. Все определились парами, и только низенький сидел неприкаянно, хмуро разглядывал собственные ладони. Она даже задохнулась от жалости и умиления: да родной ты мой! Подсела, бросила все и стала смотреть на него, ломать голову, о чем бы заговорить. О маменьке разве рассказать, которая была мастерица на любую работу, – только, бывало, подумает, а уж раз – и все готово? Но в это время сначала Петруша, а затем Семен Семеныч обратили наконец внимание на всю компанию и стали рассказывать такие дивные вещи, что Марье и говорить не пришлось.
Петруша выдумал какую-то байку, – а может, и не байку, кто его разберет? – рассказал он о каком-то профессоре, который пришил своей собаке вторую голову. Байка получилась занятная, и даже Степанида обратила на него свой мрачный взор, в котором навсегда застыла осатанелость от настырных покупателей.
– Ну и что? – спросила счастливая своим ухажером Настенька, помогая ему развлекать компанию.
– А что? Пошел, дурак, с собакой гулять, а башки и загрызли одна другую! – И Петруша захохотал, залился, будто удачно придумал разгадку. Пустой все-таки человек.
Затем вниманием с достоинством овладел Семен Семеныч, однако слушать его Марье пришлось вполуха, потому что она не столько слушала, сколько радовалась тому, что вот как все счастливо получилось, что сидят в ее тесной, неприглядной избе чистые, нешумные люди, ведут хорошие разговоры, все по-городскому, без деревенского гама, и надо будет ей все же одолеть проклятую маменькину робость и, когда сядут за стол, поднять рюмку и что-нибудь сказать. Ну, поздравить кого или сказать спасибо. Она видела, что Настенька и Петруша о чем-то сердито шушукаются, он чего-то выговаривает ей и трясет негустой своей завитой прической, она оправдывается, и оба почему-то напряженно избегают взглядывать на нее, – но это их дело; видно, что-то ему не нравилось, за столом помирятся, а самой Марье не терпелось дождаться, когда наконец сварится курица, чтобы позвать всех за стол и сесть рядом с низеньким. Они еще разговорятся, она найдет что сказать, – не дура же набитая, не Монька-пастух, деревенский дурачок!
Тем временем Семен Семеныч с поднятым пальцем и задумчивыми глазами в потолок припоминал что-то певучее и сладкое: стихи. Всем понравилось, и теперь слушали только его, а Степанида, устав жеманничать, нетерпеливо поглядывала на булькающую кастрюлю, торопясь за стол, к первой рюмке. Полновесное ее колено давно примирилось с нахальной ногой Семен Семеныча.
– Маяковского надо читать, – с какой-то утомленной мудростью проговорил Семен Семеныч и пальцами побарабанил по коленке. – Читать надо Маяковского Его сам Сталин любил… И вообще на свете много интересных книжек.
– Вы Есенина любите? – спросила Степанида, устремляя на него черный взор сильно подведенных глаз.
Семен Семеныч, как бы удивляясь наивности вопроса, снисходительно прикрыл веки и неуловимо повел бровями: дескать, о чем вопрос?
– Но между прочим, интересно заметить, – вдруг оживился он, как бы мимоходом, но плотно взглядывая на могучую светлую брошь Степаниды, – интересно заметить, товарищи, что тот же Маяковский застрелился от одной ин-те-ресной болезни! Да, да!
– Ой, расскажите! – вырвалось у Настеньки, и она, едва не забывшись, снова поймала шкодливую руку Петруши, чтобы до времени не давать ей воли.
– Затравили, я слышала… – неуверенно произнесла Степанида, и в глазах ее пропала привычная осатанелость. – В школе же проходили…
– В школе! – тонко усмехнулся всезнающий Семен Семеныч. – В школе этого не проходят, девушки… Порешил он себя от болезни… хе-хе!.. чтоб носик, носик у него не провалился.
– Фу, какие вы кошмары рассказываете. Семен Семеныч! – всплеснула сдобными руками Степанида. – Фу!
Как котенок лапкой, она игриво шлепнула кавалера по неугомонной коленке. Семен Семеныч оживился еще больше и проворно оглянулся на долго булькающую кастрюлю.
– В литературе, Стеша, вообще много загадочного. Очень много. В литературе и искусстве… А вы думаете, Петр Первый от чего умер? – Он подождал и не дождался ответа и покивал умудренной головой, удовлетворяя всеобщее любопытство: – От того же самого. Точно!
– Кошмарно! А Есенин? Семен Семеныч, скажите, ради бога, – а Есенин?
– Есенин вас интересует? Гм… Тут, знаете ли… наверняка утверждать не берусь. Он ведь был за границей. Был! А заграница эта, знаете ли… – и пальцами пошевелил весьма многозначительно.
– Тогда им так и надо! – неожиданно озлобилась Степанида, раздувая дородную шею. – Ума не приложу, и чего люди рвутся в эту заграницу?
Стала она сейчас таков, как в лавке, и в гневе даже колено убрала от присмиревшей ноги Семен Семеныча. С рассерженной Степанидой, если ее не успокоить, сладу обычно не было, она могла и по-лагерному брякнуть. Но хорошо еще, что не выпито нисколько! И Марья поспешила замять невзначай возникшую размолвку.
– Так ведь там, чай, тоже люди живут! – примиряюще сказала она и с детской своей, бесхитростной улыбкой, не закрываясь, обвела глазами всех, кто сидел вокруг.
Но Степанида, видать, не поняла ее или не так поняла, – чуть поворотив надменную голову, взглянула на нее, как из-за прилавка. И Марья спохватилась, кинула на губы пальцы: кажется, не то она огородила! Семен Семеныч осуждающе пожевал губами, – он тоже не одобрил непродуманного высказывания хозяйки.
– Борются с этим, – скупо сообщил он тоном человека, близкого к большим секретам. – Недостаточно пока, но борются.
Из уважения к значительности недосказанного все помолчали, затем Степанида переборола себя и первой сделала покаянное движение коленом.
– Писатели эти – фу! И за что им только такие деньги платят? У меня в городе подруга в сберкассе работала, так она порассказывала!
И все могло пойти как прежде, все наладилось бы, не встрень Марья снова в разговор.