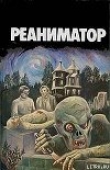Текст книги "Короткий миг удачи (Повести, рассказы)"
Автор книги: Николай Кузьмин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)
Слабость, как ни напрягался он, не проходила, и он уже три или четыре раза валился прямо в снег, все медленней выпрастываясь и вставая, и уже не вытряхивал перчаток. Лыжи теперь не представлялись надежным продолжением ног, хотя ботинки и крепления по-прежнему плотно зажимали обессилевшие ступни. Он узнал тяжесть лыж, изнуряющую тяжесть этих изящных полосок отборного легкого дерева. Вот они наехали одна на другую, крест-накрест, и он, покорно выставляя руки, снова повалился в снег.
Он пошевелился, поднял голову, но прикосновение снега к лицу было приятно, и он снова лег. Руки провалились глубоко-глубоко, не доставая до земли. Усиленно моргая, чтобы убрать снег с ресниц, он долго смотрел на неожиданно изменившийся мир, на все, что было вокруг и стало вдруг иным. Он смотрел глазами поверженного, обессилевшего человека и поразился множеству деталей, которых раньше, пробегая во весь дух и торопясь, не замечал, не имел времени разглядеть. Близко возле глаз разбросан был изысканный мусор опавшей хвои, кристаллы вымороженного снега вблизи казались крупными, как удивленный глаз большого насекомого, он увидел обесцвеченный морозом кусок озябшей земли у комля сосны и редкой красоты узор инея на стылом подбое оранжевой коченеющей коры.
Наверху, он теперь это слышал, не переставали качаться скудные кроны сосен, и шум, глухой, почти отпевающий, стоял в засыпанном снегом лесу, нисколько, впрочем, не нарушая храмовой, величественной тишины.
Снизу, грудью на снегу, он впервые заметил выпуклость земли, разглядел убывающий скат ее куда-то далеко, за большое пустынное поле, и там, за протяженным этим полем, снова темнела дружная стена леса, вертикального, большого и строгого, как соборный орган.
Лежа, поверженный и лишенный сил, он будто заново засмотрелся на небо, отодвинувшееся сейчас от него дальше привычного всего лишь на высоту человеческого роста. Голова поднималась, а он ронял ее и думал горячо и очень увлеченно, что каждый человек, разобраться если, – даже без мистики! – как сердится Зиновий… – каждый человек, пусть даже одинок и обречен, всегда есть часть большого вечного материка. «Нет, весь я не умру…» Значит, чувствовал и он то же, когда родил эти свои библейские пророческие слова…
Снег пахнул свежим подмороженным бельем, когда его внесут с балкона, и был сыпуч и шелестел под лыжами. Ему казалось, что наперекор всему, одолевая слабость, он разгонялся и скоро по завихренью воздуха возле горевших щек почувствовал, что скорость нарастает, как будто бы катился с кручи. «Уклон?» – подумал он, тревожно глянув в сторону. И точно, был уклон, крутой, покатый бок Земли. Шуршание рассекаемого снега переходило в тонкий свист, и лыжи заиграли, завибрировали, как легкие полоски на ветру. Нет, это слишком, подумал он, пугаясь быстроты, однако затормозить, убавить скорость был уже не в состоянии. Подхваченное плотным встречным ветром, тело зависло в воздухе, захолодело, земля летела мимо и навстречу. Мелькание в глазах, катились слезы, и он боялся: а ну какое-нибудь дерево или засыпанная снегом яма? Тогда конец, каюк, спасенья не будет. Из суеверия он тут же оборвал себя: не надо думать, даже мысли допускать!.. Однако было поздно – уже подумалось, и вот, как на заказ, возникла впереди зловещая стена кустов, возникла разом, моментально, и он успел только закрыть лицо и голову руками и испустил какой-то тонкий обреченный вскрик.
Падение было ужасно: треск сучьев, кувырканье тела, тяжелый, многотонный шелест обвалившегося снега. Его куда-то потащило, увлекло, но он успел схватиться за кустарник – схватился цепко, по-звериному и остановил свое падение. Оказывается, едва не улетел в обрыв, куда все еще сыпался холодный, равнодушный снег.
Как будто спасся, уцелел. Однако ноги с лыжами, все тело повисло над какой-то бездной. Там был провал, мрак, гибель безымянная, и он боялся посмотреть туда, чтобы не закричать, не испугаться окончательно.
Лозинки, за которые он уцепился, казались навощенными и медленно высвобождались, выскальзывали из перчаток. Руками без перчаток он смог бы ухватиться крепче!
Если бы хоть лыжи отстегнуть!..
Боясь пошевелиться, даже пискнуть, он ждал и представлял себе, как где-то далеко, по ровной и заснеженной земле, не торопясь и не сгибая ног, бредут Зиновий и Тамара. Когда-то доберутся, когда-то догадаются прибавить шагу!
– Господи, если ты только есть! За что, за что? Ведь глупый случай. Обрадовался, раскатился как дурак… Ну что же ты…
Вверху послышалось неторопливое скрипенье лыж. О боже, наконец-то!
Из-за кустарника, поверх, возникла голова, затем плечистая фигура в теплом свитере. Могучее ядреное лицо легионера на покое. Заглядывая вниз и упираясь палками, чтобы не сорваться, легионер увидел гибнущего человека и этому не удивился.
– Егор Петрович! – с надеждой заорал висевший над обрывом, но вышло шепотом, совсем неслышно, и все же оттого, что он позвал и шевельнулся, его напрягшее тело едва не сорвалось с конца согнувшейся лозинки. Руками крепче… все спасение в руках! Умолкнув, затаив дыхание, он звал, молил глазами снизу: скорее… палку, руку… что-нибудь!
Легионера мучила отрыжка. Он сморщился, коснулся горла и желчно сплюнул в снег. Затем, покачивая головой, поизучал плевок, толкнулся палками и покатился дальше. «Да ты… Да ты…» – так и застыл с раскрытым ртом висевший над обрывом.
Собрав всю ненависть, весь запоздалый гнев, он крикнул наверх:
– Подлец! Тебя же совесть замучит!
И только крикнул, как полетел, сорвался и стал парить, кружиться, словно палый лист, в каком-то мраке, со страхом ждать удара в землю. Но нет, удара не последовало, а вместо этого его втянуло в какую-то длинную и узкую трубу и сильным сквозным ветром потянуло, понесло, все убыстряя, вдаль и вдаль, к светившемуся в самом конце трубы пятну. Тонкий режущий свист так и стоял в ушах. Наконец им выстрелило, как из пушки, в глаза ударил дивный свет и он сразу почувствовал себя легко, свободно, радостно, – ни тяжести, ни даже намека на недавнюю усталость. А как дышалось! Вот сейчас только и бежать… даже лететь, лететь… И он действительно летел, парил, был счастлив, как никогда, радуясь тому, что все тяжелое, гнетущее осталось где-то там, внизу, а здесь он легче и беспечней птицы, бесплотный словно дух. Но самое счастливое ждало его дальше – он увидел родное, чуточку уже забытое лицо матери. Да, это была она… мать, мама, она смотрела на него издалека с таким участием, как это бывало в детстве, когда он сильно ушибался и плакал. Ласковый взгляд матери звал его к себе и обещал, что боль скоро пройдет, все снова станет хорошо. «Вот так бы жить и жить!» – подумалось ему, согретому и ободренному столь неожиданным подарком судьбы.
Но почему же и куда исчезло родное, доброе лицо? Поманило и исчезло… Внизу, среди кустов, в глубоком подмороженном снегу, он вдруг увидел самого себя. Качались сосны, серый день, унылое безлюдье, пустота, тоска. Как холодно и одиноко! Он стал спускаться… ниже, ниже… и вот уже снова ощутил изнурительную тяжесть немощного тела, исчезло упоительное ощущение свободы, легкости, с которыми он пережил несколько таких светлых, таких незабываемых мгновений.
…Очнувшись, Борис Николаевич открыл глаза, как после тягостного сна. Лицом в снегу, он закоченел настолько, что уже не чувствовал, как холодит и колется набившийся повсюду снег. В нем еще было живо странное ощущение пережитого освобождения от собственного тела, как от какой-то оболочки. «Бред… бред собачий! К черту!» Он завозился, намереваясь встать.
Пытаясь высвободиться из трясины снега никак не находил, во что бы упереться. Бесконечные проваливания, беспомощность ожесточали, но сил уже не оставалось. Тогда он лег и стал тянуться к лыжам, – нашарил, отстегнул крепления. Без лыж почувствовалось сразу же большое облегчение…
Снегу оказалось много, почти по пояс, и он побрел, поднял руки, будто переходил вброд речку.
За лощинкой, куда он спускался, намечался небольшой подъем, а там, в отдалении, только что промелькнул автобус из города, одинокий и очень нарядный в этих белых унылых окрестностях.
Хруст и вздохи снега под неумелыми тяжелыми шагами перемежались громкими прогулочными голосами.
– Зяма, куда мы так торопимся? Кравцова нам все равно не догнать. Подожди, я тебя отряхну. Я тебе снежком по шапке попала.
– Пустяки… – Зиновия одолевала одышка, но он упорно, с упоением топтал глубокий снег, сильно помогая палками. Позади оставался рыхлый безобразный след.
Внезапно он остановился.
– А вот… и след становий древних… – проговорил он, задыхаясь и сдвигая теплую шапку с мокрого, воспаленного лба. – Но позвольте, а где же наш философ?
Он в недоумении разглядывал брошенные в снегу лыжи и палки. Осмотрелся вокруг. Глубокая борозда вела вниз, в лощину, и пропадала в жидком голом кустарнике. Заросли внизу просматривались насквозь, и никого там не было. Зиновий настороженно поджал губы. Ни слова не говоря радостно задыхающейся Тамаре, идущей сзади по проложенному следу, он очень долго, подозрительно смотрел вниз, в лощинку, куда уводила борозда.
– А там? – вдруг задал он вопрос, указывая на лощинку рукой с повисшей на ремешке палкой. – Ты не видишь? Там не след?
На подъеме, сразу после зарослей, Тамара без труда разглядела такую же неровную изрытую борозду в снегу.
– След… Но что это значит? – Она огляделась. – Все бросил, расшвырял.
Зиновий решительно взялся за палки.
– Домой! И – быстро! Быстро! Поскорее.
Он толкнулся и заскользил, поехал вниз, неуклюже растопырив руки. Лыжи внесли его в кустарник, он въехал и упал, зарылся в снег. Тамара, подъехав, свалилась рядом. Торчавший кустарник царапался и лез в лицо. Поднявшись на колени, она отплевывалась от снега и обламывала вокруг себя ветки. Зиновий, барахтаясь, подбирал из снега очки.
Одинокий рыхлый след пересекал заросли и уходил вверх, к дороге в город. Тамара тревожно оглянулась назад, на брошенные лыжи и палки. Зиновий даже не заикнулся, чтобы забрать их с собой. Едва удалось ему подняться и взять в руки палки, он немедленно полез вперед, продираясь и ломая лыжами кустарник. Взбираясь наверх, он с неожиданным проворством закрестил «елочкой» сыпучий мягкий склон.
След оборвался, и Зиновий ступил на твердое. Он нагнулся, стал снимать лыжи. Выбралась и обессиленно присела на бугорок Тамара.
Увязав кое-как лыжи, Зиновий отогнул рукав и посмотрел на часы. Дорога была тиха и пустынна.
– Наверное, только что проехал, – проговорил он. – Ждать минут двадцать, может, полчаса. Скорость, комфорт, черт подери! Ходят в час по чайной ложке.
Мягко ухнул, свалившись с сосны, пушистый ком снега, в воздухе еще долго висела серебристая морозная пыль. Нетерпеливо кривя губы, Зиновий прислонился спиной к столбу у дороги и закрыл глаза, подставил лицо редко падавшим снежинкам.
– Хоть бы сказал нам что-нибудь, предупредил, правда? – негромко и как бы виновато проговорила Тамара, поглядывая на спутника.
Не меняя позы, Зиновий стоял прямой и безучастный, как одинокий столб на остановке, к которому он прислонился. Вечером вчера он, не оставшись ужинать, поехал к Софье Эдуардовне. Те опасения, что высказал после осмотра Берзер… Нашла ли что-нибудь тревожное и Софья Эдуардовна?
– А, много я найду! – с пренебрежением к себе, к своему возрасту и медицинскому значению ответила старуха. – Я посоветовалась с Берзером.
– Ах, вот как! – насторожился Зиновий. – Ну и? Что он сказал вам?.. Тамара, надеюсь, ничего не знает? – добавил он скороговоркой.
Старуха расстроенно махнула рукой:
– Он еще спрашивает… А что он мог сказать мне? Что? Все то же, что и вам. Надежды самые поганые… Ну что неделя, что неделя? Как будто за неделю… Это же страх и бог… Это же страх и бог какое несчастье! В такие минуты стыдно за себя, за свое здоровье. Даже мне, старухе… А он? Что он, Зяма?
Зиновий сидел перед ней убито, не раздеваясь, стянув лишь шапку. Свой огромный портфель он держал на коленях.
– Вот видите! – заволновалась она и стала шарить по столику, отыскивая пенсне. – Бедный мальчик. Я читала его газету. Не ему надо было такое несчастье, не ему! – Она вскинула очки и свирепо глянула на притихшего Зиновия. – Все эти проклятые болезни, все их собрать в одно место, в один, как теперь называют, акваторий и – бомбами, бомбами! Ракетами! Бабий Яр!
– Я не уверен, что найдет через неделю Берзер. Наследственность? Вы знали его маму?.. Это будет страшно. – Страдальчески моргая, Зиновий помолчал. – Я боюсь, что он узнает сам. Догадается и… тогда…
– А, не говорите чепухи, Зяма! – рассердилась Софья Эдуардовна, и пенсне, блеснув стеклышками, свалилось. – Он же умный человек и не станет делать никаких глупостей!
– Он может сделать глупость! – твердо возразил Зиновий и, подождав, пока она водрузила пенсне, значительно посмотрел ей в глаза. – Такой, как он, может.
– Ну… если все умные люди станут делать глупости, кому же останется делать умные?
Зиновий вздохнул:
– Завтра стану договариваться с Берзером.
Он поднялся и отодвинул стул.
– Ну вот, он опять за свою шапку, за свой портфель! – закричала на него Софья Эдуардовна. – Что вы все бегаете, как таракан? А, вам всегда некогда посидеть со старухой. Вам подавай… Я знаю, что вам подавай! Вы думаете, мне легко все это? Посидите, грошу вас, как человека. Сядьте!
…Приоткрыв глаз, Зиновий незаметно понаблюдал за Тамарой. «Старуха молодец. Но ведь когда-то все равно придется говорить начистоту!»
– Слушай-ка, – с неожиданной вкрадчивостью позвал он, – Борис ничего не толковал тебе об исчезновении там… материи и прочего? О вечной жизни? О душе?
Тамара удивилась:
– Н-не помню что-то… А что? Что ты хотел сказать?
Ему стало неловко от упорного, доискивающегося взгляда Тамары, и он, раскаиваясь, сморщился, помаячил пальцами.
– Да нет, это так. Это не к делу… – И снова закрыл глаза.
Тамара неуверенно посматривала на замкнутое, отрешенное лицо Зиновия. Поведение его казалось подозрительным.
– Но я же говорила с Софьей Эдуардовной… Зям, а твое светило? Ты же обещал устроить. Ну что тебе стоит?
– Хорошо, хорошо, – поспешил ответить Зиновий. – Я завтра же поговорю.
– Зям, ты что-то от меня скрываешь, – с жалкой, вымученной улыбкой просителя заговорила Тамара. – Слышишь?
– Вот глупости-то еще! – рассердился не на шутку Зиновий (вернее, сделал вид, что рассердился). – Семейка шизофреников. То тот, то эта. Сплошные подозрения!.. Автобус! – вдруг объявил он и хлопотливо засобирался.
Заскрипел снег, застонал тяжелый изношенный кузов. Пихая впереди себя лыжи, они влезли в пустой, настывший автобус. От белых, занесенных снегом окон несло холодом.
Зиновий прошел вперед и постучал в окошечко шоферу, – изо рта показался клубочек пара.
– Скажите, до города долго будем ехать?
Шофер что-то ответил, Тамара не расслышала. Зиновий опустился с ней рядом и затих, уткнувшись носом в шарф. Неряшливо пробритые щеки его будто постарели. Пока они ехали, Тамара тоже попробовала замереть и сжаться, чтобы незаметно скоротать ожидание, но пустой гремучий автобус мотало из стороны в сторону, и она, неохотно открывая глаза, всякий раз видела одно и то же: нахохлившегося Зиновия, стылые продавленные сиденья и спину шофера в окошечке. Судя по тому, что шофер сидел в одном пиджаке и мирно попыхивал папироской, в кабине у него было куда как тепло.
Перед самым городом, у больших новых домов, автобус остановился. Шофер напялил ватник и, не открыв пассажирам разболтанных, всю дорогу дребезжащих дверок, ушел.
Глубоко засунув руки в карманы пиджака и задрав воротник, Зиновий терпеливо посапывал в шарф На мохнатом от снега окошке Тамара продышала крохотное пятнышко, потерла его теплым пальцем, и яркий внезапный луч осветил и согрел промозглое помещение автобуса. Снаружи разгулялось солнце, искрились и голубели окрестности.
– Зям, дай-ка руку.
Он без всякой охоты зашевелился, выпростал из кармана руку и подал.
– Перчатку сними.
Она взяла его ладонь и подставила под луч света.
– Смотри, Зям! – оживилась она. – У тебя тоже просвечивает. Ты посмотри, посмотри!
Он хмуро оборотился к ней и ничего не мог понять. Затем стал рассматривать свою худую озябшую руку. Почему вдруг такая радость?
Тамара сама натянула ему на руку перчатку и отодвинулась.
– Не обращай внимания.
Он снова затих и еще глубже зарылся в шарф и воротник.
В окошко, в протаявшее отверстие, Тамара стала рассматривать сверкающий снег и яркое солнце. Она увидела шофера в подшитых валенках и куцей испачканной телогрейке. Попыхивая дымком от папиросы, шофер с пустым измятым ведерком в руке неторопливо поднимался к новым домам, стоявшим вперемежку с редкими соснами на пригорке. Какая-то девчонка, в беретике, с косичками, брякнулась животом на санки и, задрав ноги, шибко покатилась вниз. Проваливаясь валенками в снег, шофер остановился возле колонки и засмотрелся на огромного бритоголового мужчину, голого, в одних широких пижамных брюках. Туго подпоясанный полотенцем, здоровяк проворно наклонялся, черпал пригоршнями сухой колючий снег и бросал себе на голую мохнатую грудь, на крепкий живот и на плечи, еще сохранившие шершавый легкий загар. Мощно двигаясь всем телом, он растирал бока, грудь и живот, выгибал спину, стараясь достать до крутых мясистых лопаток. Судя по клубам пара, беспрестанно вылетающим изо рта, мужчина с наслаждением гоготал.
Шофер, с восхищением любуясь здоровяком, не вынимал из зубов папиросы и пускал синеватые густые порции дыма. Пар валил теперь не только изо рта гогочущего мужчины, но и от всего его огромного, полнокровного тела, от крепкой бритой головы.
– Вот ничего же не делается таким! – проговорила Тамара и стукнула по коленке. Неохотно зашевелился Зиновий, подался к окошку, взглянул и скривился:
– А!.. – Нахохлился опять.
О купающемся в снегу человеке Тамара перестала думать лишь на площадке перед квартирой. Она не могла справиться с волнением и не попадала ключом в тонкую извилистую скважину.
Когда отперлась дверь, Тамара не позволила Зиновию раньше себя проскочить в квартиру.
– Он дома! – крикнула она, пробежав по коридору и быстро взглядывая на обе стороны: в комнату и в кухню.
Мужа она увидела на кухне. Борис Николаевич сидел на табуретке и, навалившись на подоконник, устремил потухший взгляд в окно. Лыжная шапочка валялась на газовой плите, с ботинок натекло на пол. Он медленно обернулся. Зиновий и Тамара стояли на пороге кухни и смотрели на него, как на воскресшего.
– Слушай, старик, – нашелся наконец Зиновий, – у тебя довольно-таки идиотская манера исчезать…
Едва он заговорил, Тамара кинулась к мужу, припала, обхватила его колени.
– Борька… Милый… как ты напугал!
Борис Николаевич не стал ни поднимать ее, ни утешать. Он медленно провел рукою по рассыпанным волосам жены, затем подцепил и подержал на ладони большую роскошную прядь, как бы с сожалением взвешивая и оценивая.
– Ладно, ладно. Чего ты?
– Молчи! – Не поднимая лица и прижимаясь еще крепче, Тамара протестующе затрясла головой. – Не надо… Все еще будет хорошо. Вот увидишь!.. Мальчишки, милые, ну что вам стоит? Возьмитесь натираться снегом, а? Или еще что-нибудь. Гири купите. Я сама вам куплю!.. Зяма, ты-то почему молчишь?
– Ну, разумеется, – со всей убедительностью, но слишком часто поправляя очки, поддержал ее Зиновий. – Тамара дело говорит, старик. И вообще, чего ты надумал скисать раньше времени? Подумаешь – болезнь! Ну… Недомогание или… еще… Да если хочешь знать, каждый человек уже с самого рождения чем-то болен. Это совершенно точно! И доказано!
– Вот, слышал? – подхватила Тамара. – Все еще будет прекрасно!.. Борька, милый, ты же сам всегда издевался и смеялся над малодушием.
Слушая, как они наперебой соревнуются в бодрости и энтузиазме, Борис Николаевич, ровный, спокойный, притихший навсегда, раздумчиво поворотился и поверх головы жены посмотрел на Зиновия. Зиновий ждал этого взгляда и боялся. И точно, – он увидел мрачные, начисто отрешенные глаза человека, которому выпал небывалый случай как бы заглянуть в самое загадочное и страшное для всех непосвященных.
1971 г.
РАССКАЗЫ



ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ
– Геш, а Геш, – окликнул Иван Степанович, тренер. – Сиди, подвезем. Чего ты?
– Спасибо, – отозвался Скачков и спрыгнул в темноте с подножки. – Тут ближе.
Лязгнула, задвинулась, как металлическая штора, дверца, и освещенный изнутри автобус тронулся. Команда поехала на базу. Скачков с тяжелой сумкой у ноги проводил прильнувшие к окошкам лица, помаячил на прощанье рукой. Заметил, – Федор Сухов, с которым сидели рядом, состроил кислую физиономию: дескать, завидую… Он тоже заикнулся, чтобы уйти домой, но сумрачный Иван Степаныч, листавший всю дорогу свой исписанный блокнот, досадливо мотнул щекой: сиди!
– По-нятно!.. – не слишком громко, чтобы не слышал тренер, сказал Сухой и завернулся в плащ. От него еще там, в воздухе, попахивало, Скачков принюхивался и не верил: да где он ухитрился? Уж не с соседом ли, летевшим в отпуск с Севера? Они с ним что-то слишком оживленно разболтались, а в Свердловске, где была посадка, расстались, как друзья до гроба.
Из всей команды накануне матча только Скачкову позволялось уходить домой. В нем опытный Иван Степанович уверен: не Федор Сухов, за режимом последит. А Скачкову и следить не приходилось. Сам понимал и чувствовал, что в тридцать один год, да при таких нагрузках, не разгуляешься, – не мальчик в восемнадцать лет!..
На тяжело осевшем кузове автобуса мигнули красные огни: остановился перед светофором. Улица безлюдна, поздний час. В автобусе, набившись на последнее сиденье, дремали молодые из состава дубля. Иван Степанович везет их специально на завтрашний четвертьфинальный матч. Впереди, в просторном одиноком кресле у кабины, тягуче всхрапывал оплывший толстый массажист Матвей Матвеевич. За ним, оставшись без соседа, нахохлился обиженный Сухой. В автобусе от Сухова уже разило, как он ни отворачивался и ни пытался завернуться в плащ.
– Ты что, дурной? – спросил Скачков, чтобы никто не слышал. – Ты где успел?
Оказывается, он догадался правильно: тот самый отпускник, сосед, – у них, у северных, всегда спиртишко под рукой.
– Они там, черти, натуральный хлещут, – рассказывал Сухой, угрюмо отгораживаясь воротником плаща. – Да я и выпил-то: глоточек. Водой разбавил в туалете. Все равно старик меня назавтра не поставит. Пацанов везет.
– Теперь, конечно, не поставит!
– Ну и… На Север вон возьму подамся! Там люди позарез…
Ну что с него возьмешь? Ведь классный футболист, талант, каких не так уж много. Пытались говорить с ним, срамили всей командой, – молчит, не ерепенится, исправиться пообещает, а чуть недоглядели: снова!.. Почувствовав, что молодость пошла на убыль, махнул на все рукой: гожусь я вам такой – берите, не надо – что ж… А мог еще блеснуть на поле. Не так, конечно, как когда-то, но выпадали дни – и он, будто вернувшись в молодые годы, показывал отличную игру…
Пустынным проходным двором, минуя арку, гулкую, высокую, Скачков шагал и торопился. Роса блестела на крышах темных запертых коробок гаражей. На детской площадке, не разглядев песка, Скачков увяз, запнулся и подобрал поломанный грузовичок.
– Ах вы, люди-человеки, – проговорил он и, вытаскивая осторожно ноги, выбрался к грибку, положил игрушку на скамейку.
Поверх деревьев, высоко вверху, он отыскал окна квартиры. Свет горел только на кухне: конечно, Софья Казимировна с пасьянсом. Всю дорогу он торопился, думал застать Маришку не в постельке, но продержали час в Свердловске, затем пришлось звонить на базу и ждать автобуса. Теперь Маришка спит.
Шурша плащом, Скачков вошел в подъезд, из руки в руку перекинул тяжелую, набитую умело сумку и тронул кнопку застрявшего на этажах лифта. В узком, уходящем вверх колодце обозначилось движение, что-то защелкало и завздыхало, словно в уснувшем доме завозился разбуженный, усталый до смерти трудяга человек.
Дверь он открыл ключом и, не поставив сумки, прошел по коридору. Так и есть, – на кухне Софья Казимировна, закутанная в шаль, в очках, уставив острый нос, внимательно раскладывала на вымытом столе пасьянс. Она не оглянулась, пока не положила, куда следует, очередную карту. Скачков стоял, как посторонний, ждал. Софья Казимировна, тетка Клавдии, щурясь под очками, посмотрела на него, узнала. Они не поздоровались, хотя не виделись больше недели. Софья Казимировна, вновь принимаясь колдовать над картами, сказала как бы между прочим, что Клавдия у Звонаревых. «Все ясно, – догадался он, – собрались, галдят, дымят и пьют».
Пока он раздевался, Софья Казимировна соображала над разложенным пасьянсом. После долгого раздумья выпростала из-под шали зябнувшую руку и, сомневаясь, переложила с места на место какую-то карту. Посмотрела, подумала, понравилось.
– Есть ужин, – сказала она.
– Спасибо, – отказался Скачков, вешая плащ. – Не хочется.
На цыпочках, в одних носках, он прошел в комнату, где спал ребенок. Софья Казимировна, приспустив очки, осуждающе посмотрела ему в спину, но промолчала.
В комнате, зашторенной и с запертой балконной дверью, было темно и душно, а форточка, как сразу разглядел Скачков, прикрыта. Он первым делом распахнул неслышно форточку, затем приблизился к кроватке. Девочка спала среди разбросанных и смятых простыней. Скачков нагнулся и увидел на плече ребенка плюшевого зайца с оторванным ухом – любимая, вконец заласканная кукла, которую привез он года два назад из Австрии. Убрав веселого, с задорным уцелевшим ухом зайца, он натянул на толстенькие заголившиеся ножки простыню. Горячим показался ему лоб ребенка и влажными волосики.
– Что Маришка, здорова? – спросил он, появляясь на пороге кухни и загораживаясь от режущего света. Единственно, о чем он разговаривал с теткой Клавдии, так это о ребенке.
– Вечером вдруг что-то… – пожаловалась Софья Казимировна, в раздумье изучая разложенные по всему столу карты. – Но уснула хорошо. Хорошо.
– Температуры нет?
– Температуры?.. Температуры… Ах, температуры? Нет, температуры не было.
Скачков мысленно ругнулся и ушел.
У себя в комнате он вытащил из сумки тренировочный костюм, переоделся. Низкий свет несильной лампы блестел на полированных гранях. В углу у стенки, где составлены уютно кресла, он заметил корзинку не корзинку, а что-то круглое, плетеное, подвешенное на шнуре. Внутри, как он попробовал, горела лампочка. «Ага, ночник». Каждый раз, возвращаясь из поездок, он находил какие-нибудь изменения в квартире. Клавдия что-то приобретала, переставляла, – украшала комнаты по-своему. Он в эти дела не вмешивался, – привык не вмешиваться.
Хотелось лечь и вытянуться, но не решился раздвигать диван, искать запрятанное где-то в ящиках постельное белье. Хозяйничать в квартире предпочитала сама Клавдия.
Невысокий столик на трех ножках завален тонкими журнальчиками с фотографиями. Жена их покупала ворохами. Скачков взял, полистал, затем отбросил и достал из сумки потрепанную книгу без обложки. С кухни послышался сладкий затяжной зевок, щелкнул выключатель, прошелестели войлочные легкие шаги: Софья Казимировна закончила пасьянс. Скачков подождал несколько минут и, выглянув, стал пробираться в кухню.
Свет он зажег после того, как плотно притворил дверь.
Стараясь не шуметь, открыл тяжелую дверцу холодильника, присел и оглядел морозные, заваленные в беспорядке недра. Попалась начатая бутылка, он отодвинул ее подальше. На стол легли пакеты с сыром, с ветчиной и твердые, холодные на ощупь огурцы. Хлеб он нашел на полке, в прозрачном целлофановом мешке.
В запертой освещенной кухне, один во всем большом уснувшем доме, он чувствовал себя уютно, куда приятней, чем на сутолочной, многолюдной базе. Ветчина потрескивала под отточенным ножом, отваливаясь на сторону лоснящимися аппетитными ломтями. Скачков разрезал по всей длине холодный огурец, чуть посолил на обе дольки и медленно стал натирать. Возникший тонкий аромат вызвал настоящий приступ голода. Томясь и сглатывая слюну, он тем не менее не торопился: отыскал и положил поближе кишу, нарезал ровно хлеба, окинул взглядом – все ли под рукой? Кажется, все. Тогда он жадно, крупно откусил, рванул зубами мясо и смачно захрустел присоленным и заслезившимся на срезе огурцом. С набитым ртом, с трудом прожевывая, в одной руке книга, в другой то хлеб, то ветчина, то огурец, он расположился в старушечьем покойном, теплом кресле, забросил ноги на табурет. Софья Казимировна готовила лишь для Маришки, Клавдия вообще обедать не привыкла дома, так что ему, если бывал он не в поездке, кормиться приходилось самому, но он нисколько не сердился и не выговаривал. Ему, наоборот, было легко, привольно одному, и уж совсем бывало хорошо, когда он оставался наедине с Маришкой, но так им выпадало редко, очень редко, потому что Софья Казимировна почти что никуда не отлучалась, – разве с кошелкой в магазин.
«Чаю согреть?» – подумал он, отваливаясь от еды. Не поднимаясь с кресла, дотянулся до чайника и поболтал, – заплескалась вода. «Как раз будет…» Чтобы зажечь газ, пришлось снять с табурета ноги и подняться, и тут почувствовалось, как он устал, расслабился и погрузнел. Дожидаясь чайника, он сел, затем положил голову на скрещенные руки. Кололись крошки, но лень было пошевелиться. Все-таки выматываешься же – ног не волокешь! Особенно невмоготу от перелетов. Для завтрашнего матча им вроде повезло – по жребию попало свое поле. Однако пришлось прервать поездку и вернуться, а это перелет, да перелет такой, что до сих пор вибрация от самолета во всем теле. А послезавтра, отыграв, опять на самолет. Дурак Сухой, что не жалеет и не бережет себя. Ему еще играть бы да играть… Откуда черт поднес этого отпускника со спиртом?..
Услыхав щелчок дверного замка, Скачков моментально встрепенулся: опухший, с красными глазами, болит неловко согнутое тело. Ему мерещился гул самолета и дрожанье кресла, и он осматривался, не понимая, что это с ним. Уснул, выходит?
Из коридора, щурясь, разглядывала его румяная, веселая Клавдия.
– О, Геш! Приехал? – удивилась она, хотя известно было, что команда возвращается, и по городу расклеены афиши.
Он засопел, зажмурился от нестерпимо режущего света.
Все-таки зачем этой Софье Казимировне такая лампочка на кухне?
– Слушай, сумасшедший!.. – внезапно крикнула Клавдия и бросилась мимо него на кухню. Подскочив к плите, схватила и тотчас выпустила паривший раскаленный чайник.
Скачков спросонья крепко тер измятое лицо. Так, значит, вот оно откуда, это гуденье самолета!
– Как маленький, честное слово! – Клавдия трясла рукой от боли, сосала и разглядывала палец. – И что, скажи на милость, за идиотская манера дрыхнуть на кухне?.. И кстати, пора бы холодильник приучиться закрывать.