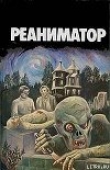Текст книги "Короткий миг удачи (Повести, рассказы)"
Автор книги: Николай Кузьмин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Австриец не скрывал, что в жизни ему здорово повезло. Он один из тех, кому посчастливилось прорваться в большой спорт. Он поймал свой миг удачи. Талант? Может быть. Но он-то знает – чтобы удержаться в спорте, одного таланта мало, нужно все время… как это? – да, да, режим! Всю жизнь режим! Иначе удача отвернется. Это трудно, но – что делать? Спорт – хороший, превосходный заработок. Если бы не лыжи, его семье пришлось бы туго. Отец состарился, инвалид. Растут сестренки. И пойди он на завод, стань рабочим даже такой квалификации, как отец, он не имел бы и сотой доли своих нынешних доходов. А лыжи не только кормят его со всей семьей, но и позволяют обеспечить будущее. Вот он катается и выигрывает призы на лыжах фирмы «Кнайсл». Об этом трубят газеты, и это, прежде всего, прекрасная реклама для хозяина фирмы. Понятно, что хозяин фирмы… как это? – симпатизирует ему! Австриец, подмигнув, рассмеялся. Все построено на этом, вздохнул он, он – им, они – ему…
Сейчас один изобретатель предложил оригинальное крепление лыж: при падении спортсмена замок автоматически освобождает его ногу. Такое крепление сводит к минимуму травматизм на соревнованиях. Если бы Седой имел автоматическое крепление, он пострадал бы только от падения, – так, пустячок. По взаимной договоренности австриец первым поставил на свои лыжи автоматическое крепление и, словно по секрету, сказал об этом какому-то репортеру в холле отеля, а уж тот постарался! В результате – реклама на весь мир…
На чемпиона, как он признался, большую обиду имеют его отечественные фирмы, выпускающие снаряжение для горнолыжников. Неплохое снаряжение, можно сказать, даже отличное. Однако французы, их конкуренты, предложили ему лучшие условия, и он уже несколько лет катается во всем французском. Австрийцы, понятно, не удержались от упреков: дескать, родина, патриотизм… Позвольте, господа, а почему никто не вспомнил этих громких слов, когда его состарившегося отца выставили на улицу? Почему? Забыли? Тогда и он не станет напрягать свою память! Нет, не станет. Слова, знаете, словами, а…
Не договорив, чемпион поднялся, прошелся по палате и, остановившись у окна, стал глядеть на склон горы, где ребятишки, скатываясь, лихо крутили слаломные петли. Однажды он чему-то рассмеялся, крикнул: «Молодец!..» Когда он подошел и сел возле Седого, лицо его снова было ясно и беспечно. Мальчишкой он тоже целыми днями не уходил с горы. У них в городке каждый ребенок едва ли не с первых шагов становится на лыжи. Так что победы на самых сложных современных трассах закладывались еще тогда, в детские годы…
После недолгого молчания австриец глянул Седому в глаза и признался, что случайно был свидетелем его спуска и видел его неудачу. Ну, что ему прежде всего понравилось? Правильным, совершенно правильным он считает решение проскочить на полной скорости тот проклятый поворот, где упало столько лыжников. Так и нужно – хочешь выиграть, все время держись на пределе. Иначе в спорте делать нечего. Те, кто ловчат и трусят, это… тьфу!.. не спортсмены, а… – и австриец произнес какое-то короткое жаргонное словечко. Торможения и сбросы, рассуждал он, настоящий брак в работе горнолыжника, и пусть соревнования на Стратофане не что иное, как акробатика, все равно – каждый спортсмен должен идти к победе по идеально вычерченной линии на склоне. Однако почему он вышел на дистанцию на таких длинных лыжах? Куда смотрел его тренер? При такой погоде и на такой трассе, как Стратофана, необходимы лыжи короткие, эластичные, удобные для быстрого маневра. Ведь Седой потерял темп и вовремя не вписался в поворот из-за своих тяжелых, грубых лыж!.. И потом… – пусть только русский друг не обижается! – у него совсем недостаточно тренированности. Это же сразу бросается в глаза! Он что, долго не тренировался? И вообще – где он готовился к соревнованиям? Много он накатал километров? Сколько раз он проходил дистанцию за одну тренировку?
Спохватившись, что его откровенность может обидеть русского лыжника, чемпион покраснел и, спасаясь от неловкости, забросал его вопросами.
Седой нисколько не обиделся, но и отвечать не торопился. Наивный парень! Сколько раз за тренировку?.. Да всего один раз! Один-единственный! Готовилась команда на чудесной трассе, но, чтобы добраться к перевалу, приходилось несколько часов тащиться на своих ногах, с лыжами на плечах, во всем снаряжении. Так что все время тренировки отнимал подъем. А он еще спрашивает – сколько раз?..
Но ведь не поворачивается язык сказать ему всю правду!
Краснея перед гостем за свой невольный обман, Седой не сказал, а только показал ему три пальца – три спуска.
– Как?! – подскочил австриец. – Всего три раза? Всего?!
И долго не мог прийти в себя от изумления. Вот уж недаром русских считают фанатиками! С такой подготовкой, да еще с таким инвентарем решиться выступать на Стратофане – это, простите, безумие. Это все равно что с голыми руками бросаться на вооруженную до зубов охрану! Лучшие зарубежные лыжники: австрийцы, французы, японцы… – чемпион, перечисляя, методично загибал пальцы, – итальянцы… да, да, итальянцы тоже, потому что Илио Колли был прекрасный, отважный лыжник!.. – все они простреливают трассу по десять-двенадцать раз за тренировку. Как, есть разница? Причем все их силы уходят только на освоение техники спуска. Только! Подъем наверх им не стоит ничего. К их услугам подъемники и даже вертолеты. А так… – и австриец, не в состоянии ничего больше добавить, развел руками. Взгляд его сочувственно обвел сверкающую белизной палату.
– Что же вас заставляет так откровенно рисковать жизнью, если это, конечно, не секрет? Плохие дела? Совсем плохие, да? У вас есть какая-нибудь специальность, кроме лыж? – добивался чемпион. – Вы неплохо говорите по-английски. Вы что, где-нибудь учились? Может быть, даже закончили колледж?.. Ведь все это… – он кивнул на перевязанное тело лыжника, – потребует больших денег. Больших!
– Все устроится, – улыбнулся Седой, тронутый заботой гостя. Он и в самом деле уже задумывался, что лечение может оказаться нелегким. Больше того, он боится, что такое падение, такое увечье – это-о… (теперь уже он защелкал пальцами, подыскивая слово). «Да, да, – с готовностью подхватил австриец, – кто тонул, тот боится воды, да? Кого сбила автомашина, боится перекрестков… Тут главное – преодолеть самого себя!» Он это хорошо знает… Так вот, продолжал Седой, если ему даже придется бросить лыжи, совсем бросить, он целиком отдастся давно задуманной работе. О, это очень интересно и увлекательно! В горах, где готовилась сейчас советская команда, давно пора построить что-то вроде современного зимнего курорта: с отелями, канатными дорогами, бассейнами. У них там Альпы, настоящие азиатские Альпы! Вот, кстати, и база для подготовки горнолыжников. Тогда уж ребятам не придется тащиться пешком к перевалу. Да и вообще русским настало время занять свое место и в этом великолепном виде спорта!..
– Так вы строитель? – с уважением перебил его австриец.
– Архитектор.
Вот оно что! Молодое задорное лицо гостя разочарованно потухло. А он-то думал…
– Не понимаю, – признался он после некоторого молчания, – зачем же тогда вы… – и не договорил, ограничившись тем, что обвел рукою палату, койку и лыжника на ней.
– Это долгий разговор, – ответил Седой, невольно забавляясь разочарованным лицом австрийца.
Откинув полу белоснежного больничного халата, гость вдруг достал из кармана и положил на тумбочку лыжную шапочку и очки, – Седой даже не поверил своим глазам, – да, очки, знаменитые очки чемпиона!
Удивление и радость русского спортсмена восстановили у австрийца чувство затаенного превосходства. Он снова стал держать себя хозяином положения. Все, рассмеялся он, скоро конец сумасшедшему режиму, конец этим проклятым лыжам. Он еще выступит в Испании – там ожидаются бриллиантовые призы, ну и конечно на зимней Олимпиаде. А после этого – конец. Никаких лыж. У него есть несколько предложений больших рекламных бюро, его приглашают сниматься в кино. В конце концов он, наверное, окончательно поселится в Мексике, купит там отель, женится. С деньгами везде хорошо!
Жалко, подумал Седой, что в общем-то хороший, задушевный разговор закончился такой безудержной мальчишеской похвальбой. Он почувствовал себя утомленным. Чужая страна, чужие люди – все чужое! И ему захотелось домой, скорее домой – хоть на костылях, хоть на носилках!..
Выздоровление после Стратофаны неожиданно затянулось дольше, чем ожидалось, и Седой не выступал несколько лет.
Прошла на следующий год Олимпиада, и австриец, гость Седого в больничной палате, удивил мир, завоевав золотые медали во всех видах горнолыжных соревнований. После такого триумфа он действительно бросил спорт и, по сообщениям газет, ушел в добровольное изгнание в какую-то страну, где целиком отдался увеличению накопленного капитала.
Советские спортсмены на Олимпиаде одержали командную победу. Однако на фоне успехов хоккеистов, гонщиков, фигуристов особенно бесславно выглядело выступление наших горнолыжников. Из газетных отчетов Седой узнал, что Купец, надолго закрепившийся в сборной, сумел занять всего лишь сорок седьмое место.
– Ка-кой позор! – проговорил Седой, покачивая головою. Он протянул Марине развернутую газету. – Возьми, пожалуйста. Я немного похожу.
– Пять минут, не больше, – предупредила Марина, помогая ему встать из кресла и убирая в угол костыли.
Когда-то тоже горнолыжница, теперь же постоянный врач в команде, Марина не позволяла ему впасть в отчаяние и, как могла, поддерживала его уверенность в месяцы унылого безделья. После большого, затянувшегося перерыва они едва дождались первых зимних стартов. Марина уверяла, что подготовлен он ничуть не хуже, чем прежде, перед Стратофаной. Но разве и тогда он был достаточно подготовлен? К тому же из головы Седого не выходило предупреждение австрийца о боязни тонувшего к воде… И вот, находясь как будто в превосходной форме, Седой тогда безнадежно проиграл и спуск, и слалом, и многоборье. Марина позаботилась, чтобы неудачи не слишком обескуражили Седого, вместе с командой они отправились на новые соревнования и – снова поражение. И так пошло из года в год. Марина растерялась. Но, кажется, она вовремя догадалась, что происходит с лыжником, подбитым словно птица влёт, и первой поддалась благоразумию: зачем ломать натуру, для чего? Да и молодость, лучшая пора для спорта, слава богу, уже за плечами. Хватит… Седой остался в одиночестве. Даже травмированный, познавший страх на головокружительном смертельном вираже, он все еще надеялся на что-то и, преодолевая неудачи, не оставлял тяжелых, изнурительных тренировок.
Вадим Сергеевич спросил:
– Мы с тобой давно не виделись, Сережа. Как у тебя… как жил, живешь? И вообще…
– А, что рассказывать!.. – Седой уставился на кончики своих ботинок. – Слушай, как это у вас в медицине называется: раздвоение души? Во мне сейчас постоянно сидит какой-то настырный дьяволенок. Ты знаешь, сколько он портит мне крови! Стоит только выкатиться на старт, как он тут же начинает шипеть: скинь, тормозни, не будь ослом! Он считает, что это он настоящий лыжник и слушайся я его, все было бы давно о’кей! Дипломат, черт подери, как наш Купчишка! И я ему постоянно сую в рожу, затыкаю ему пасть: молчи, заткнись, пошел к черту!
– И… удается? – спросил Вадим Сергеевич, деликатно стараясь не показать особенного интереса, – все эти годы, сколько приходилось наблюдать, он не узнавал Седого.
– Когда как, – признался Седой. – Но сил на него уходит – ужас! Честное слово! Из-за него меня хронически стало не хватать до финиша. Хронически! Или это трассы стали длиннее? Минуту, полторы я еще держусь, а там… А главное – ты понимаешь? – главное: у меня сейчас какое-то гениальное прозрение. Честно, честно! Я вижу, чувствую, знаю, как я должен идти трассу. Этого самого опыта, которого так не хватало, – у меня его сейчас хоть отбавляй! Господи, говорю, если бы мне его тогда, – понимаешь? Да я бы, кажется, самому австрийцу на одной ноге накатил!
Вадим Сергеевич улыбнулся:
– Если бы молодость знала, если бы старость могла?
– Именно! И знаешь – эту красивую величественную старость – черт бы ее побрал – я почему-то представляю себе в образе одной… ну, скажем, знакомой. Омерзительная маска с похотливыми губищами, такими – знаешь! – намалеванными, жирными. Тьфу… Ты не поверишь, но мне теперь кажется, что эта поганая бабища висит у меня за плечами, как рюкзак, и жмет, давит к земле. Что это, по-твоему, окончательный финиш? Лыжи за печку и на пенсию? Неужели мне от нее теперь ни разу не убежать?
Вадим Сергеевич долго и раздумчиво почесывал бровь, но решаясь взглянуть в блестевшие глаза своего взволнованного собеседника.
– Сережа, – медленно проговорил он наконец, – будь моя воля, я бы тебя завтра на старт не допустил. Не обижайся, но тебе нельзя… тебе опасно выступать. Да и вообще… Ведь ты, кажется, уже давно даже в десятку не входишь?
– Даже из второй группы хочешь вытурить? Дескать, заваливайся на перину и жуй манную кашку? Хватит с меня манной кашки! Еще зубы не все потеряны!..
Он был обижен, оскорблен. Откуда-то свалился журналист, в подпитии, веселенький, с лоснящимся лицом, и помешал – засуетился, затараторил, сердечно заглядывая обоим в глаза.
– А мы тут компашку склеили. Мировые, знаете ли, парни! Честное слово. Не слышали – балдежная песня: «У лошади была грудная жаба»…
Седой, все еще бледный от обиды, отворотился и через плечо кивнул хирургу:
– Ну, я дошел.
Сережа, постарайся хотя бы выспаться как следует. Слышишь? Подмораживает. Я представляю, какой будет завтра склон.
Оба, хирург и журналист, молча проводили его удалявшуюся фигуру. В последний раз проплыла и скрылась в клубах морозного пара из дверей скульптурная седая голова. Вадим Сергеевич увидел, как из толчеи танцующих выбралась Марина и побежала к выходу.
Журналиста распирали впечатления, и его пугало вечернее одиночество. Когда они вышли из клуба, он молча тащился следом за товарищем, но едва впереди показались домики базы, напомнил:
– У нас бутылка.
Хирург неожиданно ответил согласием, и журналист признательно оживился.
– Ты знаешь, – увлеченно заговорил он, забегая вперед, – у них тут свой особый мир. Свой фольклор, свои песни. Свои герои – да, да! О твоем Максимове рассказывают целые легенды. Хоть он и псих, но, кажется, действительно любопытный экземпляр.
Сумрачно шагая в темноте, Вадим Сергеевич пожал плечами:
– Обыкновенный человек, по-моему.
Не обращая внимания на нелюдимость товарища, журналист снова забежал вперед, придержал его и, секретничая, возбужденно приподнялся на цыпочки.
– А очки? А шапочка австрийца? А вот уже многолетнее желание найти себя после падения и выиграть хоть какие-нибудь соревнования? Это же сюжет, старик! Сюжетище! И и все это вижу, вижу! Понимаешь? Чувствую! Мир настоящих мужчин. Как в старые рыцарские времена. А? Представляешь, один летит и бьется, на его место тотчас заступает другой, третий. И так без конца. Молодость! Смелость! Мужество!
– Да, – подавляя зевок, согласился Вадим Сергеевич, – но не забывай, что жизнь в спорте очень коротка. Каких-нибудь десяток лет. Только наберется парнишка опыта, а сил уже не остается.
– Тогда тем более. Понимаешь – тем более! Как вечный бой за молодость. И тут, старик, – ты этого не понимаешь, не чувствуешь!.. – тут же, кроме всего, еще трагедий навалом. Трусы. Покалеченные. И герои, которым на все наплевать. А? Нет, это писать надо, писать!
Сбивая снег с ботинок, Вадим Сергеевич поднялся на крыльцо. Его нисколько не трогала горячность собеседника. В узком коридорчике журналист невольно замолк: за тонкой фанерной стенкой бренчала гитара.
Лыжи у печки стоят,
Гаснет закат за горой,
Вот и кончается март,
Скоро нам ехать домой.
Здравствуйте, хмурые дни,
Горное солнце – прощай!
– Вадим! – шепотом позвал восхищенный журналист. – Чувствуешь? Это же поэзия! Романтика!
Задержавшись на крыльце, Вадим Сергеевич прислушался, но не к песне. Он узнал усталые голоса Марины и Седого.
– …Все это можно было бы высказать и наедине. Зачем устраивать семейные скандалы?
– Прости, Сережа, но я так измучилась!
– Да, – вздохнул Седой, – все измучились, и только мне одному сплошной праздник!
– Ну, не ехидничай, пожалуйста. Просто я немного сорвалась… Как у тебя сегодня ноги? Давай-ка помассируем. Легонький массаж не повредит… Мне, кстати, предлагают купить кофточку. Французская. Очень милая и не так уж дорого. Ты не против?
– Опять Купец открыл свои лабазы?
– Плюнь. Какое тебе дело?
Вадим Сергеевич вломился в свою комнату и, пошарив по стене, щелкнул выключателем. Лампочка висела на длинном шнуре. Журналист проворно сунулся к рюкзаку и стал рыться.
– Стакан есть? – спросил он, доставая бутылку.
Стакан стоял на подоконнике. Вадим Сергеевич понюхал его, затем налил из графина воды, поболтал и выплеснул за порог. Журналист прислушался к тому, что делается в соседней комнате. Оттуда доносилось короткое звяканье железа по железу, и Вадим Сергеевич пояснил, что кто-то из спортсменов оттачивает напильником металлическую окантовку лыж.
– Может, пригласим кого? – предложил журналист, указывая на бутылку.
– Перестань. Ребята на режиме.
– По глоточку-то! Это же не футбол, не бокс. С горочки на лыжах.
– «С горочки»… – Вадим Сергеевич, рассердившись, опрокинулся на постель и задрал на спинку ноги. – А ты представляешь, с какой скоростью скатывается человек с этой самой горочки?.. Мировой рекорд сейчас на спуске больше ста восьмидесяти километров в час. Сто восемьдесят! Это же полет, почти свободное падение. Представляешь, что значит упасть на такой скорости? Мало того, что тебя издерет о лед. Тебя еще переломает. Ты видел горнолыжные ботинки? А лыжи? Так вот, еще недавно эти увесистые снаряды крепились к ногам намертво. И вот упади попробуй с таким грузом на ногах! Кости ломаются, как макароны. Ты не представляешь, что значит крученый перелом. Нога как мочалка, держится на одних лоскутках…
– Послушай, – взмолился журналист, прижимая к груди бутылку, – ты рассказываешь какие-то космические ужасы!
– Это уникальный вид спорта. Горнолыжник должен иметь стальное тело и электронный мозг. Да, да, не ухмыляйся – именно мозг. Здесь не годится это ваше… «сила есть, ума не надо». Нужен ум, да еще какой! На склоне парням приходится решать тысячи задач – тактических, технических, просто психологических, и на все им отводятся мгновения. Мгновения! Ты имеешь хотя бы понятие о трассе настоящих соревнований? Это бугры и колдобины. Лед. Самые дикие, самые невероятные повороты. И попробуй зазеваться хоть на долю секунды – на долю!.. – не обработать, как они говорят, какой-нибудь бугор или яму… Да вот увидишь завтра сам.
– И все-таки находятся люди, которые не только катаются, но ставят рекорды. Взять Тони Зайлера или этого… последнего… Жана Килли.
– Ну, это выдающиеся спортсмены! Победить на Олимпиаде во всех трех видах многоборья – это, я тебе скажу…
– Так кто спорит, старик!
Некоторое время журналист молчал, покачивая головой, и прислушивался к монотонному вжиканью напильника за стеной. Бутылку он держал в руке.
– Как перед сражением, да? Помнишь: «Тот штык точил, ворча сердито, кусая длинный ус…»
– Последние соревнования. В городе весна.
– Тебе много наливать?
– Ты пей сначала сам. Я потом…
– Вот уж оставь! На. Я тебе немного.
– Ну, твое здоровье.
Журналист проследил, как было выпито, улыбнулся.
– Я сейчас подумал: сколько же мы с тобой не общались, старик? Ты очень изменился. У тебя измученный вид.
– Да так что-то… Не обращай внимания.
Аккуратно налив себе, журналист хотел выпить и вдруг задумался, держа стакан на уровне глаз.
– Интересно… – проговорил он, медленно поворачивая перед собой стакан. – Я сейчас наблюдал за твоим Седым. У него черное лицо, породистая голова, совсем белая. Я думаю, ему уже немало? А?
– Наш возраст. Тридцать шесть. Может, тридцать пять. А может, тридцать семь или восемь.
– Я к чему это спрашиваю? Мне сегодня рассказали, что по делу ему давно уже пора утихомириться. А он все еще…
– Да, он парень крепкий. Я его люблю. Настоящий спортсмен.
– Однако карьеры, я гляжу, у него не получилось. Ведь он, кажется, так ничего и не достиг?
– Карьера! – усмехнулся Вадим Сергеевич. – Словечко-то какое! «Не достиг»… Да он достиг того, чего можно пожелать каждому! В спорте, дорогой мой, важны не одни медалисты. Медалей единицы, а спортсменов миллионы. И пусть многие не завоюют ни одной медали в жизни, – ни одной!.. – а все-таки каждый из них хоть раз да выиграет какой-то свой, важный только для него финиш. И вот как раз этими вроде бы незаметными победами и важен спорт.
– И все-таки что останется после него? Что вообще остается после таких? След на склоне? Но это, прости меня, все равно что след птицы. След чайки, альбатроса. Красивое мгновенье. Вжик – и все.
– Почему вжик? Хорошенький вжик! Тогда что такое вообще спорт? Ради чего эти люди живут, истязают себя на тренировках, ради чего они летят по склону навстречу, как иногда некоторые шутят, собственным похоронам? Нет, в спорте каждый победитель, кто не отступил, кто не поддался страху, унынию, даже старости. Да, да! И вот эти победы – самые важные.
– Да нет, это-то я все понимаю. Все это азбука, старик. Я другое хочу сказать. Возьмем конкретно Седого, его судьбу, его надежды в молодости и вот что он сейчас… Ведь это, если говорить откровенно, финиш. Большой, окончательный финиш.
С минуту они помолчали.
– И все-таки это спорт, – возразил Вадим Сергеевич. – Вот подожди, завтра сам увидишь. О, завтра должно быть очень интересно! Вот посмотришь.
– Ты надеешься – он выиграет?
– Что значит выиграет? Важно, что он не проиграет. И вот за это его уважают. Да таких и следует уважать.
– Ах, черт, как об этом хочется написать! По-настоящему. Я уже вижу, как все это ложится. Понимаешь – вижу, чувствую! Нет, ты этого не чуешь. Ты человек вообще какой-то… без эмоций. Сухарь, деляга, узкий специалист. Погряз в своих аппендиксах и переломах. Я, конечно, понимаю… но не это же главное, старик. Не это!
Вечернее уединение, вино и задушевность собеседника настроили его возвышенно. Ему захотелось обличать и каяться. Сейчас, когда он столкнулся с миром людей, живущих смелостью, дерзанием, порывом к подвигу, ему впервые показалось, что сам он живет слишком обыденно, неинтересно, погрязнув в быте, в мелочах, в каких-то повседневных добываниях. Хотел квартиру в центре – и добился Немало сил ухлопал, чтобы пробить в издательстве книжонку очерков, – кажется, удастся тоже. Теперь неплохо мебель поменять… Бывали у него интрижки, урывочный и тайный грех на стороне, и совестно потом перед терпеливою стареющей женой. Или компанией давнишней соберутся, усядутся вокруг графинчика, селедки с луком и, пьяно, преданно уставившись глаза в глаза, самозабвенно и нестройно заревут: «Говоря-ат, не повезет, если черный кот дорогу перейдет…» Как-то не так все, не хватает чего-то… такого… настоящего…
Вовремя спохватившись, он удержался и ничего не сказал, не выдал. Схватил бутылку и нахлестал себе в стакан, однако отхлебнул расчетливо и скупо и долго после этого сидел задумчиво, почесывался и моргал, – понемногу приходя в себя.
– Ты все-таки хорошо сделал, старик, что взял меня с собой. Какой-то мир другой здесь, не так, как там, у нас. Да, да, я это сразу заметил. Твоего Седого взять. Он же ровесник мне, но ты сравни нас, посмотри на меня. Посмотри! – С бутылкой и стаканом в руках журналист повернулся и поднял локти, показывая себя, толстенького, с задранной на брюхе курткой. – Ископаемый! Вообще я сегодня очень много размышляю. Даже в дороге. Ты заметил, кстати как шли эти двое впереди нас?.. Вот невнимательный ты, старик! И это беда твоя, беда. Ну, да я не об этом… Мне сейчас хочется послать все к черту, отрешиться, запереться и засесть за настоящее. Понимаешь? Засесть, никого не видеть и не слышать и трахнуть вдруг, как из пушки. Романище! О человеке! А? Не напечатают только.
Он снова сунулся выпить, прикинул – не много ли? – и отставил стакан.
– Почему ты молчишь, старик? Ты чем-то расстроен? Так поделись, облегчи душу. Я же вижу, чувствую – ты какой-то не в себе…
Вадим Сергеевич в задумчивости теребил себя за кончик носа.
– Слушай, а тебе никогда не хотелось написать о человеке, который мечтает ходить? Просто ходить. На своих на двух.
Журналист фыркнул:
– Что-нибудь такое… из Маресьева? А? Эх, старик, старик, ты безнадежно испорчен классикой. Сейчас, дорогуша, двадцатый век. Сейчас читатель ждет, чтобы его дернули рашпилем по нервам. Понимаешь? Вот возьму и трахну пьесу! А? Причем совсем без героев. Какие к черту герои? Сидит на сцене женщина и треплется по телефону. Женщина и телефон. И все! Представляешь? Например, такая вот женщина, как эта Марина… Или еще лучше – один магнитофон… Кто-то взял и рассыпал пленки. Порвал, перемешал – вакханалия. И вот включают эти обрывки. Чужая жизнь – кусками, кусками. Причем самыми нелепыми – страшными, смешными. Ты представляешь?
Разгорячившись, он жадно, словно сообщнику, заглядывал хирургу в глаза.
– У меня в клинике сейчас, – подождав немного, продолжал Вадим Сергеевич, – конструктор один. Попал после аварии. Интересный человечище. Прекрасный специалист, лауреат. Но – паралич ног и никакой надежды. М-да… И вот целыми днями он сидит в каталке на балконе и смотрит на горы. Мы с ним иногда разговаривать беремся. «Знаете, говорит, доктор, куда мне больше всего хочется пойти? Вы думаете, в театр, в ресторан, даже в горы? В туалет. На своих ногах. Два года в туалете не был».
– Слушай, – вскричал журналист, – так это же блеск! Это же деталь! Деталища! Ты представляешь, как она может лечь? Эх, ни черта ты… Я представляю, сколько ты видишь, наблюдаешь и как мог бы грохнуть. Ну скажи, скажи – почему вы такие инертные? Лень вам, что ли, сесть и написать? Ведь жизнь, жизнь же проходит! Нет, не я буду, если не заберусь как-нибудь к вам. Черт с тобой, но только потом не обижайся, что тебя обокрали. Слышишь?
– У тебя там еще осталось в бутылке? – спросил Вадим Сергеевич.
– В бутылке? Навалом. Налить тебе?
– Ты себе налей. Ты, видимо, выпьешь и захочешь еще прогуляться?
– Да… в общем-то… я собирался. А что?
– Когда будешь уходить, будь добр, выключи свет. И приготовь себе заранее постель, чтобы потом не шуметь. Я сегодня хочу выспаться.
– Ну, старик… – журналист возмущенно поднял полненькие плечи. – Сухарь, совсем ты сухарь становишься. Просто черт знает что! Дремучий пень какой-то!
Взглянув на него, Вадим Сергеевич рассмеялся и, потянувшись с койки, поймал его за полу куртки.
– Не сердись. Просто у меня была канительная неделя.
Журналист еще немного поворчал, но отошел. Он был отходчив.
– Как будто все мы в райских кущах… Ты посмотри на своего Седого. Он же нисколько не моложе тебя. Ты сам записал себя в пенсионеры.
– Кесарю кесарево… – Вадим Сергеевич, успокоив приятеля, снова откинулся на подушку и сладко, протяжно зевнул. – А с Седым, кстати, мы сегодня хорошо поговорили о раздвоении души. Вот тебе еще одна, как ты их называешь, деталь. Попробуй-ка представить себе, что внутри каждого из нас сидит какой-то маленький человечек. И вот на крутых поворотах судьбы он вдруг высовывает свою мордочку и начинает шипеть – советовать, наставлять, толкать к действию. И все в общем-то зависит от того, сумеешь ли ты заткнуть ему рот или же дашь ему возможность занять твое мест..
– А что? – оживился журналист. – Это ложится. Знаешь, и здорово ложится! Модерново, свежо… Здесь можно здорово завинтить!
– Давай дерзай. Пиши…
– Ха, так сразу и пиши! Тут помыслить надо. Тут не просто… Это тебе не аппендикс вынуть.
Они надолго замолчали. Горела лампочка на длинном шнуре. Журналист, посапывая, пальцем разводил на столе лужицу пролитого вина. Теплая куртка не сходилась на его животе.
– Ладно, спокойной ночи. – Вадим Сергеевич отвернулся к стенке и завозился, устраиваясь. – Я сплю.
Журналист еще посидел, разглядывая намоченный в вине палец, потом грузно уперся руками в стол и поднялся, обдернул куртку.
– Интересно, танцы еще не кончились?
Подождал – хирург лежал молча, не отзываясь.
– Н-ну, ладно, – и, громко топая, вышел.
Из коридора, не возвращаясь, он протянул руку, пошарил по стене и выключил свет. Затем наклонил голову и заслушался: из комнатки в конце коридора по-прежнему слышалось негромкое меланхолическое пение под гитару:
Снизу кричат поезда,
Месяц кончается март,
Ранняя всходит звезда,
Где-то лавины шумят.
Привычным движением он полез за блокнотом, осторожно, словно боясь помешать пению, раскрыл его и поискал, где бы пристроиться. Писать, удерживая блокнот на весу, было неудобно, и он в конце концов прислонился к стене. Часто встряхивая ручку, чтобы не сохло перо, он писал долго и увлеченно, писал до тех пор, пока не закрылся клуб и на гулком крылечке домика послышались топот ног и громкие молодые голоса…
Бодро трубя какой-то марш и колотя себя по животу, журналист громко маршировал по комнате.
– Вставай, засоня! Вставай, лентяй! – кричал он товарищу и топал, топал ногами. – «Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало…» Хватит вылеживаться! Подъем!
Отбросив с лица одеяло и сильно щурясь, Вадим Сергеевич долго не мог понять, что происходит. Журналист маршировал вокруг стола в одной майке. Его белые сдобные руки были мокры.
– Чудное утро, старик. Я давно на ногах Я сейчас снегом умылся! Советую от души… Вставай!
– Господи, вот событие-то… – проговорил Вадим Сергеевич и, посапывая со сна, полез под подушку за часами.
Журналист оживленно присел на краешек его постели.
– Старик, ты обратил вчера внимание на этого Буцефала, на этого Голиафа, на Геркулеса на крылечке? Вчера, когда мы приехали? Представь, я с ним сейчас познакомился. Оказывается, малый проехал всю Европу. Где только не побывал! Все знаменитые зимние курорты. Альпы! Средиземноморье! Вот жизнь, а? – И он опять, трубя и маршируя, затопал по комнате. Полная поясница его, никак не обозначаясь, переходила в широкие плоские бедра. Бока свешивались через брючный ремень колбаской.
Вадим Сергеевич, позевывая, лежал с утомленным видом и поглаживал голую грудь.
– Этот Голиаф обещал, что нас с тобой поднимут на канатке. Будем смотреть со старта. Поднимайся, все давно уже встали.
– Мы и без него поднимемся, без твоего благодетеля.
– Ну, ну, старик. Дурное настроение оставь при себе. Здесь не место. Да и утро… Ты только глянь!
Откинув одеяло, Вадим Сергеевич спустил голые ноги. На горячей батарее лежали его высохшие носки.