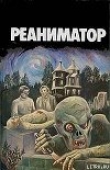Текст книги "Короткий миг удачи (Повести, рассказы)"
Автор книги: Николай Кузьмин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 23 страниц)
Влетела Клавдия – с карелками, с бутылкой, угарно счастлива и весела, и сразу новый взрыв восторга, движение и суета вокруг стола. Пока толпились, разгребали, что осталось на столе, передвигали, расставляли снова, Скачков обрадовался передышке и, поискав, куда бы сесть, нашел местечко дальше от стола, под самой форточкой. Здесь было тише, посвежей, и он только теперь, вытягивая спину, ноги, почувствовал, как здорово устал. Но ничего, – наутро завтра баня, сухой горячий пар, душистый веник и массаж. Матвей Матвеич приведет его в порядок.
– Геш!.. Геш!.. – звала, не унималась шумная орава, и все старались так расположиться, чтоб он был в центре. Они пришли сегодня на него, готовые смотреть и слушать, а что он мог им рассказать? Им лишь про заграницу подавай, а что подашь, если и там для футболиста все то же самое, что и здесь: отель, разминка, отдых и – на автобусе на стадион. И вот пока в автобусе, глядишь в окошко – так это еще заграница, а уж как началось на поле, так сразу все забудешь. Игра, она и есть игра. А про игру им всем до лампочки. Еще про третий гол Пеле в московской встрече сборных они порассуждают, но заикнись о том, какую «штуку» залепил когда-то молодой Иван Степанович, так скосоротятся. А гол такой, что помнят до сих пор: из своей штрафной пройти с мячом через все поле, мотнуть почти что всю защиту и из вратарской ляпнуть в самый угол! Такого сольного прохода пока не числится ни за Пеле, ни за Эйсебио. Отечественная классика, заря российского футбола. С мальчишками когда приходится, так те поразевают рты, а с этими…
– Ну, Геш!.. – окликнула с досадою Клавдия, показывая, что ждут его все, приготовились. – Ты что, так уж устал, голуба?
Как было бы у них все по-другому в доме, умей он быть сейчас таким, каким хотелось ей! Дурная, – так бы и сказал, – да эти Звонаревы и с ними все, они потом на улице не поздороваются, едва он сносится и перестанет выбегать на поле. Прилепятся к кому-нибудь другому, – к Белецкому к тому же. Им, как пижонам, не футбол, а футболисты притягательны: известность, телевидение, пресса… Но не сказал, – сложился в кресле, словно перочинный ножик, и, потирая лоб, не отнимал руки от страдающего нервного лица. Кругом молчали, дожидаясь, потягивали сигаретки, – и становилось по-скандальному невмоготу. Спас положение развязный Звонарев.
– Милиционер родился! – провозгласил он с громким смехом, и кто-то подхватил – пропало напряжение, а Звонарев, поддернув рукава, уже вздымал в руке, как жезл веселия, бутылку:
– Подставляйте, граждане, посуду!
Скачков передохнул и выпрямился, слазил за платком в карман. В коридоре, близко у двери, раздался недовольный голос Софьи Казимировны. Она кому-то выговаривала:
– …но только на минутку, – слышишь?
Вбежала толстенькая свежая Маришка. На ней была пижамка, короткие штанишки, – ее укладывали спать. Она опешила сначала, остановилась, ловя ножонкой отстающий шлепанец, но вот сквозь дым узнала в кресле у окна отца. Сладко отдалось в груди Скачкова, когда Маришка прыгнула к нему с разбегу на колени и обняла, прижалась, спрятала лицо. От пьяных и замаслившихся отовсюду взглядов он отводил счастливые глаза.
– Ка-кая прелесть! – пропела незнакомая худая дама и, сильно выдувая дым ноздрями, отбросила изжеванную, в губной помаде сигарету. – Ну иди, иди же ко мне, крошка!
Маришка испугалась и, отстраняясь от протянутых рук, притихла, сжалась еще больше. Скачков поморщился, загородил ребенка: еще чего! Нисколько не обидевшись, худая дама руки убрала, прикрылась пальцами и длительно, взахлеб, зевнула. Затем, помедлив, поблуждав увядшими, усталыми глазами, полезла в сумочку за спичками и сигаретой.
Вмешалась быстро и решительно Клавдия:
– Ну, нечего, нечего! – Она погнала Маришку от отца, пришлепнула для строгости. – Подумаешь, телячьи нежности! Никому это не интересно. Марина, убирайся немедленно к себе! Ты слышишь?.. Соня, забери же ее, ради бога!
Софья Казимировна была все время тут за дверью, вошла и по пути подобрала потерянный ребенком шлепанец. Когда Маришку уносили, Скачков ей подмигнул и потрепал за пятку.
– Граждане!.. – не унимался Звонарев, перекрывая пьяный гвалт. – Кончайте вы… К столу! Геш, подвигайся ближе. Чего ты там?
Давно налитые и застоявшиеся рюмки веселый расторопный тамада стал раздавать в протянутые руки.
– Геш, хватай, – он протянул Скачкову. – У меня имеется железный тост.
– Ты ж знаешь, я не пью, – негромко сказал тот, предчувствуя, что начинается волынка: да ну глоточек, да ну чуть-чуть…
– Брось, брось! – бесцеремонно, как давнишний лучший друг, настаивал Звонарев и не убирал, держал протянутую рюмку. – Глоточек. Ничего не будет.
«Много ты знаешь…» Краем глаза Скачков успел заметить, как закипает Клавдия: «Да ну же, дурень! Просят же, как человека!»
– Гешка, да ты что, старик? – не отставал задетый за живое Звонарев. – Ты хоть по арифметике валяй. У тебя сколько весу? Кил восемьдесят есть? Ну вот. Разбрось-ка на кило! Тут и по грамму алкоголя не придется. Так, пар один… Бери давай, старик, не обижай компанию! Вам на банкете где-нибудь ведь разрешают пригубить?
– Отстань! – сквозь зубы тихо попросил Скачков и, ноги подобрав, нахохлился, засунул кулаки в колени. Лицо его приняло ожесточенное тупое выражение. Как раз в такие вот моменты, он знал, как раз сейчас-то и сочувствует вся эта братия Клавдии – дескать, и дуб же, хоть и… «полторы извилины»!
– Ладно, наплюй ты на него! – вмешалась Клавдия, забрала рюмку и, сильно расплескав, поставила на стол. – Давай, Вадим, какой-нибудь грузинский тост! И вообще – чего мы? Пошли-поехали! Чего закисли все?
И, слово за слово, застолье снова зашумело: поднялся хохот после длинного, с какой-то непристойной заковыркою тоста, взметнулись и мелькнули рюмки, дым густел, а Звонарев, душа-парняга, свой в доску малый для любой компании, с бутылкою, в закапанной рубашке, опять кричал и требовал внимания, но где уж там добиться было хоть какой-то тишины: пошло действительно, поехало!
– …А я вам говорю: весь неореализм этот!.. Да что мне ваш Висконти! Что мне ваш Висконти! Вы еще Антониони… Да это же сейчас ни для кого не секрет!..
– …Здравствуйте: это Полетт Годдар живет с Ремарком… Да, Брижит тоже за немцем. Миллионер какой-то… И не второй, а третий раз.
– Да второй же! Первый муж Роже Вадим.
– А я говорю: третий. Читать же надо, милочка!
– Ну, знаете!..
Скачков поднялся и незаметно вышел в коридор. Фу-у, здесь дышать хоть можно!.. Он увидел свет на кухне, подкрался, выглянул из коридора: конечно, Софья Казимировна с пасьянсом. Отгородилась, дверь стеклянную подперла табуреткой. Видимо, и ей обрыдла колготня…
В комнате, где спать уложена Маришка, темно, свежо: открыта форточка. Скачков почувствовал, как от него несет проклятым табачищем. Удивительно, что и Клавдия привыкла с братией своей курить напропалую.
– Папа, ты? – окликнул его тихни голосок Маришки.
– Лежи, лежи… Спокойно, – проговорил Скачков, оглядываясь на притворенную дверь. На цыпочках, бесшумно, пронес он через комнату свое большое тело, она подвинулась под одеяльцем, прихлопнула, куда ему присесть.
– Тебя отпустили, да?
– Тс-с… – предостерег Скачков и, наклонившись, поцеловал одну ручонку, затем другую. Все время чувствовал он отвратительный неистребимый запах, которым пропитался там, с гостями. Пиджак ему сбросить, что ли?
– Пап, пап… – звала его Маришка, он разглядел ее блестевшие глазенки. – Пап, давай сделаем темно? Совсем, совсем темно!
– Ну, валяй, действуй… Давай.
– Вот так! – она нырнула с головой под одеяло, затихла там и позвала: – Тебе тоже темно? Совсем, совсем? Тогда давай говорить. Давай?
– Ну, говори, я слушаю… Говори.
– Пап, – доносилось из-под одеяла, – а дядя Вадим, он кто? Он дурак, да?
– Ну, ты уж сразу… Так нельзя. Нехорошо.
– Нет, дурак! – Она сердито вынырнула из-под одеяла. – Зачем он меня все время щелкает в живот? Позовет и щелкнет, позовет и щелкнет.
– А, плюнь! Не обращай внимания.
Она затихла, как бы обдумывая житейский дружеский совет, затем опять позвала, но спокойно, кутаясь по горло в одеяльце.
– Пап, а почему когда большие падают, то им совсем не больно?
«Видно, с Софьей Казимировной у телевизора сидели!..» Вспомнил Решетникова с ногою, как бревно, и потрепал Маришку по головке.
– Всем, брат, больновато, всем. И большим, и маленьким… Ну, будешь спать?
Ворочаясь и подтыкая одеяльце, Маришка обиженно проговорила в темноте:
– Вот и ты тоже: спать. А ты лучше спроси меня, спроси! Ну?
– Да я пожалуйста! Что хочешь…
– Нет, ты спроси: а не хочу ли я конфетку?
– Постой! – Он вспомнил апельсины в сумке и вскочил. – У меня получше есть. Постой!
– Только тих-хо!.. – зашипела на него Маришка, отбрасывая одеяльце и садясь в постели.
Он спохватился тоже и на цыпочках, балансируя руками, направился к двери.
– Да тише ты… как слон! – командовала вслед ему Маришка. – Сейчас как баба Соня…
Но в тот момент, когда он крался, замирая, чтобы не скрипнуть половицей, дверь распахнулась настежь и Клавдия, картинно замерев в проеме, увидела и осудила все: его с лицом, захваченным врасплох, Маришку, свесившую ноги.
– Ну, вот! – Клавдия была зла, кипела в ней неизрасходованная на него досада. – Конечно, нашел себе компаньона по уму! Ко всему надо еще и из ребенка идиота сделать… Марина, ты наказана! Лежать!.. Как дурак какой-то, как болван – честное слово, ни зла, ни нервов не хватает! Перед людьми ведь стыдно, перед людьми! Уж ничего не требуют, не просят… но хоть какой-то разговор, хоть слово-то сказать ты в состоянии?
Прошелестела метнувшаяся с кухни Софья Казимировна, заняла свой пост у кроватки. Она как будто и не слышала сердитых слов племянницы, но по лицу, по носу видно было, что мнение ее конечно же давно известно…
«Нет, это крест мой, наказание мое!» – сейчас войдет к гостям и скажет после ругани Клавдия, ну не скажет, так всем видом даст понять и в кресло плюхнется, нашарит, схватит сигарету… Скачков, загородив собою все окно на кухне, в карманах руки, плечи сведены, качался, успокаивал себя, а между тем прекрасно представлял, как сунется к Клавдии тот же Звонарев, учтиво щелкнет зажигалкой, и, пока она, страдальчески пуская клубы в потолок, будет молчать, качать ногой и стряхивать куда попало пепел, компания заделикатничает и притихнет, но в том молчании, в коротких переглядываниях, вздохах будет давнишнее сочувствие хозяйке.
«Войти разве, сказать, чтоб к черту по домам?.. Вот будет номер!» – он усмехнулся и вынул из карманов руки. А что? Только спокойно надо, без истерики – войти, остановиться по-хозяйски и ровно, голосом усталым, быть может, потянуться даже и зевнуть… Ну, тут, конечно, Клавдия взовьется, однако – не беда: матч должен состояться при любой погоде! Тут важно появиться на пороге и сказать, – это как первый выход в основном составе, как первый гол…
Он откачнулся от окна, прислушался: ага, опять загомонили! Ну что ж… И тем же шагом, как привык вести команду, цепочку дружных, сыгранных ребят, направился решительно и твердо, будто заранее настраиваясь на игру, которую нельзя проигрывать ни при какой погоде.
1966 г.

ЕЗДОВОЙ ЗЮЗИН
1
Наступление, так стремительно начавшееся, внезапно приостановилось, и глубокие тылы, свернув с больших магистралей войны, по которым с прежней силой катился поток вливающихся в прорыв войск, расположились в лесочках, балках, на полянах и за несколько дней врылись в землю, устроились хозяйственно, покойно. Неподалеку от обозников и мастерских оказались блиндажи трибунала, и кто-то из ездовых, кажется степенный, медлительный Мосев, сумел разузнать, что там, впереди, дела наши очень хороши, взяты Купянск и Харьков и что неожиданная остановка, надо полагать, вызвана накоплением сил перед новым броском.
В один из первых дней отдыха Степан Степанович Зюзин, горбатенький, мешковатый ездовой, возвратившись из поездки, привез с собой девушку-санитарку.
Только что прошел тихий теплый дождь, стоял серенький парной денек. Недавно проложенная в лесу дорога раскисла, и Зюзин, путаясь в грязных полах мокрой тяжелой шинели, поспешал сбоку телеги и, где надо, помогал измученной лошади. За всю дорогу он ни разу не пытался разговориться со своей попутчицей, и только однажды, когда лошадь сорвалась передними копытами на скользком глиняном бугре, упала и ударилась оскаленной мордой в землю, Зюзин помог ей подняться, ослабил супонь, чтобы дать передохнуть, и отошел к телеге, где, накрывшись плащ-палаткой, молчаливо сидела девушка.
Длинная, не по росту, шинель сидела на Зюзине коробом, заношенная, вконец размокшая пилотка налезала на уши. Он понимал, что неказист на вид, и поэтому не лез девушке на глаза, не набивался на разговор. Но он слыхал, что девушка списана к ним в тыловое хозяйство по распоряжению самого майора Стрешнева, догадывался, отчего могла случиться такая немилость, жалел девушку и считал своим долгом хоть как-нибудь ободрить ее, утешить. У них в обозе тоже люди, – не одни кони. И ничего, что старики, – со стариками спокойнее, надежнее. Ну, а если что, так рядом, в соседях у них, трибунал, там такие ли молодцеватые офицеры. А если насчет музыки, то лучшего музыканта, чем Петька Салов, не сыскать – как возьмет вечером свою тальянку, как развернет: соловьи заслушиваются!..
Однако ничего этого Зюзин сказать не решился. Горбатенький, с налезшим на затылок воротником шинели, он потоптался, украдкой поглядел на вытянутые из-под плащ-палатки круглые крепкие ноги санитарки и, смущенно потирая слабые, очень большие ладони свои, пробормотал:
– Сапожки на вас… словно на колодочке сидят.
Девушка сумрачно взглянула на свои щегольские, забрызганные грязью сапожки, несколько раз стукнула носок о носок, но на Зюзина даже не подняла глаз. И он смешался окончательно, отошел и заторопил, запонукал лошадь…
До места они добрались перед вечером. За лесом, за неширокой, но очень неспокойной рекой, через которую тылы переправились третьего дня, розовело на закате чисто промытое небо, – к хорошей устойчивой погоде. Пока Зюзин распрягал, девушка отбросила залубеневшую от дождя плащ-палатку и спрыгнула на землю. Оказалась она невысокого роста, крепкая, ладная, в туго сидевшей на ней форме. Привычным движением поправила каким-то чудом державшуюся на волосах пилотку, огляделась с холодным, нарочито безразличным ко всему выражением на круглом, очень чистом лице.
– Дядя Мосев, – позвал Зюзин тонким высоким голосом, – лейтенант где?
Лейтенантом он звал младшего лейтенанта Худолеева, жившего в отдельной землянке. Тихий, страдавший какой-то давней застарелой болезнью, Худолеев все свободное время сидел в землянке и подолгу, обстоятельно писал домой письма…
Девушка оправила под ремнем гимнастерку и, глядя прямо перед собой, пошла в указанную землянку. Зюзин засмотрелся было ей вслед, но запаленная лошадь все мотала и мотала головой, бренча удилами, – она словно подгоняла Зюзина поторопиться.
Неряшливый, заросший бородой Мосев и сидевший рядом с ним в гимнастерке распояской Петька Салов, гладкий нагловатый парень с каким-то кошачьим текучим взглядом, проводили девушку глазами до самого входа в худолеевскую землянку.
– Икристая, – с удовольствием сказал лохматый Мосев, сквозь махорочный дым наблюдая, как узкая юбка облегает при ходьбе ноги санитарки. Петька промолчал и снова раскрыл книгу, которую читал Мосеву до приезда Зюзина. Это был «Еврей Зюсс», зачитанный Петькой до дыр. Любовные успехи фейхтвангеровского героя настолько запали Петьке в душу, что он уже не мог смаковать любимые страницы в одиночку и нашел в лице Мосева благодарного слушателя.
– Ловко, – лениво говорил Мосев, как обычно щуря глаза и застилаясь тяжелым махорочным дымом. – Ловко он их оформлял.
– У нас в ресторане директор был, – вспоминал Петька. – И молодой вроде еще, но на баб на этих он и смотреть не хотел. А уж баб-то было! И каждая – пожалуйста!
– Баба бабе – рознь! – строго сказал вдруг Мосев и цигаркой как бы поставил в воздухе утвердительный знак, – дескать, это понимать надо. Петька знал странную манеру Мосева перескакивать в разговоре с одного на другое и, не удивляясь, гнул свое:
– Так вот я тебе об этом и говорю… Бывало, возьмешь какую-нибудь… уж такую стерву, что пробы ставить негде. И смешно: «Давай, говорит, не сразу, давай, говорит, как у людей…» А другая попадется – ну совсем еще кутенок. И тоже смех. «Давай, говорит, скорей, скорей!..» Боится она, что ли, хрен ее знает.
– А бабенка-то… – Мосев кивнул косматой, головой в сторону худолеевской землянки и все дымил, не отрывал цигарки от губ, щурил глубоко посаженные глаза. – Как орешек.
Петька притворно зевнул:
– А, все они одинаковые.
– Надо будет спросить, кто такая. – И Мосев позвал Зюзина: – Степаныч… слышь, Степаныч! Поди-ка на час.
Зюзин догадывался, о чем его станут расспрашивать, и заранее настроился враждебно ко всему, что коснется девушки. Особенно недолюбливал он Петьку за бесстыдные его рассказы о женщинах. «Скажу, что ничего не знаю», – решил он, направляясь к Мосеву и Петьке. Но тут глуховатый голос Худолеева позвал Зюзина в землянку.
2
С появлением Шурочки, так звали санитарку, жизнь обозников пошла совершенно иначе. Прежде всего, младший лейтенант Худолеев, вызвав Зюзина, попросил его взять над дедушкой шефство; приказывать Худолеев не мог привыкнуть и распоряжения отдавал просительным тоном.
– Ты, Зюзин, о земляночке для нее подумай. Отдельной. Пока у нас тут мирное дело, мы ее телефонисточкой пристроим. А телефонистке, сам понимаешь, ни сна, ни покою. Значит, устроить надо так, чтобы… Понимаешь? Ну, и прочее…
Девушка стояла тут же, и в сумраке землянки она показалась Зюзину еще красивей, еще недоступней, чем в тот миг, когда он увидел ее впервые. Зюзин подумал, что нет, не зря, видно, обратил на нее свое избалованное око знаменитый майор Стрешнев. И ведь молодец, видать, отшила Стрешнева.
Зюзин был счастлив, что заботу о Шурочке командир поручает ему, и заранее прикидывал в уме, как он все устроит для нее. «И пусть только кто-нибудь сунется! Петька этот… Да и Мосев хорош. Старый козел!»
Молоденькая санитарка поразила воображение не одного только Зюзина. Худолеев, прежде чем отпустить ее из землянки, долго и сбивчиво наказывал Зюзину о каких-то пустяках, почему-то несколько раз повторил об одном и том же: что забот у телефонистки почти не будет никаких, – смешно сказать, какой у них тут узел связи!.. Девушка, устав от напряжения, встала вольнее, переступила плотно сомкнутыми ногами.
Когда Зюзин и санитарка ушли, Худолеев несколько минут теребил намотанный на шею шарф, бездумно смотрел на семейную фотографию, где он сам в новом пиджаке и застегнутой доверху рубахе был снят с худенькой, удивленно застывшей женой; Худолеев как сейчас помнил, что сфотографироваться собирались недели полторы и жена сумела-таки упросить избалованную районную модистку, чтобы поторопилась с новым платьем… Худолеев вздохнул, покосился на дверь, в которую только что вышли красивая санитарка в ловко подогнанной форме и неряшливый, куль кулем, солдат, и принялся за прерванное письмо.
Устраивая девушку, Зюзин хлопотал самозабвенно. Он сердито отмахивался от помощи и больше всего боялся, как бы кто-нибудь из солдат не вздумал вышучивать его при Шурочке. «Со своими словечками… Разве поймут они!» Но ему никто не мешал, и самым приятным было то, что главный противник, которого он более всего опасался, Петька Салов, не обращал на санитарку никакого внимания. За все время, пока Зюзин устраивал девушку, Петька ни разу не взглянул в ее сторону. Едва выдавалась свободная минута, он брал свою тальянку и уходил куда нибудь подальше. Правда, играл он в эти дни как никогда раньше, его игрой заслушивались даже суровые, нелюдимые солдаты комендантского взвода. Слушала и Шурочка, наблюдая, как работает расторопный и счастливый Зюзин. Как-то она не удержалась и похвалила:
– Хорошо играет! Но смешной какой-то, странный…
– Музыкант. – Зюзин утомленно разогнулся и, улыбаясь кроткой и доброй улыбкой, утер воспаленное лицо. Он прислушался к грустным, доносившимся из березника на берегу реки звукам тальянки и покивал головой: – Хорошо. Так за душу и берет. Правда?
Поймав на себе ее взгляд, Зюзин смутился. Шурочка, удивившись тому, как он вспыхнул, впервые обратила внимание, какое тонкое, необыкновенно прозрачное и светлое у него лицо. «Как портит человека уродство! Ведь совсем еще… и не старый». В больших прищуренных глазах солдата плескалась с трудом сдерживаемая нежность, и Шурочке, только что думавшей о странном гармонисте, который почему-то упрямо не хотел замечать ее присутствия, стало неловко. Она опустила глаза и, задумчиво покусывая губу, бесцельно постучала плотно сидевшими на ногах сапожками.
Поодаль на бугорке сидел, как всегда распатлаченный, Мосев и, не отнимая от губ цигарки, немилосердно дымил. Он догадывался, почему это вдруг Петька забросил чтение любимой книжки и с таким самозабвением ударился в музыку. Сквозь махорочную завесу Мосев молча смотрел на все, что происходило вокруг, трезвыми холодными глазами старого ерника и, казалось, заранее знал, чем все кончится. Он видел счастливые хлопоты Зюзина, замечал, как скучает и день ото дня все более интересуется музыкантом санитарка, мысленно хвалил пройдоху Петьку и жалел горбуна.
А Зюзин, видя, что его опасения насчет Петьки не оправдались, был благодарен ему за такую щедрость и простодушно прощал все обиды и насмешки.
С Зюзиным Шурочка скоро свыклись настолько, что стала рассказывать ему о себе, и он, на доверие готовый ответить удесятеренным откровением, открыл ей себя всего – наизнанку. Поведал даже о том, о чем никто не знал и не догадывался. Был он до войны дамским сапожником, удивительным мастером своего дела: шил только на заказ…
– Так трудно же вам в обозе! – чистосердечно пожалела Шурочка, не догадываясь, что это больно ранит его. – Шли бы лучше в пошивочную.
Но он готов был простить ей и не такое.
– В пошивочную, Шурочка, меня с руками возьмут. Только заикнись. Но я зарок себе дал до конца войны… – И поднимал к ней прозрачное, одухотворенное лицо свое. – И потому – мечту я имел одну, Шурочка. Эх, было у меня одно дело! Как сейчас в руках держу… – И понуривался, умолкал, с тайной мыслью, чтобы заинтересовалась, попросила рассказать.
В темноте из березняка показался неясный силуэт человека, приблизился к Мосеву, – и скоро два светлячка цигарок зачертили по воздуху, выдавая спокойный разговор курильщиков. Потом силуэт отделился от Мосева и скрылся в землянке. Шурочка проводила его глазами и поднялась.
– Ладно, Степан Степаныч, завтра расскажете. Мне идти надо. Сколько можно прохлаждаться. А то начальство смотрит, смотрит, да и скажет.
– И то, – согласился Зюзин, тоже собираясь.
Назавтра ему выпало стоять в карауле. Одетый по форме, с полной выкладкой, серьезный и чуточку для всех отчужденный, он ходил в отведенном месте с винтовкой наперевес. Вооружены обозники были кто винтовками, кто автоматами, но Худолеев установил правило, чтобы в карауле стояли только с винтовкой…
Рано утром запряг и уехал Мосев. Проезжая мимо Зюзина, он хотел было попросить прикурить, но вовремя вспомнил, что, несмотря на свою мягкотелость, Худолеев не простил бы часовому такой вольности, – чтобы не казаться сугубо гражданским человеком, младший лейтенант неумело строжился и взыскивал за малейшие вольности, нарушавшие, как ему казалось, монолитный уклад страшноватой и зачастую непонятной ему военной жизни… Зюзин несколько раз видел, как пробегала куда-то Шурочка, он радовался ей издали и с нетерпением ожидал вечера, когда освободится совсем.
Вечером сменившегося Зюзина зазвал к себе Худолеев и, сильно смущаясь, стал показывать вконец развалившийся сапог. Зюзин охотно вызвался починить, – за работой, думалось ему, он удобней пристроится где-нибудь рядом с Шурочкой и, слово за слово, скоротает в разговоре приятный вечерок. Сколько их, таких вот тихих, совсем не военных вечеров, осталось им? Совсем мало, не сегодня-завтра снова оживет фронт и – прости-прощай насиженное местечко!..
Уже стемнело, когда вернулся из поездки Мосев. Он долго распрягал, без нужды дергая и крича на лошадь, – не любили лошади Мосева. Потом он, усталый, изломанный дорогой, подошел и подсел к тихо разговаривавшим Зюзину и Шурочке.
Зюзин с ремешком на волосах пристроился на пеньке и, привычно согнувшись над сапогом, ловко орудовал проворными тонкими руками. Закусив зубами конец дратвы, он чутко шарил пальцами внутри сапога, ловя острое жальце шила. Глаза его щурились, словно он прислушивался, как шило прокалывает изношенную на дорогах войны кожу солдатского сапога. Но вот палец натыкался на острие, в проколотое отверстие продевались усики дратвы, и Зюзин раздергивал концы широко и уверенно, с наторелостью бывалого мастера. Смотреть на его работу было приятно, как на что-то дорогое, по чему за бесполезное время войны изболелось мужское сердце, истосковались руки.
Мосев, настраиваясь все более благодушно, подсел еще ближе. Подошел кто-то еще и еще… Зюзин сознавал, что сейчас он в центре внимания, и это было на самом деле, потому что все молчали даже тогда, когда он, чтобы освободить руки, закусывал зубами концы дратвы и умолкал. Все молчали, смотрели на его ловкие руки и ждали, когда он снова заговорит.
– И, Шурочка, – продолжал Зюзин, едва вынимая изо рта дратву, – я был в городе человек известный. Мою работу узнавали по руке. А в нашем деле… – он снова неуловимым движением заправил в рот концы дратвы и на минуту замолчал. – А в нашем деле это, если кто понимает, значит многое. Я, например, работал с выбором, и если кому отказывал, так тот человек не обижался, а просился подождать…
Он замолчал неожиданно надолго, – что-то слишком долго шарил внутри сапога. Мосев уважительно произнес:
– Рука у тебя хорошая. Это видно.
– С детства на этом, – не без гордости отозвался Зюзин, справившись с заминкой. Он рассказывал как бы для Шурочки, но видел, что слушают все. – А посчитай-ка, сколько я за это время обуви пропустил через них! – и Зюзин покачал перед собой белевшими в темноте руками.
– По сапогам ударял или фасонную работал? – заинтересованно спросил Мосев, все больше влезая в разговор.
– Не-ет, дядя Мосев, – с неким удовлетворением протянул Зюзин. – Я по женской части был, вот по какой!
Мосев, как бы признавая неоспоримое превосходство Зюзина, одобрительно крякнул.
– Да-а… И вот по этой самой своей профессии я имел, прямо сказать, очень интересные приключения, – стал рассказывать Зюзин, явно любуясь собственным слогом и по-прежнему часто замолкая, когда надо было орудовать шилом. – Стали как-то снимать в нашем городе кино, и возникло по этой причине у нас невиданное возбуждение… Да, а особенно досталось мне, потому что приходит однажды ко мне в мастерскую артистка, и артистка такая, что ее знают не только у нас в городе, но и во всем Союзе… И вот приходит она ко мне и говорит…
Внезапно Зюзин насторожился и быстро оглянулся. Недалеко от Шурочки, еле видимый в темноте, сидел на траве Петька Салов со своей неизменной тальянкой на коленях. Когда он подошел и сел – никто не заметил. Зюзин смешался. Рассказывать при Петьке ему не хотелось, – не для него он берег столько времени эту так крепко легшую ему на сердце заветную историю. Однако в конце концов он пересилил себя и заговорил вновь, а потом рассудил, что присутствие Петьки даже к лучшему, – пусть-ка попробует посмеяться, здесь Шурочка, она поймет, рассудит и оценит их по-своему. И ему даже захотелось, чтобы Петька непременно что-нибудь ляпнул, – тогда Шурочка сама убедилась бы, какой он на самом деле, этот гладкий и здоровый как битюг гармонист.
– В общем, попросила она сшить ей туфли, и такие туфли, чтобы можно было в них сниматься в кино. Никогда у меня еще такого заказа не бывало!.. – Постепенно Зюзин увлекся, и недавняя скованность его пропала. – Пришла она ко мне уже под вечер, говорит, что весь день снималась и так устала – рук не могу поднять. Большой привлекательности женщина! И верно, уста-алая такая… «Да вы, говорю, прилягте вот сюда, не побрезгуйте». – «Спасибо», – говорит и ложится. Да, ложится! А я… я, конечно, тут же, возле нее кручусь. «Может, говорю, чайку? Так я сейчас к соседке.» – «Нет, нет, говорит, вы лучше присядьте. Я сейчас отдохну да пойду». Присел я тогда на табуреточку, держусь на самом краешке, а она берет меня вот так за руку… – Зюзин, увлекшись, смело взял Шурочкину руку и подержал в своей. – Берет она меня и говорит: «Как, говорит, все-таки мало нам надо…» И я до сих пор не знаю, о чем это она тогда говорила, но с того дня, что бы потом о ней ни рассказывали, я ничему не верил. Как снежинка она показалась мне чистой… или еще лучше – как звезда. Я одно время так звездочкой ее и звал, – признался Зюзин. – А туфли я собирался ей сделать царские. Чтобы нога в них была как березка нарядная. Но… война. Как сапогом на все наступила… А заготовки у меня лежат. Лежа-ат! Так что, Шурочка, приезжайте после войны, я вам эти царские туфли и подарю.
Возбужденный собственным рассказом, Зюзин совсем забыл о присутствии насмешника Петьки. Однако – странное дело! – Петька промолчал: словно и не слыхал. «И зачем он только пришел? – все же с досадой подумал Зюзин, переживая наступившее долгое молчание. – Как бы хорошо посидели! Мосев стал бы что-нибудь спрашивать, я б… Он ничего, оказывается, мужик, Мосев-то…»
Тихо, настолько тихо было вокруг, словно войны не было и в помине. И в этой чуткой тишине вдруг легким ласковым вздохом отозвалась тальянка. Не растягивая мехов, Петька еле слышно играл что-то, будто мурлыкал себе под нос. Петька играл долго и грустно. Солдаты словно догадывались, что сегодня ему нужно пересидеть всех, они поднимались и неслышно расходились. Последним встал и ушел Мосев.
Зюзин растерялся. Он сообразил, что сейчас здесь лишний и он, что лучше всего ему встать и тоже уйти, как ушли догадливые солдаты, как ушел более всех догадливый Мосев. Но какая же обида за свой рассказ поднялась в душе Зюзина! Ведь он так берег его, так на него рассчитывал!
Знакомый тусклый голос Худолеева несколько раз позвал Зюзина. Он поднялся и пошел, как ограбленный.
Никто не сказал ему ни слова.
Когда он вышел из худолеевской землянки, то увидел, что подходить ему больше не имеет смысла: Петька и Шурочка о чем-то разговаривали. Петька, время от времени трогая клавиши тальянки, что-то рассказывал. Шурочка прилично смеялась, не выказывая пока особенной заинтересованности. Так они говорили и посмеивались довольно долго. Зюзин извелся, наблюдая. Но вот Петька, о чем-то весело болтая, поднялся и подождал, пока встанет Шурочка. Не переставая рассказывать, Петька направился к реке, и Шурочка, будто сомневаясь, медленно пошла за ним. Зюзин весь вытянулся и закостенел. «Не ходи!» – хотелось закричать ему вслед беспечной Шурочке, но тут он увидел, как девушка, от души рассмеявшись, хлестнула за что-то Петьку по спине прутиком. Петька, играясь, отбежал, подождал, – и они скрылись в березничке.