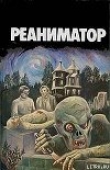Текст книги "Короткий миг удачи (Повести, рассказы)"
Автор книги: Николай Кузьмин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)
Павел слушал и думал, что, оказывается, и сюда доплескивают последние события, и здесь трещит и корчится надоевшая старина. Всю страну, все уголки продувало свежим ветром. А вот ему приходится немощно трястись на телеге. Анна рассказывала, что она было совсем хотела перейти в артель, но не пустили, а теперь уж и не стоит. Правда, до желанного изобилия еще далековато, но ведь и в артели-то не с медом кусок едят. А колхоз нынче к осени думает поднять трудодень, так что ей будет что получить. Пока же приходится перебиваться – огородишко, хозяйство. Ну, кто попроворней, тот успевает приторговывать – по воскресеньям в райцентре базар. Вот соседка, вдовая Пелагея, так та с базара и живет. Живет одна, с девчонкой, но устроилась лучше не надо… Ехать встречать-то пришлось ей поклониться, чтоб дала подводу. Не отказала…
– Это какая же вдовая? – спросил Павел. – Уж не лупоглазая ли, с косичками?
– Ну да, Макара Селина, соседа нашего, – забыл, что ли! – дочка. С косичками, с косичками, лупоглазая… Так это ты ее еще девчонкой знал, а теперь она – я те дам!..
– Смотри ты, а ведь я ее сейчас и не узнаю! – заворочался Павел, оживившись от воспоминаний. – Вдовая, говоришь?
Анна проворно утерла губы.
– Тут был у нее один, куда там!.. Забрала его к себе, избу хотела на него писать. А он возьми да и удери. Дураки, ей-богу, дураки эти мужики!
Павел внезапно закашлялся и кашлял надсадно и долго. Анна умолкла и со страхом смотрела на его корчи, на сизое, с белесыми отливами лицо.
– Лечиться тебе, братушка, надо, – тихо сказала она, когда Павел утомленно затих.
Павел поморщился:
– Надоело уж все.
Она поняла его по-своему и подхватила вожжи.
– Теперь уж быстро, недалеко. Вот тут сейчас завернем, а уж там, поди, не забыл еще…
– Поворот? – встрепенулся Павел, приподнимаясь.
– Вот он, вот. Но-о, куда ты, холера! – прикрикнула она на лошадь.
– Постой, постой, Аня, останови, – попросил он. – Помоги-ка мне.
Анна, остановив лошадь, с почтительным недоумением к причудам брата поддерживала его за спину.
Павел не отрывал от реки глаз. Отсюда, с высоты пригорка, она была видна от берега до берега. Солнце уже зашло, но по поверхности реки еще гулял багровый отсвет облаков. Как бы застывшая в своем могучем устремлении вперед, она казалась откованной из стали.
Ночь уже подкрадывалась с заречной стороны, и тальниковые заросли, темнея, стирали отчетливые очертания берегов. Теперь только стремнина реки блестела тонким разящим клинком. Вот что-то мелькнуло на ее гладкой поверхности, скрылось и опять показалось, уже значительно ниже, – бревно. Где-то оно завтра окажется? Может, утром его увидят Арефьич с ребятами?
Кашлянула и пошевелилась неловко сидевшая позади Анна; Павел пришел в себя.
– Ладно, поехали, – раздраженно сказал он, резким движением плеч освобождаясь от рук Анны. Сестра села на свое место, разобрала вожжи; он лег, закрыл локтем глаза.
Но когда подвода тронулась, Павел не утерпел и поднял голову – реки уже не было видно, телега шибко катилась с пригорка в холодную низинку. Анна торопила лошадь.
«Ну, вот и все».
2
Открыв глаза, Павел увидел утро – солнечное и веселое. С наслаждением потянулся – давно не спал так славно. В бараке известно, что за постели… Он хотел бойко встать, но с удивлением обнаружил, что не может – в теле была какая-то мягкая, томительная слабость. Не огорчаясь, снова лег: хоть отлежаться за все время.
Сестра держала свою избу в опрятности и чистоте. Над кроватью цветной ситцевый коврик, в углу, где столик, чуть ли не одна на другой налеплены фотографии, открытки, вырезки из журналов. Все это было по-родному знакомо, но давным-давно забыто. Сколько же это времени прошло?..
Вторая кровать в горнице не разобрана, и Павел догадался, что Анна оставила его одного, уведя детей спать в кухню. Сейчас за плотно прикрытой дверью слышались осторожные шаги; тянуло оттуда праздничной, давно не пробованной едой.
Павел задремал, но уснуть не успел. В кухне раздался детский визг, зашикали два приглушенных голоса, отчетливо послышались шлепки. Голос Анны погнал детей на улицу.
В кухне разговаривали, тихо, вполголоса. Павел силился понять – с кем это она?
– А худющий-то, худющий! Одни глаза, одни глаза остались. Уж такой заезженный, уж такой измотанный! Я аж обмерла. Из армии карточку присылал – куда глаже был. Видать, работушка не свой брат. У нас-то все собираются в город – не захочешь… Уж пусть впроголодь когда, да не так… Ведь краше в гроб кладут!
Собеседница сочувственно цокала языком.
– Насовсем приехал или как? Не спрашивала?
– А куда ему, милая Пелагеюшка, теперь деваться? Ни отца, ни матери…
«Ах вон это кто!» – догадался Павел. Ему вдруг страшно захотелось увидеть ее, посмотреть, что же сталось из тонконогой соседской Польки, дочери сурового и прижимистого старика Макара. Самого Макара уже не было в живых – это Павел знал еще из вчерашних рассказов сестры, – а вот Пелагея молодец, не растерялась, одна вела хозяйство. И смотри ты, чуть свет заявилась, первой проведать пришла. Видно, помнит еще, не забыла.
– С работы-то отпустили его? – свистящим шепотом допытывалась Пелагея.
– А на что он им теперь сдался? Уж такой худющий, уж такой…
– Насовсем?
– Насовсем, милая, без возврату.
– Посмотреть бы, хоть глазком одним.
– Спит.
– Я тихо-онько…
Павел услышал возле двери робкие, крадущиеся шаги. Из озорства он закрыл глаза, притворился, что спит. Дверь скрипнула, и Павел почувствовал, что на него смотрят. Он терпел, не разжимал глаз. Смотрели долго, и он уж задрожал ресницами, чтоб открыть глаза и рассмеяться: «Ну, здравствуй, соседка!» – но дверь легонько стукнула и донесся голос из кухни:
– Нос-то как у цыгана.
– Вот, – жаловалась Анна, – как его теперь выхаживать?
– Молока надо. Парного… С медом.
– Шутка сказать! Тут корова, как на грех, бросила доиться…
– У меня есть. Я буду, если что…
Павел, не прислушиваясь к шушуканью женщин, лежал с закрытыми глазами – все хотел представить себе Пелагею: какая она сейчас? Перед уходом в армию, гуляя последний вечер в деревне, он напился пьяным и на вечерках все время танцевал с Полькой. В перерывах между танцами он держал ее за несмелые огрубевшие пальцы и без остановки молол какую-то чепуху. Все, конечно, смотрели на него, все видели и замечали, но не подавали вида. Так уж повелось – пусть последний вечер погуляет. Поздно ночью, провожая Польку, он осмелился и, неумело схватив ее, поцеловал где-то возле уха. Полька испуганно рванулась и убежала – только лязгнула калитка. Он еще долго топтался возле ворот, все ждал – может, выйдет? Не вышла… Вот и все. Может, было и еще что, но теперь уж не помнит. В памяти почему-то особенно отчетливо всплыл только этот неловкий поцелуй, всплыл и до боли напомнил ему о неомраченном юношеском времени, когда все казалось легким и пустяковым, без забот, неудач и болезней.
На улице, за окнами, звенел чей-то пронзительный старческий голосишко:
– А без техники мы что – не артель. Машины есть, а стоят. Значит, надо звать спеца… – что? – специалиста. Да. Иначе все – что? – разбегутся. В колхоз уйдут. Верно…
«Как телега», – усмехнулся Павел, припоминая, у кого в деревне был такой голос. Не помнил. Вот ведь время что делает – уж, кажется, все в этой деревне было исхожено, иссмотрено, а забыл. А ведь знакомый чей-то голос… Ишь расскрипелся!
Незаметно Павел уснул и проснулся поздно, освеженный и окрепший. Окошко в горнице было закрыто от солнца полотенцем, и в комнате царил приятный полусумрак. Сестра чутко стерегла сон больного.
Павел попробовал подняться и поднялся, сел, спустил с кровати худые незнакомые ноги. Слегка кружилась голова. Анна словно поджидала, когда он поднимется; она заглянула в дверь и, увидев его сидящим, вошла.
– A-а, Аня… – улыбнулся он, держась руками за койку.
Анна, стараясь не глядеть на его голенастые ноги и выпирающие из-под ворота рубахи ключицы, улыбчиво кивала:
– На родной-то сторонушке небось слаще… И спишь, и сон видишь… Я уж сегодня и петуха отнесла к соседям, чтоб не кричал.
– Хорошо поспал, Аня, спасибо, – медленно произнес он, чувствуя, что поднялся все-таки зря, надо было лежать; но сейчас ложиться уже не следовало – напугается, захлопочет сестра. Он кое-как оделся и вошел в кухню. Здесь было жарко от натопленной печи и неудержимо солнечно – Павел даже глаза прикрыл.
Анна бросилась к распахнутому окошку.
– И что ж это я? А ну прохватит!
– Да нет, нет, – остановил он. – Чего уж я… Кто это приходил утром?
– Слышал? – живо обернулась Анна. – А уж мы старались…
– Так кто?
– Кто, кто… Пелагея, не знаешь, что ли.
Сказано это было таким тоном, что у Павла порозовели скулы – неужели о чем-нибудь вспоминали?
– Уж так она просилась поглядеть, так просилась. Нет, говорю, и не пустила. Ладная такая бабочка, хозяйственная.
– Ну, ну, – Павел опустил глаза.
Сестра собирала на стол.
– Давай-ка садись, – командовала она. – Я тебя кормить буду.
И когда Павел увидел гору золотистых оладушков, дрожащей рукой выбрал один – горячий, прожаренный, хрустящий, нетерпеливо обмакнул его в чашку с медом и отправил в рот, – от блаженства и благодарности невольно прикрыл заблестевшие глаза: «Да, хорошо дома!»
Едва стемнело, к Анне прибежала рыженькая востроглазая девчонка, принесла кринку парного молока.
– Мамка сказала, чтобы отдать… Вот.
Поставив кринку на стол, она воровато стрельнула глазами в горницу, оттуда на нее с интересом смотрел приподнявшийся худой, заросший черными волосами мужик.
– Чья это? – спросил Павел, хотя уже давно догадался.
– Ее.
– Большая, – задумчиво произнес он, припоминая в девчонке что-то знакомое.
– В школу пойдет. Пелагею так и не видал?
– Нет. Где я ее увижу?
– Ладная стала баба. Одна, а живет – куда тебе с добром. Хороший бы человек нашелся – и горя бы не знал. Уж она о тебе приставала – все выспрашивала. Видно, приглянулся…
Павел понимал намеки сестры, и они злили его. С беспощадной жестокостью к себе, к своей слабости, он сказал, медленно укладываясь на спину:
– Какой теперь из меня жених!
И нехорошо усмехнулся.
Медленно набирала силу весна. Дни стояли погожие, сухие. Многие отсадились в огородах.
Павел окреп настолько, что помогал сестре делать грядки – граблями разбивал комья сохнущей земли. В соседнем огороде он несколько раз видел Пелагею. В первый день он издали коротко поклонился ей и отвернулся. Почувствовал на щеках лихорадочный, тугой румянец. Ни он, ни Пелагея не делали попыток увидеться, и Анна понимала их и не пыталась ускорить ход событий. Да Пелагее было и недосуг – еле поспевала везде. Торопилась и Анна – с огородом она, за колхозными работами, припозднилась.
Подошла родительская суббота, и, как Анне ни хотелось сходить на кладбище, терять день она не решалась. Она попросила Павла, и тот от нечего делать согласился. С детства еще помнились ему тихие, благостные дни родительских суббот, когда все село тянулось на кладбище посидеть над родными могилками. Анна напекла ему оладьев, сварила несколько яиц. Завязала все в узелок – раздать на кладбище богомолкам за помин души.
Народу на кладбище оказалось мало, куда меньше, чем в те годы, и Павел удивился – то ли веры в людях стало меньше, то ли за делами некогда. Он с трудом нашел могилы отца и матери: стояли они когда-то на отшибе, в молодом зеленом березняке, а теперь столько понаселилось вокруг! Но могилы выглядели аккуратно – Анна за делами не забывала и о стариках. Павел с горечью подумал, что вот, старое умирает, а молодое растет, и все почему-то видел перед собой востроглазую девчонку Пелагеи.
Сколько сидел Павел – он не знал. Поднималось и припекало солнце, откуда-то издалека, из-за реденьких, еще не оперившихся березок, доносился тихий, упокойный благовест. Над маленьким старым кладбищем, над могилами и головами живых, над крестами и березками раскинулось голубое, бездонной синевы вечное небо. Все дышало здесь земным нетронутым покоем. Павел подождал, не подойдет ли кто, кому, как наказывала сестра, можно отдать узелок и попросить помянуть рабов божиих Данилу и Меланью, но богомолки, как на грех, обходили этот далекий, глухой угол кладбища. Или их действительно меньше стало?
Сумрачный, тихий, разморенный думами, Павел не спеша шел между могилами. Он знал о своей опасной болезни, но – странно – не боялся ее. Он не мог представить себе, что однажды, вдруг, не будет ни света и неба, ни вот этой каменистой, ощутимой сквозь прохудившиеся подметки, дороги. Но что-то надо было делать, не сидеть же век на шее сестры. Нужно было чем-то жить. Но как?
Деревня была маленькая – тридцать дворов. Да и то еще разрослась за военное время; раньше на этом месте была лишь заимка деда Пелагеи – угрюмого, прожившего что-то около ста лет пасечника Луки. Откуда и как он сюда попал – никто толком не знал. Много в те поры тянулось в эти края беглого люда. За молочными реками, за кисельными берегами брел народ из безземельных российских губерний. Алтайская глухомань казалась обетованной, ласковой землей. Для сохранности от поборов и тягот забивались в самые что ни на есть углы и тут, матерея, обрастая добром, пускали корни, селились навечно. Шли годы, а над заимками, таежными деревнями только густел хозяйский ситцевый дух, нелюдимый, кержацкий. Это потом они, бородатые, угрюмые хозяева, будут пороть вилами новых незваных пришельцев, спасая от конфискации уже изрядно подопрелые закрома; это они раздуют пламя кулацкого мятежа, пытаясь остановить тягу изголодавшихся крестьян к колхозам. И много еще останется от сгинувших годов на будущее, и потребуются великие труды, чтобы повыветрить, истребить затхлый дедовский дух из этих мест. Понадобятся известковый запах строек, дымные горизонты заводов и фабрик, машинный лязг колхозов и МТС, – и только тогда дрогнет старина, отступая, стушевываясь и погибая. И все же многим еще будет разлиться эта далекая окраина большой страны, несмотря на то что жизнь идет и новое наступает неодолимо – наступает гравийным трактом Восточного кольца, протянувшимся до самой китайской границы, гудками пароходов, напоминающими теснинным речным верховьям о завтрашнем времени. И поразится, попав сюда, свежий человек – да, велика страна и много на земле еще работы.
…Задумался Павел – куда же податься было здесь? В артель? Не с его здоровьем. В колхоз?.. Павел озабоченно сокрушался – лучше, конечно, в МТС. Работа бы там ему нашлась, но как-то больно опять было срываться и ехать на новое место, – Павлу, достаточно намотавшемуся по свету, до того согревающим показался уют старой, помнившей еще материнские руки избы.
А жить надо было.
Кладбище кончилось, и Павел с узелком в руках медленно побрел по дороге. Над дорогой, над кустарниками стригли воздух ласточки!
– Павел Данилыч! – внезапно услышал он чей-то знакомый голос и очнулся. Оглянувшись, даже оторопел – Пелагея! Смущена была и она, – стоя друг против друга, они смотрели и конфузливо смеялись глазами. Пелагея нарядилась празднично, богато. Изменилась она неузнаваемо – цвела пышной бабьей красотой. Но что-то в ней оставалось и от той девчонки, испуганно убежавшей в калитку. Только что?
– Что ж вы, Павел Данилыч, узелок обратно песете? – с неуловимой ноткой заигрывания спросила она. Павел развел руками, кашлянул.
– Да вот… Никого же нет.
– Надо было оставить на могилке, – деловито посоветовала Пелагея. – Назад уносить грех.
Павел остановился.
– Так что же делать?
Она рассмеялась и предложила вернуться. Они пошли назад. Часто приотставая, Павел разглядывал ее сзади и все дивился – до чего изменилась! Он вспомнил, как мальчишкой, притаившись со сверстниками в кустах на берегу, подглядывал за купающимися девчонками, и подумал, что теперь Пелагея должна быть очень хороша. Она удивленно оборачивалась – почему он отстает? – и Навел торопливо опускал глаза.
– А худой какой вы, Павел Данилыч! – косила она на него выпуклые зеленоватые глаза; Павел вспомнил, что осталось в ней от прежней Польки, – глаза, такие же, как тогда, перед армией. Вспомнив это, он как-то сразу освоился, стал проще, развязней.
– Да уж до вас мне, Пелагея Макаровна, далеко!
Она хлопнула себя по бедрам и зашлась мелким грудным смехом.
– Вот уж в самом деле, – проговорила она, утирая глаза зажатым в кулаке платочком. – А что делать – не знаю. Вроде на работе хлещусь как проклятая, а – толстею.
Теперь рассмеялся он, легко и дружески, и, касаясь плечами, они пошли по залитой солнцем дороге.
У самого кладбища они встретили согнутое в дугу ветхое существо и отдали ему узелок. Черная старушонка держала в своей сморщенной лапке беленький узелок и смотрела вслед беспечным, греховно смеющимся людям, осуждающе поджав желтые высохшие губы.
3
Майские праздники в деревне прошли серо, незаметно. Шумно гуляли только рабочие артели – после праздничного обеда они как были во всем чистом, принаряженные, погрузились в подводы, взгромоздили на телегу моторную лодку и отправились неводить. По пьяному делу ничего не поймали, но шуму наделали много – чуть не утонул, свалившись в воду, заводила всех рыбалок пимокат Василий, отчаянный забулдыга парень. Откачивали его всем миром и еле спасли. Трезвые, промокшие, явились в деревню на рассвете и сразу разбрелись по домам. Больше нигде не собирались и этим повергли многих в великое изумление – обычно гулянье длилось три-четыре дня, с песнями и гармошкой по улицам, с пьяным гомоном по ночам. Старикам это дало пищу для воспоминаний – раньше, по их мнению, пили больше, праздновали разгульнее. А теперь что – мельчает народ.
В майские дни Павел помогал сестре садить картошку; в деревню, чтобы не бить зря ноги, не возвращались и ночевали в поле. Анна торопилась: вот-вот должна подойти прополка, – значит, опять на колхозном поле будешь день и ночь. Трудодни она теперь считала, словно складывала в копилку.
Пелагею он видел уже после того, как отсадились, видел несколько раз, но все встречи получались какие-то мимолетные – здравствуй, прощай.
Однажды, это было незадолго до сенокоса, гуляя по молодому осинничку вдоль крохотной, воробью по колено, речушки, Павел неожиданно наткнулся на Пелагею. Скрытая от людских глаз густой молодой порослью, она стояла по колено в воде среди широкой, устроенной мальчишками для купанья, запруды и, бесстрашно скинув кофту, мыла волосы. Павел, опешив, отпрянул назад. Но повернуться и уйти не хватало сил, слишком велико было лукавое искушение. Он осторожно отвел в сторону ветку и, затаив дыхание, стал смотреть. Пелагея была совсем рядом – рукой подать. Чтобы не замочить юбку, она забрала ее высоко между колен, и обнаженные сзади ноги молочно белели крепким бабьим здоровьем. Круто выгнув голую красивую спину, она проворно нагибалась, черпала пригоршнями воду и поливала на голову. Вода бежала по плечам, стекала по круглым, быстро снующим локтям. Павел, натянувшись как струна, глядел не отрываясь.
С запада, над погорелыми, зазеленевшими вырубками, быстро заходила сизая грозовая туча. Пелагея торопилась, беспокойно поглядывая на приближающуюся грозу. «Не успеет, – почему-то подумал Павел, судорожно глотнув сухим горлом. – Не успеет». Перегибаясь назад, Пелагея быстро выжала волосы и, отбросив их за плечи, пошла из воды, деловито вытирая почти девически крепкую грудь.
Оставаться теперь было стыдно, и Павел отпустил ветку.
Налетел ветер, и осинничек затрепетал, закланялся, показывая серебристую изнанку листьев. Впереди, около деревни, взвило и понесло столб пыли, тусклой хмарью в минуту занесло небо. Где-то высоко, в кромешной свистопляске вдруг грохнуло и раскатилось – над полем, речкой и деревней.
Павел уже давно заприметил старую, в три ствола, развесистую иву и припустил к ней. Под это дерево, рассчитывал он, и Пелагея кинется укрываться от дождя. Павел добежал до ивы и остался без сил. Привалившись к стволу спиной, он тяжко дышал раскрытым ртом, рукой удерживая бешено колотящееся сердце.
Кругом все стихло так же разом, как и взвихрилось. В грозовой тишине рваными космами наискось неба приближался дождь. Крупные, как пули, капли – тук, тук – щелкнули у самых ног Павла и заставили его подобраться. Прильнув спиной к дереву, на носках, он поглядел, не покажется ли Пелагея.
Он увидел ее, когда дождь лил вовсю – ровно и щедро. С корзинами белья на коромысле она медленно шла по залитой дороге, разъезжаясь в грязи босыми ногами. «Ну вот и спряталась», – пожалел он и, подождав, пока она подойдет поближе, отчаянно замахал ей рукой. Она увидела и просто покивала – иду, иду. Свернула с дороги на траву и пошла проворнее, все оглядываясь в ту сторону, откуда пришел дождь.
– Да скорее ты! – не вытерпел он, выскакивая под дождь и помогая ей спустить с плеч тяжелые корзины. Она поставила их на траву и, улыбаясь мокрым упругим лицом, восхищенно произнесла:
– Ну и дождь! Для картошки – самое что ни на есть! Успели свою-то посадить?
Волосы ее были мокры и небрежно забраны на затылке. Она стала рядом с Павлом, прижавшись к нему горячим мощным бедром. Рукавом кофточки она утирала мокрые щеки и то локтем, то грудью невзначай задевала его.
– А я в аккурат стирку затеяла. Вот наказанье! – Пелагея распустила волосы и, закручивая их жгутом, выпуклыми озорными глазами смотрела на него снизу вверх. – Все бережешься. – Она вынула изо рта шпильки и, морщась, стала закалывать густые тяжелые волосы. – Хоть бы погрел, кавалер.
И нельзя было понять – шутит она или говорит серьезно. Павел сконфуженно фыркнул и – будь что будет! – неловко обнял ее за мокрые плечи.
– Горячая-то, как печка, – бормотнул он, почувствовав ее податливое движение.
– Уж будто, – она просто повернулась и, зажав груди между локтей, прижалась к нему животом и ногами.
– Совсем как печка. Знаешь, есть такие. У нас в бараке была…
– Уж будто, – близко шевелила она теплыми крепкими губами, – так я поверила…
Павел осторожно поцеловал ее в мокрый холодный глаз. Она быстро и горячо прикоснулась губами к его шее.
Дождь утихал.
Мимо Павла и Пелагеи, обнявшихся у дерева, проехала, разбрызгивая грязь, колхозная полуторка, полная промокших людей. Они кричали что-то озорное, вскочив, махали руками. Пелагея испуганно отпрянула и злыми глазами проводила машину.
– Чего ты? – потянулся к ней Павел. Она отвела его руки и поправила кофту.
– Теперь пойдут языками чесать! – процедила она, дрожа бровями.
– Да ну… – Павел взял ее за плечи, но она властно сбросила его руки. Вышла из-под дерева, взяла коромысло, поддела корзины.
Павел оторопело молчал.
– Приходи сегодня, как свечереет, – бросила она, не взглянув на него.
– А куда? – простодушно спросил он.
Она рассмеялась, не разжимая губ, неожиданный румянец ожег ее щеки.
– Домой, куда же еще? – грубовато сказала она и, подняв тяжелые корзины, пошла прочь, твердо ставя белые, заляпанные до колен ноги.
Едва дождавшись сумерек, Павел стал одеваться. Анна удивилась:
– Ты куда это?
– Что? – Он сделал вид, что возится с ботинком.
– На ночь-то, говорю, куда?
– Да так, пройтись, – пробормотал он, стараясь говорить как можно равнодушнее.
То ли поверила, то ли поняла Анна, но с расспросами больше не приставала. Павел, вздрагивая словно от озноба, вышел на темный сырой двор, под очистившееся звездное небо.
Ставни окон у Пелагеи были закрыты, и это несколько обескуражило Павла – он намеревался постучать в окно. Встав на завалинку, он заглянул в щель. Пелагея в одной рубашке, с голыми руками, сидела на постели и расчесывала волосы. Павел осторожно раз-другой стукнул в ставень. Пелагея обернулась, и Павел увидел ее хмурые, строгие глаза. «Неладно все-таки я, – упрекнул он себя. – Еще прогонит. – Он потоптался, повздыхал. – Но ведь звала…»
Калитка ворот была не заперта, и это приободрило Павла. Открыта и дверь в сенцы. Услышав его возню в сенях, Пелагея, не одеваясь, выглянула из избы. Узнав, равнодушно сказала:
– Только закинься.
И ушла.
Павел на ощупь нашел крючок, запер дверь.
В кухне было темно, в углу около печки, на разостланном полушубке, спала, разметавшись, девчонка. Павел, осторожно ступая на носки, прошел в комнату, где горел свет. Пелагея, откинув одеяло, приготовилась ложиться. Павел широко открытыми горячими глазами напряженно смотрел на ее глянцевые толстые колени под короткой рубашкой. Она сердито накинулась одеялом, отвернулась к стене.
– Ну, не пялься. Туши лампу да ложись…
4
Недавнее ненастье не прошло для Павла бесследно. Видимо, как ни берегся, а простуду все-таки подхватил – на второй день неожиданно подскочила температура, ввалились виски и выступил скупой липкий пот. Занедужил он вечером, у Пелагеи. Она всполошилась, забегала. Достала из подполья малинового варенья, принялась сапогом раздувать самовар.
Павел лежал, морщась от иссушающего, волнами набегавшего жара.
Пелагея напоила его чаем, укрыла и ночью то и дело прислушивалась – спит, нет? Утром она никуда не пустила его, оставила у себя. Скоро пришла Анна. Павел неловко застеснялся перед сестрой, но она, похоже, отнеслась к их сближению как к чему-то само собой разумеющемуся. Пока Пелагея носилась по избе, готовя угощение, Анна, скромно поджав под стул ноги, вела с Павлом пустой, обязательный разговор. Сначала он боялся, что Анна начнет выговаривать ему, оставшись с ним наедине, но Пелагея уходила и приходила, а сестра продолжала степенно рассказывать о вчерашней встрече с председателем артели Фаиной Степановной, энергичной, недеревенской женщиной, с короткой прической и вечной папиросой в зубах; она справилась о Павле, но о причине не сказала, видать нашла какое-то заделье. Анна высказала догадку, что артель хочет предложить ему работу – им до зарезу нужен был человек, знакомый с моторами. Но торопиться, по ее мнению, не следовало. Хорошо бы сходить в МТС, трактористом устроиться или еще кем… Там бы жил и горя не знал, тракторист всегда с хлебом. Вон у них в колхозе звеньевая Стешка – уж, кажется, всего девка добилась, а все тянется, ждет: на тракториста хочет учиться. Василий, пимокат, все пороги обил – сватается, но Стешка ни-ни… А почему? В МТС охота. Это пока колхоз бедовал, так артельные жили и в ус не дули. А теперь Стешка при осеннем расчете сама Ваську сможет прокормить. И пусть артель хоть сто моторов ставит – известно, какие их заработки… Так что лучше в МТС.
– Какой теперь из меня толк! – Павел, морщась, натянул до подбородка одеяло. – А тут еще вот покос подходит.
Да, Павел заболел не вовремя. Подходила самая горячая пора – покос. Пелагее только и не хватало что его болезни!
– Ничего, – утешала она. – Справлюсь. Да к покосу-то еще что бог даст.
К покосу Павел немного оправился, но слабость была великая. Однако, жалея Пелагею, он упросил взять его с собой: все хоть чем-нибудь поможет. Она посмеялась, но взяла.
Поехали вдвоем – девчонку Пелагея отвезла на другой же день к какой-то далекой родне на заимку. Пропасть у нее было родни в этих краях – все крепкие, осадистые бородачи, угрюмо соблюдавшие за высокими тынами ухватистый дух кержацкого хозяйствования.
Косили за речкой, в ложке. Собственно, косила одна Пелагея, а Павел лежал в тени около телеги и смотрел в белесое от жары небо. В безветренной глухоте буйно пахло натоптанным разнотравьем, дегтем от колес и сбруей. Подходил стреноженный мерин, сочно хрумкая стершимися зубами, звякал недоуздком. Павел изнывал от безделья. Но ему, видно, теперь только и оставалось, что лежать. Он попробовал было взять в руки литовку, сделал привычный замах, но литовку понесло черт те куда, и он сконфуженно вытер ее острый, как змеиное жало, конец, запачканный в земле.
– Лежи, лежи, – счастливо улыбалась ему запотевшая Пелагея. – Копи силы. Управлюсь и без тебя.
Выставив вперед ногу, она широко, по-мужски, отводила вправо плечо и плавными сильными движениями стелила полукружьями траву. Просыпаясь, Павел видел небольшие копешки, к вечеру вырос стожок.
Сметывали, когда уже темнело. Павел, почувствовав себя лучше, помогал – принимал на возу и утаптывал сено. Пелагея сама запрягла и вывела подводу на дорогу.
Ехали шагом, под меркнущим безветренным небом. Павел попросил вожжи – править. Пелагея охотно уступила и перебралась на его место. Павел деловито встряхивал вожжами. Так, словно муж и жена, они проехали на виду у всей деревни. Когда подъехали к дому, Павел не дал Пелагее спрыгнуть с воза, а слез сам и, отперев ворота, по-хозяйски ввел подводу во двор. Пелагея, счастливо оглядываясь с воза, цвела улыбкой. Она недоверчиво подождала, когда Павел, вызвавшись сам сметать воз, начал перекладывать сено с телеги на поветь, – боялась, что ничего у него не получится. Но Павел, хмелея от неожиданного прилива сил и от этого еще больше входя в рабочий азарт, припомнил забытую мужицкую сноровку и, ловко перехватывая вилы, аккуратными пластами выкладывал ровненький стожок. Пелагея подхватилась и захлопотала – принялась таскать воды, топить баньку.
Парила она Павла сама. Разморенный, усталый, счастливый, он томился на полке.
– Не пей, не пей! – строго прикрикнула Пелагея, когда он зачерпнул холодной воды, и Павел послушно покорился, опустил ковш и вышел в прохладный предбанник. Скоро вымылась и Пелагея, укутала его и повела в избу, поить чаем.
Распаренные, красные, чаевничали долго. Пелагея навалила ему в кружку меду, варенья, сахару, и Павел, млея от удовольствия, со свистом выхлебывал горячую душистую влагу.
– Пей, пей, напивайся, – заботливо приговаривала Пелагея, лаская его влажным взглядом больших коровьих глаз. И сама, жмурясь, тянула с блюдечка.
За чаем, разомлев, не спеша толковали о завтрашних заботах: надо баньку поправить – совсем уже заваливается, крышу на избе с угла перестелить – как бы осенью не потекло, и погреб, – сокровенная мечта Пелагеи – вырыть погреб: этакий нынче урожаище – куда все девать? Забот было много – только успевай справляться. Пелагея высказывала опасение – как бы не увеличили минимум трудодней. Тогда хочешь не хочешь, а придется оторваться на колхоз. Но бог даст – не увеличат, а старый минимум у нее выполнен еще зимой. Павел входил во вкус хозяйствования, озабоченно скреб затылок – где бы тесу достать?..
– Ты пей, пей, – напоминала ему Пелагея и подвигала поближе вазочки, тарелки, блюдца.
А когда Павел, уставший от непривычной работы и до смерти хотевший спать, добрался наконец до постели и улегся на хрусткие, пахнувшие свежим снежком простыни, тепло благодарного умиления охватило его, смежило глаза – хорошо, куда как хорошо дома! И не сравнить ни с чем!
5
Возле остановившейся на середине улицы подводы с горбатой, вверх днищем, лодкой первыми собрались мальчишки – белоголовая босая мелкота. Путались под ногами, получали шлепки, но лезли. Останавливались любопытные бабы, вразвалку, словно нехотя, подходили изнывающие от воскресного безделья мужики.