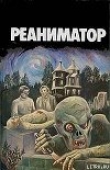Текст книги "Короткий миг удачи (Повести, рассказы)"
Автор книги: Николай Кузьмин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Танька! Эй, Танька, не знаешь, тетка Дарья дома?
Константин Павлович обернулся и увидел молоденькую девушку с загнутыми, как рожки, косичками и босиком. Девушка с интересом рассматривала привставшего в телеге художника.
– Дома, – нараспев ответила она, по-прежнему не сводя с приехавшего глаз. – Не видишь сам, что ли…
Инвалид огорченно крякнул.
– Стеганул бы я тебя за такие-то за ответы. Чему вас только в школе учат? – И повернулся к Константину Павловичу: – Дома сестрица. Вон, встречает. Телеграммка-то, видно, не дошла.
Константин Павлович и сам теперь смотрел во все глаза. У ворот небольшого дома, знакомого вроде и в то же время неузнаваемо забытого, низенького, сильно подавшегося в землю, на скамеечке в тени забора сидела женщина и чесала длинные волосы. Когда остановилась подвода и однорукий окликнул Таньку, женщина выпростала из-под волос лицо и, обирая с гребня, всмотрелась, кто приехал. Константин Павлович встретился с ней глазами: «Неужели она?» Сердце его забилось: господи, сколько лет прошло! Женщина, убирая с лица волосы, медленно поднялась и, боясь верить, все смотрела и смотрела в родное, незнакомое от старости лицо. Но вот всплеснула руками и как была, босая, простоволосая, кинулась к телеге. Константин Павлович спрыгнул на землю…
3
Утром неряшливый, но свежий со сна Константин Павлович направился во двор, однако на самом пороге сенцев остановился и восхищенно закрыл глаза, – до того солнечно, буйно-зелено показалось ему с непривычки на родной земле. Он постоял, с удовольствием ощущая на запрокинутом лице и открытой шее горячее прикосновение солнечных лучей, и снова раскрыл глаза. Да, вот он, совсем было забытый уголок, где, оказывается, каждая веточка, каждая дорожка, как, например, вон та, к перелазу через соседский плетень, все же памятны в душе и, видимо, будут неистребимы, куда бы ни бросала человека судьба. Даже после знойного рая тропиков, после пышных красот южных побережий, как далекий образ быстро и навсегда закатившегося детства, будут вспоминаться пожухлая огуречная плеть в осеннем огороде, и горьковатый дымок вишневых сучьев от прогоревшего костра, и кадушечный запах сырости из старенького, совсем запущенного без отцовских рук колодца.
Растроганный воспоминаниями Константин Павлович неуверенно прошелся по двору – не то гостем, не то хозяином. «Нет, – подумал он, не вынимая из карманов рук, – отвык я от всего, отбился». Но оглядывать отцовский двор было приятно, – приятно узнавать, вспоминать забытое. Однако вот этой яблоньки за заборчиком Константин Павлович не помнил. Может, без него уже посадила сестра? Ну конечно, без него. Сколько лет яблоньке и сколько его здесь не было… Константин Павлович подошел к заборчику и наклонил ветку. Удивился – что за черт? Среди пыльной листвы синели и розовели крохотные бутончики будущих соцветий. Это на осень-то глядя!
– Сестра! – громко, с удовольствием в своем доме закричал Константин Павлович. – Сестра, что это у вас с яблоней-то? Никак, цвести собирается?
Дарья, деятельная сегодня с ранней поры, совсем потерявшая голову от хлопот, выглянула в окно.
– Да господь ее знает, – ласково ответила она, когда Константин Павлович повторил вопрос. – Мы уж совсем рубить ее собирались, а она – гляди-ка!
– Странно.
– Ну иди, иди в избу-то, – позвала сестра.
Константин Павлович усмехнулся: «Радешенька…» И точно – Дарья настолько обрадовалась гостю, что не знала, куда его и посадить. Она и угодить старалась, и угостить так, чтобы было не хуже, чем у людей, и все хлопотала и сбивалась с ног, – в конце концов Константину Павловичу стало даже совестно, и он, как мог, умерил пыл сестры. Еще вчера, до бани, принимая брата с дороги, Дарья к слову ввернула, что пусть он не сомневается, что дом этот его, Константина Павловича, и она все время знала это и, как могла, сберегала оставшееся после отца-матери добро; пусть уж не обессудит, если она где и недоглядела: известное дело – баба, да и время идет, время косит. Константин Павлович вновь замахал на нее руками и даже пристыдил: какие она счеты вздумала сводить? Но Дарья настояла на своем и, пока не рассказала обо всем, до тех пор не успокоилась.
Расстроенный Константин Павлович не знал, куда и глаза девать. Мыслимое ли дело, сколько лет его не было! Он скитался незнамо где, жил как хотел и годами даже подумать забывал, что где-то остался у него родной человек, а вот сестра, знать, думала и помнила о нем все эти годы, помнила и тянула суровую колхозную лямку, пережила, как он слыхал, неудачное замужество, ставила на ноги детей и пуще глаза берегла отцовский последний завет, будто старик, умирая, знал, что придет время и сын его Костюха вернется на родную землю, в родительский дом, завещанный ему, как единственному мужику в семье.
Дарья обстоятельно докладывала, что собиралась в этом году подновить отцовский покосившийся домишко и, грешным делом, с этой целью пустила постояльца на квартиру, парнишку-комбайнера из бывшей МТС, – все мужская рука в хозяйстве, где пособит, где достанет что. Она рассказывала, будто отчет давала настоящему, наконец-то объявившемуся хозяину, и Константин Павлович, чувствуя себя в душе немыслимо скверно, тут же решил, что перво-наперво дом он передаст сестре, это ее дом, она его хозяйка, а не он, шатун по белому свету. Потом – и к дому даст чего-нибудь, ну, денег там, еще чего… Словом, Константин Павлович готов был провалиться сквозь землю, только бы хоть чем-нибудь загладить свою долголетнюю вину перед сестрой.
Вчера же, пока Константин Павлович отдыхал с дороги, а потом разбирал чемодан и устраивался, раскладывался на новом месте, сестра сбегала к соседям, попросила истопить баню и быстро натаскала воды, затопила. Перед тем как уйти, она предложила брату:
– Может, пройдешься пока? Соскучился, поди, по родным-то местам.
Но Константин Павлович остался дома, и сестра ушла. Впрочем, скоро она пришла и тут-то затеяла свой не то рассказ, не то отчет о доставшемся ей на руки хозяйстве…
Баня истопилась ближе к вечеру, и Константин Павлович распояской, с бельем под мышкой, как в былые времена еще мальчишкой вместе с отцом, направился через огород к соседскому плетню. Прохладный тихий вечер, порушенный лаз через плетень, темная банька с зарослями лебеды на крыше, а в лебеде вместо трубы ржавое ведерко без дна – все это узнавалось внезапно и неожиданно ярко и близко. Не успел он раздеться, как послышались быстрые шаги и голос сестры позвал из-за закрытой дощатой двери:
– Костенька, ты не серчай, я отсюда… Тут постоялец мой приехал, Митюшка, – я тебе сказывала. Пусть уж и он с тобой помоется? А?
– Да пожалуйста, – отозвался Константин Павлович. – Что за церемонии?
– Вот и ладно! – обрадовалась сестра. – А парнишка он спокойный, уважительный. Да и спину тебе потрет, – все польза.
В душе же Константин Павлович был недоволен, что помешали его одиночеству. Он так было разнежился от воспоминаний!
Постоялец был невысокий плотненький парнишка с кокетливой челочкой и татуировкой на плече. Беспокойство от него было небольшое, если не считать, что он тотчас же поддал великого жару и принялся с наслаждением париться. Константин Павлович париться не привык, и ему пришлось переждать, пока уймется постоялец. А тот, дорвавшись после полевой маеты до бани, постанывал от удовольствия и хлестал себя без пощады по плечам и крепкой мальчишеской груди, подняв локти и отворачивая от жара пылающее мокрое лицо. За все время Константин Павлович и постоялец обмолвились лишь несколькими словами, да и то лишь на прощанье, когда Константин Павлович, вымывшись, вышел одеваться, взял свое, привезенное из Москвы, банное полотенце, расстелил его на лавке, сел и накрыл колени. Парнишка, уже одетый, собирался уходить. Константин Павлович, помолчав, спросил о том, что не выходило у него из головы с тех пор, как он увидел Дарью:
– Послушайте, молодой человек, скажите, пожалуйста, как здесь сестра живет?
Он надеялся, что Митюшка если и не знает сам, то хоть от людей слыхал что-либо о семейной жизни сестры, но парнишка помялся и не сказал ничего толком.
– Да как вам сказать? – неуверенно ответил он, глазами окидывая предбанник – не забыл ли чего. – Как вам сказать… Живет. Как все… Живут же люди.
Константин Павлович вздохнул и стал одеваться. Когда он вернулся из бани, Митюшки уже не было.
– К девкам залился, – ответила сестра. – Вырвался на вечер. Теперь до зари.
Она накрывала на стол и все убивалась, что как же это брат не отбил телеграммы или письмишка не бросил, – она бы хоть пирог испекла. Надо было дать телеграмму. У них теперь почта есть, так что принесли бы в тот же день. Ну ничего, на завтра она уже тесто поставила.
Стол был накрыт, как заметил Константин Павлович, из последнего, но по выражению значительности на лице сестры он видел, что она горда и этим, что и у нее даже при негаданном случае есть чем принять человека. У ней даже в поллитровке что-то нашлось, и она налила брату в старенький мутный стаканчик и самую малость себе, в чайную с трещинкой чашку. На душе у нее было так полно и радостно и за гостя, и за стол, что она от полноты этой простосердечно пояснила, откуда у нее, вдовы, начатая поллитровка.
– Постоялец мой как-то еще на прошлой неделе забегал. Комбайн у него, что ли, сломался. Они там теперь днюют и ночуют. Ну, забежал, да не один, а с товарищем, а тут еще и Серьга, однорукий-то, «мил человек», который тебя привез. Ну и выпили по стаканчику, да не допили. А остальное-то я убрала. Смотри ты, будто знала!
Ласковыми материнскими глазами она взглядывала на распаренного, усталого брата, который все еще не мог найти как держать себя и у стола сидел неуверенно, совсем чужим человеком. Потом она примолкла на минутку, как бы соображая, все ли она соблюла, что надо, не забыла ли чего, – и с просветленным лицом подняла свою чашечку:
– Ну, держи давай.
Было в этом движении столько трогательного и нежного, что Константин Павлович, хоть и не позволял себе пить водки, от всей души потянулся и чокнулся, хотел сказать что-то, но смешался, махнул рукой и лихо опрокинул стаканчик в рот. Глядя, как он морщится и переводит дух, сестра умиленно кивала добрым отцветшим лицом.
– Ох, тятенька бы сейчас поглядел! – вырвалось у нее. Не опуская чашки, она проворно нагнула голову и вытерла набежавшую слезу и лучистыми влажными глазами посмотрела на брата. – Ладно, ладно, ты не смотри на меня, – произнесла она, будто извиняясь за неожиданную слабость, и, подняв брови, стала пить из чашечки и выпила легко, не морщась, как воду.
Константин Павлович закусил и, не зная, о чем говорить, поднялся из-за стола. Как посторонний стал он рассматривать старые пожелтевшие фотографии, собранные в одной большой рамке под стеклом. Он узнал фотографии и спросил о детях сестры. Ведь большие уж теперь должны быть… Спросил и тут же понял, что попал впросак. Оказывается, сестра писала ему обо всем. Писала она ему не часто, но аккуратно, обстоятельно обо всех сколько-нибудь заметных событиях в ее жизни. И о детях писала. Или это почта, провалиться ей совсем, потеряла письмо? Константин Павлович что-то сконфуженно пробормотал, припоминая, что действительно писала ему в свое время сестра обо всем этом. Сын ее, хороший, работящий парень, не вернулся с фронта, после войны уж схоронила Дарья мужа, а лет пять назад вышла замуж и уехала из родной деревни дочь. Не оседает молодежь в деревне, не задерживается, бежит, едва подрастет, в города, на заводы и рудники.
– В МТС у нас еще многие уходили, – рассказывала разрумянившаяся после выпитого Дарья. – Теперь вот похерили МТС, вроде завернули мужиков в колхозы. А вообще-то не видел ты, братушка, нашей беды. Не дай и не приведи! Да спасибо еще Корней Иванычу нашему, – хозяйственный человек. Не дал согнуть колхозу шею… Ты клуба-то нашего еще не видал? Ну, как же, сходи посмотри. Роялю купили – не хуже, чем в городе. Артисты вот приезжали – не протискаться было. Сейчас что, сейчас жить можно! А на клуб ты обязательно сходи, – о нем в газете даже писали. И с Корней Иванычем повидайся, – он любит со свежим человеком поговорить. А о тебе, пока ты мылся, он уже справлялся. Я за дрожжами бегала, так встретила его… Хороший человек!
4
Председателя колхоза Константин Павлович увидел на следующий же после приезда день.
Первую ночь в родительском доме он спал крепко и проснулся поздно. Проснулся он от громкого голоса сестры и, бодро вскочив, поинтересовался, из-за чего шум.
– Да черемушка у меня в палисаднике стоит, – пожаловалась Дарья; встала она сегодня чуть свет и, забрав волосы под платок, деловито орудовала у печки. – Уж такая ли рясная была черемушка! Так нет, всю обломали. Лезут и лезут. Ну, ребятишки пошли!
После торжественного пирога Константин Павлович оделся и отправился осматривать деревню. Одеваясь, он заботился о том, чтобы не выделяться среди здешних, благо, что и костюм он захватил с собой самый будничный, дешевый. Дарья, провожая его, еще раз наказала обязательно посмотреть клуб, и Константин Павлович, медленно шагая по главной улице в своем простом, но отлично сшитом костюме, помахивал тросточкой и соображал, как бы ему без расспросов выйти к клубу.
Собственно, найти клуб оказалось делом совсем несложным. Продолжая идти по главной улице Константин Павлович вышел прямо к приземистому, но просторному зданию, не кирпичному, рубленному на совесть, добротно и долговечно. Сбоку полураскрытых дверей висела какая-то афишка, надо полагать – о занятиях кружка самодеятельности. Подходить ближе Константин Павлович не стал, а все стоял поодаль, смотрел и думал о своем, о том, что в его время никакого клуба в деревне не было и если была надобность, то людей собирали в правлении – самом большом доме деревни, не считая, конечно, школы. В школе-то и приохотился будущий художник к рисованию, и, видимо, даже сейчас, если только порыться в школьных архивах, можно еще найти его первые «произведения», которым в свое время была оказана небывалая честь висеть в школьном зале и даже в правлении… Так стоял и снова вспоминал Константин Павлович и в задумчивости не заметил, не слыхал, как подошел, скрипя деревянным протезом, председатель колхоза, постоял сзади, подождал и напомнил о себе легким покашливанием.
– Любуетесь? – спросил Корней Иванович, небрежно кивнув на клуб. – Ничего клубишко… Копеечку нам, правда, стоил, да… что поделаешь?
Был он грузен и, как показалось Константину Павловичу, неряшлив, но, присматриваясь к новому человеку, проявлял крайнюю деликатность – взглядывал изредка, как бы мимоходом и неназойливо. Разговаривая, слазил в карман за кисетом, свернул цигарку – все это не торопясь, настраиваясь на душевный разговор.
– Вложили мы в него, нечего сказать, – говорил Корней Иванович, облизывая краешек завертки и принимаясь оглаживать цигарку заскорузлыми, нездоровой полноты пальцами. – Да ведь никуда не денешься. Теперь без клуба нельзя. Народ наелся, его на культуру стало тянуть. Дай клуб, дай рояль… Ну, думаю, нате вам… Нет, – он снова взглянул на клуб, – ничего, не жалеем.
Он стоял с готовой цигаркой, и приезжему, чтобы окончательно закрепить знакомство и расположить к себе председателя, требовалось поднести спичку или зажигалку – смотря кто чем богат, – но не знал этого Константин Павлович, да и, к сожалению, не курил. Корней Иванович пошлепал губами с приклеившейся цигаркой, незаметно бросил на художника сожалеющий взгляд и полез за спичками сам. Но, видимо, что-то еще располагало его к гостю, если он не ушел, вежливо приподняв картуз, а остался стоять, неловко навалясь всей тяжестью грузного тела на деревяшку. Молчал и Константин Павлович, соображая про себя, что, судя по сизым, нездоровым щекам председателя, ему помимо клуба и о себе не мешало бы позаботиться – в Кисловодск, скажем, съездить или еще куда, да и на диету переходить полегоньку; вон и руки опухли от нездоровья же.
– Я слышал, на побывку приехали, – не вынес молчания Корней Иванович. – Доброе дело… Дом, он тянет.
Константин Павлович не ответил.
– А что, не взялись бы вы нарисовать нам картину? – неожиданно бодро предложил Корней Иванович, и художник догадался, что этот разговор и был целью председателя, как раз с этой своей мыслью он спрашивал вчера о нем у Дарьи. – Такую, чтоб – знаешь! – за душу брала! – и даже кулаком потряс энергично, выражая этим высшую степень того, как должна взять за душу картина. – Мы бы ее честно говорю! – мы бы ее в самый передний угол повесили в клубе. А что? Если хорошая картина, не жалко и переднего угла. Вот давайте-ка попробуйте? А?
Константину Павловичу стало неловко от простодушного предложения председателя. Чтобы не обидеть его усмешкой, он поспешно кашлянул, прикрывая рот ладонью, и с минуту рассматривал свои начищенные штиблеты. «А и халтурщики же, видать, мотаются у них по деревням!»
Приняв его молчание за раздумье, Корней Иванович ободряюще хлопнул его по плечу:
– Да что тут думать-то? Рисуй, и все. И не говори мне ничего! – поспешно вставил он, увидев, что Константин Павлович поднял голову и хочет что-то сказать. – Рисуй. Рисуй и не думай! Ну, если уж на то пошло, то я тебе скажу… – он хитровато прищурился и придвинулся ближе. – За нами не пропадет. Понял? Могу тебе даже гарантию дать. Много не обещаю, а худо-бедно… да, в общем дорогу оправдаешь. Ну, договорились? – и, надеясь на благодарность приезжего, потратившегося в дороге человека, протянул покровительственно хозяйскую руку.
В душе Константин Павлович расхохотался над этим жуликовато щурившимся пухлощеким мужиком. В Москве, совсем недавно, его просили оформить спектакль в одном из ведущих театров. Предложение он получил после того, как жестоко и решительно разобрал все, чем занимался лучшие годы своей жизни, годы после огромного успеха «Расставанья». И наотрез отказался от предложения театра, не чувствуя в себе достаточного душевного влечения для этой в общем-то лестной для каждого художника работы… Теперь, чтобы не обидеть Корнея Ивановича, он деликатно сказал, что приехал не для заработка, а со своей определенной целью, что пусть его извинят, но он не может принять этого предложения.
Константин Павлович старался говорить как можно убедительнее, честно глядя в доверчивые и не ожидавшие отказа глаза председателя. По мере того как он говорил, в глазах Корнея Ивановича пропадала жуликоватость. Он оскорбленно убрал протянутую руку, крякнул и приподнял над большой потной головой видавший виды картуз.
– Ну, тогда извиняйте, если так. Мы ведь от простоты души. А коли воздухом приехали дышать, так дышите, запасайтесь. У нас его тут пропасть.
Повернулся грузной оплывающей спиной и пошел прочь, сильно припадая на деревяшку.
Поглядев ему вслед, Константин Павлович вздохнул: ну вот, не успел приехать, а уже конфликт. Но почему он не догадался раньше подарить родной деревне какую-нибудь из своих работ? Вот уж это никуда не годилось! Надо, надо подарить. Вот вернется домой и пришлет. Обязательно!
Он собрался идти обратно, но увидел вчерашнюю босоногую девчонку, которую однорукий Серьга окликал Танькой. Константин Павлович узнал ее по загнутым, как рожки, косичкам. Похоже, что Танька давно уже разыскивала председателя, – звонко окликнув его с другой стороны улицы, она подбежала к нему. Корней Иванович сердито остановился и смотрел на подбегавшую Таньку зверем. Константин Павлович не расслышал, что сказала девушка, но по гневному жесту председательской руки понял, что Корней Иванович отказал ей в чем-то коротко и наотрез. Танька всплеснула руками и стала настаивать, но Корней Иванович, сделав несколько шагов, поворотился к ней всей тучной фигурой. Константин Павлович видел его сизые прыгающие щеки и злые припухшие глаза… Корней Иванович тоже обратил внимание, что за их разговором наблюдают, и сказал девушке что-то такое, от чего она сразу сникла, понурилась, а едва председатель похромал дальше, она в сердцах плюнула ему вслед.
Константин Павлович подождал, пока девушка не поравняется с ним. Она шла медленно, все еще переживая обиду и покусывая косичку. Но глаза ее, как заметил Константин Павлович, уже светились любопытством и то и дело посматривали на него. Завести разговор, таким образом, оказалось совсем не трудно.
На расспросы Константина Павловича девушка не стала таиться и тут же выругала ухромавшего куда-то по своим делам председателя:
– Черт безногий! Из-за копейки подавиться рад. Мало ему все.
И она рассказала художнику о своей обиде. Дело, как уяснил теперь Константин Павлович, касалось все того же трактора, о котором говорили по дороге со станции однорукий Серьга и учитель. Оказывается, учитель деревенской школы Борис Евсеевич, воспользовавшись ликвидацией МТС, уговорил председателя купить старый никудышный трактор, брать который никто из колхозов не хотел. Уговорил он Корнея Ивановича тем, что разбитый трактор сослужит ученикам добрую службу на уроках труда. Корней Иванович поломался, но, прельстившись дешевкой, деньги дал. С грехом пополам тракторишко доставили в школу, стараниями Бориса Евсеевича откуда-то появились недостающие детали, и ребята сами отремонтировали и пустили машину. «Эге», – тут же смекнул Корней Иванович и наложил на трактор свою пухлую хозяйскую руку. Он не мог допустить, чтобы такая необходимая в колхозе машина служила, как он говорил, «для забавы». А ребята, как рассказывала Танька, уж совсем настроились получать дипломы трактористов. Вот и получили…
– С этим безногим чертом получишь, как же! Такую даль таскались в МТС, чтобы только за руль дали подержаться. А тут… А вы правда картины рисуете? – вдруг быстро спросила она, бросив на художника наивный горячий взгляд.
Константин Павлович снисходительно усмехнулся и повел бровями. А Танька смутилась, опустила голову и принялась чертить по пыли корявым некрасивым пальцем босой ноги. Трогательная тень ложилась от ее ресниц на загоревшие тонкие щеки, и по-детски торчали рожки косичек.
– Случается, знаете ли, иногда, что и рисую. – Константин Павлович не нашел ничего лучше, как перейти на шутливый тон.
– Ой, я так люблю картины! – с неожиданной силой призналась Танька, не замечая иронии художника. – Вы знаете, сколько я их уже собрала? Из всех газет и журналов вырезаю. И открытки… Ведь Корней Иванович хоть и скупой, а на книги денег не жалеет. Не верите, – у нас клуб все московские журналы выписывает. Да! Я вот не знаю, вы видели или нет такую картину. Видно, муж… или там парень работал на целине. И к нему приехала жена. Он ее встретил и, видно, рад-радехонек. Выскочил из кабины, схватил ее на руки и – так держит, так держит!.. Не видели?
– Отчего же? – И Константин Павлович назвал картину и фамилию художника. – Ничего работа. Ничего. Ну, а что еще вам понравилось… из последних хотя бы?
Константин Павлович не заметил, каким образом у него появился живой интерес к этой босоногой девчонке. Или это просто дорог ему предмет разговора, то, по чему он соскучился за последние дни?
Они пошли по улице и продолжали говорить – худощавый седой человек в изящном костюме и с тросточкой и понурая девчонка с зажатой в кулаке косичкой. Танька назвала еще несколько полотен, в свое время нашумевших на выставках, и Константин Павлович, постепенно увлекаясь, принялся рассказывать о художниках, написавших эти картины, – со многими из них он был хорошо знаком.
– А знаете, у нас здесь тоже есть, рисуют. У одного даже на областную выставку взяли. Правда!
– Интересно, – пробормотал Константин Павлович, помахивая тросточкой.
– А наш учитель пишет. Ну, сочиняет что-то…
– Борис Евсеевич?
– Вы уже знаете его?
– Вчера ехали вместе.
Они подошли к дому Константина Павловича и остановились. Танька принялась было снова чертить по пыли, но спохватилась и подобрала ногу.
– Что ж, это все неплохо… Неплохо… – неизвестно к чему произнес Константин Павлович, совсем не думая о каких-то там литературных упражнениях деревенского учителя. Танька не поднимала головы. Смешные косички и тонкие ключицы в большом вырезе сарафана придавали ей что-то трогательно детское, однако в сильных ногах, в начинавшей крепнуть фигуре уже было много женского. Особенно ему нравились глаза Таньки, темные, опушенные красивыми ресницами, и он подумал, что эти глаза очень оживили бы коненковскую скульптуру нагой расцветающей девушки.
– Ну… я пойду? – не то спросила, не то просто сказала она, взмахивая своими ресницами и с досадой поджимая корявый палец босой непослушной ноги.
– Разумеется, – ответил Константин Павлович. – Значит, что же – до свиданья?
Под пристальным заинтересованным взглядом художника что-то дрогнуло в ее доверчиво раскрытых темных глазах, она опустила ресницы, но тут же вскинула снова, и ответный взгляд ее получился чуточку лукавым и загадочным. Константин Павлович приятно удивился, хоть ему и неловко стало своего пошловатого тона, сделал шутливый церемонный поклон, чем смутил ее окончательно, и, постукивая тросточкой по лопухам, необыкновенно живой походкой направился домой.
5
Дома, не зажигая огня, сумерничали Дарья и однорукий Серьга.
– Долго, долго, мил человек, гуляешь! – бодро встретил Константина Павловича инвалид. – Мы уж заждались.
– Извините, не знал, – проговорил Константин Павлович, успев разглядеть на столе начатую поллитровку.
– К нам присаживайтесь, – радушно пригласил Серьга и шибко налил в пустой стакан из поллитровки.
Поднялась Дарья, тихо спросила:
– Проголодался, поди? Садись, я сейчас соберу.
Константин Павлович сел за стол, пощупал клеенку и осторожно поставил локти, – переодеваться он не стал. Инвалид был навеселе, размяк и настроен был поговорить. Он часто затягивался из папироски, вскидывая голову, сильно дымил и пепел стряхивал в распахнутое окошко. Пустой рукав его пиджака был засунут в карман.
– Вы извините, Константин Палыч, что я это… так вот… – начал он, выкидывая окурок. – Незваный гость, конечно, сами понимаем…
– Что вы, что вы! – горячо запротестовал Константин Павлович. – Я очень рад. Уверяю вас!
– Ну рад не рад – не в этом дело. А я к тетке Дарье частенько захожу. Дело бобылье, – посидим, поговорим. У нее свое, у меня свое. А нынче иду – и диву дался: яблоня-то у вас! За-поз-дала заневеститься! – Серьга выглянул в окно и долго смотрел на расцветающее дерево, сокрушенно покачивая головой. – И вот скажи – совсем человеческое дерево! А? Все одно как человек какой, – хочет взять свое, и точка.
– Закон природы, – сказал Константин Павлович, чтобы поддержать разговор.
– Верно сказали! – тотчас подхватил пьяненький Серьга. – Закон. Но – дурной закон.
Константин Павлович удивился.
– А я сейчас вам скажу, – пояснил Серьга. – Я скажу… Тетка Дарья, – позвал он собиравшую брату ужинать Дарью. – Тетка Дарья, ведь эта яблоня, кажись, у вас года три яловая ходила?
– Два, – уточнила Дарья. – Два. Я уж сказывала, что совсем собирались рубить, а она – на тебе!
– О! – Серьга поднял палец. – Слышишь? Вот так и человек какой, а чаще всего бабы – самое-то золотое времечко профукают, а потом как хватются да как начнут выкобенивать, – ну как вожжа все одно под хвост попала. Что, не согласны?
– Да н-нет, – неуверенно ответил Константин Павлович, принимая из рук сестры тарелку. – Только я должен сказать…
– Нет, нет, нет! – вдруг горячо запротестовал Серьга, хватая его за руку, и Константин Павлович замер с не донесенной до рта ложкой. – Вы выпейте, выпейте, а после уж и закусите. Давайте-ка, – и он звякнул своим стаканом в стакан Константина Павловича.
В сумеречном свете была четко видна граница налитого в стакане.
– Сопьюсь я у вас, – усмехнулся Константин Павлович, поднимая тепловатый стакан.
– А, умный проспится, дурак – никогда, – заявил Серьга и заученным движением, не глотая, вылил водку прямо в горло.
– Практика, – заметил Константин Павлович.
– Есть немного, – согласился Серьга, со слезами шохая ломтик малосольного огурца. Захрустел. – Так вот я вам и говорю, – снова начал Серьга, прожевывая огурец. – Про яблоню или все одно что про людей. Бабы эти… Я уж не помню, но, кажись, у немца какого-то я читал… Цвейг. Знаете, такого? Ну вот. Здорово он про баб пишет! Так их, сучек, и выворачивает.
– Ненавидите, я вижу, вы их, – вставил Константин Павлович, пригубив из стакана и быстро заедая.
Серьга гневно фыркнул:
– Да есть за что!
– А Цвейга всего читали?
– Все, что было в клубе, все прочитал. У нас теперь с книжками раздолье.
– Вот это хорошо, – сказал Константин Павлович, и вышло у него неожиданно тепло, искренне и убедительно.
– Но больше всего я люблю… эту… как ее?.. Ольгу… Ольгу… Да за историю все пишет!
– A-а… Форш? – подсказал Константин Павлович.
– Во, во, Форш. Здорово баба пишет. Прямо как мужик. Молодец!
Константин Павлович поел, отодвинул тарелку. Сестра спросила:
– Еще?
– Нет, спасибо.
Единственной рукой Серьга вынул из кармане сильно надорванную пачку папирос и прямо из пачки взял папиросу зубами. Закуривая, он помахал рукой, гася спичку, и сощурился от дыма закушенной папиросы.
– А вот вам, – сказал он, – не мешало бы обратить внимание на одного товарища из местных.
– А что такое? – заинтересовался Константин Павлович.
– Да пишет человек. Про нас сочиняет. Я, правда, не читал, но… головастый же мужик!
– A-а, Борис Евсеевич?
– Знаете уже? – удивился Серьга.
– Слышал. – Константин Павлович вспомнил рассказ Таньки, вспомнил саму девушку, и в груди его неожиданно отозвалось тепло и грустно, и ему захотелось остаться одному.
Вернулась убиравшая со стола Дарья и спросила, не зажечь ли свет.
– Нет, нет, не надо, – запротестовал Серьга и стал собираться. В низенькой темной кухне он показался неожиданно высоким, головой под самый потолок. Он стоял и привычно охлопывал себя рукой по карманам.
– Да посидел бы, – сказала Дарья. – Куда тебе торопиться?
– К куме пойду, – отозвался в темноте подобревший голос инвалида. – Кума теперь уж заждалась.
– Поклон ей, – сказала Дарья.
– Ладно… Ну, прощевайте пока. Извиняйте, что не по звану зашел.
– Да будет тебе! – запротестовали и Дарья и Константин Павлович. – Заходи почаще.
После его ухода брат и сестра посидели еще и Дарья рассказала печальную Серьгину историю. По ее словам выходило, что женился «мил человек» по отчаянной любви и, когда на следующий после женитьбы год грянула война, он в немыслимой тоске от предстоящей разлуки хотел чуть ли не руки на себя наложить. Переживал он страшно и на фронте, и уж потом, после войны, в сильном подпитии говорил как-то, что потому его и пуля никакая не взяла, что очень уж он любил и метался сердцем, а от пули якобы большая любовь заколдована. Но, знать, недаром металось неспокойное Серьгино сердце, чуяло недоброе, – так оно и оказалось. Вернулся он к опозоренному дому, к разбитой семье и с тех пор ожесточился и о бабах говорил только уничтожающе, делая единственное исключение для кумы, одинокой, немолодой уж фельдшерицы, которую давно знала и любила за доброту и отзывчивость вся деревня.