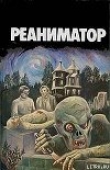Текст книги "Короткий миг удачи (Повести, рассказы)"
Автор книги: Николай Кузьмин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
Семен, застегнутый, строгий, оглядел все ли на месте, и, разминаясь, поиграл пальцами на клавишах трубы.
Можно было начинать.
Оркестр, замерев на местах, смотрел на девушку, ожидавшую у самого края эстрады. Опустив руки, она стояла и ждала, пока утихомирится зал. И шум понемногу пошел на убыль.
Она дождалась такой тишины, что стал слышен дребезг грязной посуды, сваленной где-то далеко на кухне.
– В память старых друзей, – внятно негромко произнесла она, и голос ее достиг самых дальних, самых дымных углов безмолвного, притаившегося зала, – в память наших отцов, братьев, сыновей… в память наших любимых, не вернувшихся с войны… в память всех погибших… оркестр исполняет популярную фронтовую песню… «Землянка».
«Ч-черт! – умиленно восхитился Красильников и заволновался, заерзал на стуле. – Это он здорово придумал!»
Свет в зале и на эстраде погас, исчез в темноте оркестр, осталась одна девушка, высвеченная косым лучом сверху.
«Ловко! – кряхтел Красильников, устраиваясь поудобнее. – Это он правильно…»
Луч света словно отдалил девушку, она стояла одинокая, тоскующая, голорукая, и фронтовой мужской печалью по домашнему огоньку зазвучал ее негромкий задушевный голосишко. «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага…»
Растроганно встряхивая головой, Красильников все чаще утирал пальцем в самом уголочке глаза. «Вот чертушка! – повторял он. – Молодец!» Он не сразу заметил, что голоса девушки постепенно не стало слышно, хоть она и продолжала петь, поднимая и опуская свои тоскующие руки, однако песня рокотала, слитные мужские вздохи прокатывались по огромному, угарно-дымному залу. Осторожно поворотившись, Красильников увидел, что компания багровых мужчин за соседним столиком, да и не только за соседним, а и за тем, за тем – повсюду, все, кого застала песня, подперли щеки, уставили лунатические, размякшие от воспоминаний глаза и гудят, гудят, шевелят губами. Да он и сам, кажется повторял по памяти давнишние незабытые слова.
Пожалуй, на самом деле собралось сегодня здесь немало фронтовиков, если так спелись неожиданно не знающие друг друга люди и допели, довели неторопливо до конца, испытав короткое, но вечно сладкое душе воспоминание.
Песня замерла, утихла, но зал еще сидел и безмолвствовал, и свет не зажигался с минуту, если не более. А когда вдруг отрезвляюще завспыхивали лампы и виден стал оркестр, рояль, трубач, соседи за столиками, все в дыму, багровый плачущий мужчина в плотном кителе буйно вскочил на ноги и заорал, лоснясь лицом и вздымая изо всех сил налитый фужер:
– Би-ис!.. Ура-а!..
Это прозвучало, как команда. Ревя и сокрушая стулья, мужчины пошли на приступ, повалили по проходам, и скоро затопило всю площадку перед эстрадой. Над головами, над сгрудившимися спинами, над затылками замелькали рюмки, фужеры, стаканы, кулаки с зажатыми деньгами. Красильников видел, что Семен, раскланиваясь ловко и привычно, чокается со всеми, кто тянулся, и в то же время быстро, как бы мимоходом, незаметно собирает свободной рукой все, что протягивалось в кулаках. Собирает и прячет, рассовывает по карманам, и в этой незаметности и ловкости собирания видна была немалая наторелость, мастерство. Девушка тоже кланялась и улыбалась, но не чокалась, а лишь помогала трубачу собирать обеими руками.
– Ну? Видал? – спросил запыхавшийся Семен, с размаху плюхаясь на стул и рыская глазами по разграбленному столу. Из кармана у него, как уголок платочка торчала смятая рублевка. Он что-то глотнул, что-то подцепил на вилку и зачавкал, низко пригибаясь к тарелке и возбужденно блестя глазами.
– Деньги-то зачем? – проговорил страдальчески Красильников.
Семен перестал жевать и, оберегаясь чтобы не капнуть на грудь, застыл с поднесенной ко рту вилкой. Помолчал, бросил вилку, – расстроился чрезвычайно.
– Никак что-то мы с тобой… – и скомкал, отшвырнул салфетку.
Подошла, приблизилась девушка, тоже возбужденная, с улыбкой, с уверенностью, что гостю все понравилось. Семен, едва взглянув на нее, сунул ей выдернутый из кармана рубль.
– Тебя еще не хватало! На, сходи лучше за водой.
Ничего не понимая, она с беспокойством посмотрела на одного, на другого.
– Не надо мне денег, – сказала она. – У меня есть.
– Сколько? – отрывисто спросил Семен, все еще избегая смотреть на Красильникова.
– Вот, – девушка доверчиво показала ему мятые рубли и трешки. Он быстро, деловито забрал все, что у ней было, оставил прежний рубль.
– Воды.
В недоумении она отошла, не посмела ослушаться, но, пока уходила, несколько раз оглянулась. В покорности ее было что-то жалкое. – Красильников отвернулся и стал сердито барабанить пальцами по столу.
Скоро он заметил, что кто-то вновь делает ему издали знаки, пригляделся и снова узнал дядю Леню. На этот раз Красильников откликнулся сердечнее – он оживился, поднял и показал рюмку, приглашая выпить.
– С кем это? – хмуро спросил Семен и оглянулся. – А, этот.
– Может, пригласим? – предложил Красильников.
Не отвечая, Семен забрал у подошедшей девушки бутылку с водой, налил, жадно выпил, затем порылся в кармане и достал трешку.
– На, – протянул девушке, – и скажи, чтобы за тот вон столик… да не туда смотришь!.. – за тот столик подали сто граммов коньяку или двести водки. Нет, пускай лучше водки.
Кажется, все выпитое за весь сегодняшний день давало знать. – Красильников, морщась, потер горло. Болела голова и сухо, больно было глазам.
Семен сказал:
– Мы после всего собраться хотели. Посидеть, поговорить.
– Где собраться?
– У меня хотя бы… Хаты, слава богу, у всех есть. Посидим. Если хочешь, девочку организуем. Стелка сейчас позвонит. Если хочешь, конечно.
– Да ну вас, с девочками вашими!
– Смотри, твое дело. Может скучно показаться.
– Да нет, я совсем не хочу.
– Ах вон как! – уязвленно протянул Семен. – Разногласия, так сказать, на идейной почве!
Красильников наблюдал, как он сердится, и разочарованно покачивал головой.
– Слушай, Сеня… Семен… Как тебя по батюшке-то?
– На официальную ногу переходишь?
– Так ведь неловко. И лысина вон, и зубы золотые… Возраст все-таки. Пацанам-то в отцы годишься.
– Мо-ра-ли-тэ! – Семен скривил губы. – Ну, ну, понятно. Значит, память, сколько бы лет ни прошло…
– Помолчи насчет памяти, – предупредил Красильников. – Твои подходят.
Семен трудно поворотил голову, с раздражением оглядывая всех, кто подходил и без стеснения располагался за столом. Красильникову показалось, что он сейчас прогонит их, чтобы не мешали, – и отодвинулся: вообще-то пора было прощаться. Он с улыбкой взглянул на Пашкиного сына, совсем взрослого, самостоятельного парня, развалившегося на стуле с сигареткой и рюмочкой.
– Что ж, Олег… Олежка… Олег Павлович. Я пойду.
Неожиданно обрадовалась и захлопала в ладоши девушка:
– Ой, а ты разве Павлович? Я – тоже!
Не разжимая зубов, Семен процедил в ее сторону:
– Зат-кнись!
Он сидел мрачнее тучи, ни на кого не смотрел и все вращал, вращал по загаженной скатерти пустой фужер, в котором валялся размокший окурок.
Молчаливость его, отчуждение не укрылись от Олега. Молодой человек подозрительно глянул на Красильникова, затем наклонился и спросил вполголоса:
– Сеня, что случилось?
– А!.. – поморщился Семен, показывая рукой, чтобы не приставал с расспросами.
Олег выпрямился на стуле, гневно сдвинул брови. Вот когда узнал Красильников, насколько велик для парня авторитет хромого трубача.
– Скажите, – обратился к нему Олег и развязно закачал ногой, – вы в самом деле кричали, когда в атаку шли: «За Родину, за Сталина!»?
Красильников, совсем собравшийся встать и откланяться, упер кулаки в колени и пристально, пытливо уставился в бойкие, чересчур бойкие, пожалуй, даже нагловатые глаза парнишки.
– А ты хоть представляешь себе, что это значит: пойти в атаку? – спросил он, неприятно удивляясь, что вопрос такой задал не кто-нибудь из оркестра; не саксофонист даже, а сын его товарища, лучшего дивизионного разведчика.
Но ничего не изменилось в ясных, вызывающе взиравших глазах нахального барабанщика, и Красильников, еще не начиная как следует сердиться, додумал, что им с Пашкой в таком возрасте уже хорошо было известно, каково это ломать страх и подниматься из-за бруствера под пули. Да и вообще не представлял он, чтобы Пашка или сам он, Красильников, тот же Семен до фронта, все ребята их большого довоенного поколения, почти целиком не вернувшегося домой, – чтобы они вдруг стали вот так с ехидцей, нахраписто задирать змеиными вопросиками какого-нибудь ветерана гражданской или иной какой войны. И в голову бы не пришло!.. И еще подумалось Красильникову, пока он молчал и смотрел, смотрел в светлые задиристые глаза парнишки: услышал бы Пашка покойный своего теперешнего отпрыска! А ведь нисколько не старше был, – если только не моложе. Убитые не стареют и навечно остаются в том возрасте, в котором погибли, и для Красильникова сейчас покойный Павел и его подросший сын были одного года, одного примерно возраста, будто сверстники, – но какая же разница представлялась между ними!..
Тем временем молчать было довольно и следовало что-то отвечать. Но сильно расстроил его Пашкин сын, – лучше бы он не засиживался тут, не дожидался неизвестно для чего ни часа позднего, ни подлого, скандального вопроса. Что сказать ему, ответить, что породят в этих юных безмятежных лбах принаряженных парней его слова о страшном, леденящем миге загремевшей, начавшейся уже атаки?
– Там, дружок, когда подниматься надо, что хочешь закричишь, – с укоризной терпеливого человека выговорил Красильников парню, решив не затевать ненужного скандала. – Это, брат, похлеще, чем звуковой барьер преодолеть. Точно говорю… Между прочим, отца твоего поднимать не приходилось – первым вставал. Такой уж человек был… А у тебя, наверное, даже фотографии его не сохранилось? А?.. Но хоть что-нибудь сохранилось? Или нет?
Обо всем этом Красильников намеревался поговорить с парнем с глазу на глаз, без свидетелей, но, кажется, как раз свидетели-то и стали теперь необходимы, – вот эти люди, с которыми жил, рос, барабанил по вечерам Пашкин многого не понимающий сынишка.
И тут Красильников с удовольствием увидел замешательство. Настоящая ли память о погибшем отце, которая все же сберегалась им, голос ли фронтовика, задевший парня за душу, или прямой взгляд настойчивого гостя, но Олег почувствовал себя неуютно. Однако он не поддался и, упрямо настраиваясь на прежний лад, как-то неуловимо ловко поиграл в воздухе тонкими разболтанными кистями барабанщика.
– Как не сохранилось? – возразил он с пущим вызовом, выдерживая заинтересованный прицельный взгляд Красильникова. – А надпись? Не читали на дверях? Папашкино произведение. С тех давних пор. Мамахен и слышать не хочет, чтоб содрать. Реликвия! Фреска Рублева! Со временем придется в бронзе увековечить.
– Да-а… – протянул Красильников. – Хорошенькое, я гляжу, дело… Ах, драть, драть тебя надо было, поросенок! В свое время, конечно. А ведь не драли, наверное? А?
– Не! – тотчас же весело, теперь уже с явным намерением не давать спуску, откликнулся Олег, и Красильникову стало неловко под его слишком ясным, слишком бессовестным взглядом. – Некому было. Я же незаконнорожденный. Мамашка, как говорят простые советские люди, меня в подоле принесла. А незабвенной памяти папашка…
– Щенок! – не выдержал Красильников и хлопнул по столу, обрывая разглагольствования обнаглевшего мальчишки. Какие говорливые, какие речистые пошли они нынче!..
– Тихо, тихо, – вмешался Семен поднимая голову. – Без скандала.
– Да как он смеет! – расходился Красильников, нисколько не сомневаясь, что все они здесь, пожалуй, против него заодно: и эта девчушка с порочными перепуганными глазенками, и циничный умный саксофонист, и с Пашкиным характером Олег, закусивший теперь удила, а в первую очередь, в самую первую – этот, напротив: Семен.
– Наверное, смеет, – тотчас вступился за своего Семен, все больше забирая право возражать и один на один вести неприятный разговор. – Пожалуй, даже точно можно сказать: смеет. Его право.
– Не смеет! Не имеет права! Никакого права! Слышишь?
Красильникову хотелось поддержки, сою шика, единомышленника, но видел он одни пустые взгляды равнодушных молодых людей, которых если что и волновало сейчас, так лишь назревающий скандал. Один Семен не смотрел ему в глаза, не поднимал головы, но усмехался краешком губ и только и делал, что вращал с ироническим видом фужер с раскисшим окурком. И эта тонкая ухмылка, это сознание собственного авторитета у не обломанных еще жизнью юнцов все больше выводили Красильникова из себя. Понимал, не понимал он, хромой беззубый подонок, что будет с этими ребятишками, попади они вдруг в смертельный переплет в какой-нибудь накрытой огнем воронке!
– Твоя работа? – спросил неожиданно Красильников, отбрасывая всяческую деликатность. – Чего молчишь?
– Зачем – моя? – нисколько не обиделся Семен и даже голову склонил набок, будто целиком поглощенный вращением фужера. – Так уж и моя. Скажешь тоже…
– Гад! – не удержался Красильников. – Ты что делаешь? Ты понимаешь, что творишь? Это же твоя работа. Я по роже твоей поганой вижу… Чего ты рыло воротишь? Сюда смотри!
– Тихо. Тихо, я сказал… – Семен резко отодвинул фужер и поднял побледневшее лицо. – Скандала не нужно. Не в твоих интересах.
– А я говорю: гад! Гад!.. Если бы Пашка был сейчас живой…
– Паш-ка?! – взвился вдруг Семен и, уронив фужер, напряг плечи, вцепился обеими руками в крап стола. – Может быть, ты хочешь, чтобы я сказал, почему он не живой? А? Хочешь?.. Хочешь?..
В прорвавшейся ненависти, нисколько теперь не сдерживаясь, он кричал, лез в самые глаза и будто порывался опрокинуть стол на противника. Красильников, глядя, как дергает и ломает судорога его бешеное лицо, каменел и выпрямлялся с презрением, с брезгливостью, со злостью. Да, это был тот самый человек, которого приходилось когда-то держать на мушке, под прицелом. Нисколько не изменился.
– Сука, – произнес он, поднимаясь из-за стола и не замечая никого вокруг. – Тварь поганая. Мало тебе рожу били. А ну пойдем! Пойдем выйдем… Вставай!
– Ха! Герой! – мстительно расхохотался Семен, показывая все до одной золотые коронки. – Сиди и не рыпайся. Видали таких. Тут тебе не Чухлома твоя, не Черемхово…
Бац!.. Откуда только что взялось? Никогда в жизни Красильников не подозревал, что в состоянии так сильно, так плотно ляпнуть человеку в самое лицо. Какое-то давным-давно забытое помрачение, когда, поднявшись из-за бруствера под пули, человек живет одной лишь подмывающей на крик яростью и старается поскорее пробежать, ворваться, спрыгнуть и – бить, колоть, крушить, – уничтожать, чтоб никогда больше не подниматься, не бежать, не ждать смертельно, что клюнет тебя в сердце наизлет литая хищная пуля.
– Убью! – ревел униженный Семен, опрокинувшийся вместе со стулом. Он барахтался на полу, никак не в состоянии подняться, пока к нему не подскочили и не помогли. И странно, – Красильников даже пожалел, что подбежали и вмешались люди, развели, схватили их за руки. Он не кричал, не рвался, но был готов к любому наскоку и стоял люто, прямо, сверкая и грозя глазами.
Слишком много набежало и сгрудилось возле стола, чтобы произошла и разгорелась обоюдная честная драка. Красильникова еще держали, но он уже пришел в себя и теперь слушал, как бьется где-то в глубине взбаламученного зала до смерти разобиженный трубач, рвется из сочувствующих рук и неистово грозит:
– Он гад! Он гад! Он человека убил… Да, да! Куда вы меня тащите? Пустите, я ему все скажу!
Когда Красильникова повели, он вдруг расслышал: «До свидания!..» – оглянулся и узнал саксофониста, все время так и просидевшего у стола нога на ногу, о рюмочкой в руках. Красильников не ответил, но оглядывался несколько раз, и всякий раз саксофонист подмигивал ему и сочувственно кивал узким умным лицом.
…Из милиции Красильникова отпустили не скоро – за полночь. Усталый дежурный с тяжелыми семейными морщинами на лице распорядился привести задержанного и долго ничего не говорил, раскладывая по ящикам стола накопившиеся за день бумаги. Убрал, очистил стол, положил перед собою руки. Плотная, не по погоде форма сидела на нем с привычной армейской обыденностью.
– За что это ты?
Красильников ответил пристыжено, но без тени раскаяния:
– Да так… Чего теперь?
– Воевали, что ли, вместе? – снова неслужебным голосом поинтересовался дежурный.
– А!.. – сказал Красильников, отворачиваясь. – Делайте скорей, что надо!
– Ладно, ступай, – вздохнул дежурный, с великим облегчением расстегивая тугие пуговки на горле. – Идите, идите… – подтвердил он, с удовольствием потирая натруженную шею. – А вообще-то надолго к нам?
От неожиданности Красильников растерялся и не верил: правда, нет?
– Так вот… – проговорил он, нерешительно поднимаясь. – Можно сказать, ничего еще не видел, а… – и руками развел.
Дежурный усмехнулся и снял надоевшею фуражку, обнажив голый крепкий лоб. Ему хотелось спать. Носовым платком он принялся тщательно вытирать фуражку изнутри.
Остывший к рассвету город был пуст, тих и прохладен. Красильников оглядел, сильно ли попорчен пиджак, когда его схватили и удерживали, почистил рукава и медленно побрел под одинокими меркнущими фонарями.
Солнце он встретил на берегу, и ранние неторопливые купальщики с недоумением разглядывали квелого принаряженного мужчину, сидевшего на клочке газеты у самой кромки гладкой, неразбуженной воды.
1967 г.

РЕКА
1
Сорвавшись с лесов, Павел Трофимов больно ударился грудью о землю. Захватило дух, потемнело в глазах – так еще мальчишкой, играя на кулачки, вдруг получал предательский удар «под самый вздох».
Лежать было неловко – глазами других плотников Павел видел себя: как сорвался, как летел – неуклюже, раскорякой. Эка, скажут… Хотел было вскочить бодро и непринужденно, прикрыв неловкость шуткой, но подломились ноги, и, чтобы устоять, пришлось невольно схватиться за шершавый конец горбыля. «Еще как о горбыли не треснулся».
Плотники, свесив головы, испуганно смотрели на него сверху круглыми, все замечающими глазами.
Отдышавшись, Павел полез наверх, крепко хватаясь за мокрые холодные доски. Только сейчас он обратил внимание на свои руки – худые какие-то стали они, мосластые. И слабость, поразительная слабость! Он кашлянул – в груди, у самой косточки, явственно обозначился больной саднящий комок. «А ведь зашиб грудь», – подумал Павел, осторожно ставя ногу.
Его ждали – подхватили, поставили на леса. Павел увидел беспокойные строгие глаза Арефьича, бригадира, и попробовал улыбнуться, но улыбка полупилась жалкой. Аревфьич промолчал. Удержался от прибаутки и Митька Першин, косоглазый, разбитной парень, пришедший в бригаду гораздо позже Павла, но успевший завоевать общую любовь своим неистощимо веселым нравом.
– Ну ты, брат, что-то совсем… – только и промолвил он, отправляясь на свое место.
Рабочий день продолжался. Бригада наращивала опалубку плотины. Стоять на скользких грязных досках лесов было холодно и противно. То и дело начинал моросить мелкий, по-осеннему нудный дождь, серое тяжелое небо беспросветно лежало на самых сопках.
Река в этом году вскрылась рано, но ледоход продолжался долго. Прошло уже недели полторы, а все еще несло грязный ноздреватый лед – шугу. Арефьич качал головой – так и к апрелю не очистится. Но про себя понимал, что только сейчас трогаются мелкие горные речонки и вода, конечно, будет прибывать и дальше. Бригадир сокрушался – как бы не сорвало работы. А прекратится опалубка, станут и бетонщики. Весь план тогда полетит кувырком. Темная полая вода плескалась у самых лесов, недалеко от того места, где упал Павел Трофимов.
Павел работал на самом верху – устанавливал сколоченные щиты. Привычно вгоняя обухом гвозди, он нет-нет да и ощущал скопившийся в груди больной комок. Морщился и еще ожесточеннее взмахивал топором – «Пройдет. Вот день-два, и пройдет».
Но боль не проходила, и Павел пошел в больницу. В тесной беленькой комнатке длинного барака, где помещалась поликлиника, врач долго выслушивал его, выстукивал, быстро прикасаясь к телу холодными кончиками пальцев. Павел послушно поворачивался, с горечью думая о себе среди этих нездоровой белизны стен и простыней. Он заметил свой худой дряблый живот, ребра, проступавшие под кожей, почувствовал немощь острых, вялых плеч. Пожалуй, действительно заболел – на турнике бы сейчас не подтянуться.
Врач слишком долго вынимал из ушей резиновые поводья стетоскопа. Глядя на носки сапог Павла, неопределенно пожевал губами.
– И давно это у вас?
– Что? – не понял Павел, посмотрев в его холодные, обрекающие глаза.
– Да вот… – и врач легонько побарабанил себя пальцами по груди.
Павел, оробев, стал объяснять, как он лез по лесам и – то ли нога поскользнулась, то ли рука сорвалась – полетел…
– Недели, говорите, две? – снова задумался врач. – Да нет, похоже, что это у вас давненько.
Пока он молчал, Павел стоял голый по пояс и не знал, можно ли взять вывернутую, комом валявшуюся на белом топчане рубаху. В настенном небольшом зеркале он видел свои горячие цыганские глаза, устало сложенные губы и темную мужичью шею.
Врач разрешающе махнул рукой – одевайся – и, озабоченно присев к белому, заставленному пузырьками столу, стал писать.
– Видите, Трофимов, у вас это не просто ушиб, – мягко заговорил он, поднимаясь и протягивая Павлу рецепт. – Дело, по всем признакам, гораздо солиднее. И… и опаснее, – чего от вас скрывать? – Он сунул руки в карманы халата и покачался с пятки на носок; халат обтянул его полные следящего за своим здоровьем человека плечи.
Неловко заправив рубаху, Павел равнодушно слушал, как врач советует ему уехать куда-нибудь, лучше всего в деревню – в степь, на луга, на вольный воздух. А здесь река доконает его.
– Река? – отважился недоверчиво улыбнуться Павел. Ему захотелось рассказать, что воды он совсем не боится – мало ли ему приходилось работать на воде? На этом самом Иртыше он уже четвертый год – до Бухтармы успел еще прихватить года полтора на Аблакетке. А на Дальнем Востоке, где строили мост через Амур? Уж если здесь мокро и гибло, то там совсем никакого спасенья не было – от сырых, пронизывающих ветров мерзла даже скотина. А он ничего – привык. И никогда бы не уехал – за шесть лет службы и этих кочевок по стройкам прижился как-то, освоился, – но очень уж заманчивые вести шли с Иртыша. Читал Павел, что и в родной алтайской глухомани время замаячило строительными лесами, кранами и плотинами. Не выдержал, бросил все – приехал… Так что к воде он привык – на реке, можно сказать, родился, на реке и… Но врач не дал ему и рта открыть.
– А что вы думаете? – воскликнул он обиженно. – Да вы только посмотрите! – И, отдернув белую занавеску, рукавом халата протер потное, слезящееся стекло. – Видите, льет-то как…
На улице, за окном, наступали ранние непогожие сумерки и лило, лило без конца и края. Павел с беспокойством подумал, что опять бригада стоит под навесом и хмурый Арефьич материт все на свете.
– Нет, мне из бригады нельзя, – запротестовал он. – У нас нынче работы…
Он и в самом деле отчаялся: как это так – сразу взять и уехать? А бригада? А специальность? Да ведь, прежде чем стать тем, кто он есть, сколько ему пришлось помыкаться? Почитай, весь Дальний Восток прошел. Еще спасибо, армия многому научила: Павел пошел в стройчасть и там от дедовской лопаты постепенно пересел за руль грейдера. После демобилизации это помогло устроиться на хорошую, квалифицированную работу. Правда, приходилось быть и мотористом, и крановщиком – где как. Уже здесь, на Иртыше, взял в руки топор – стал плотником-опалубщиком. У Арефьича было интересно – не только работаешь, но и учишься. И вдруг – уехать. Нет, уехать он не сможет.
– Да поймите, Трофимов, работать здесь для вас яд. Сырость, река эта – чистейший яд! Тут и в доброе-то время…
Павел слышал от казахов, что место здесь действительно было низинное, гиблое, но соглашаться с толстеньким белым доктором не хотел и по дороге к себе в барак мысленно спорил с ним. Выдумал тоже – яд. Ни для кого не яд, а для него яд…
Но через несколько дней, работая на лесах, он не удержал щит, и тот полетел вниз, обламывая торчащие концы горбылей. Хорошо еще, что никого внизу не оказалось. Наделал бы тогда дел! Строгий Арефьич отвел Павла в сторону и внушительно сказал – надо, надо, брат, лечиться. Павел, тоскливо глядя наверх, где звонко и споро работала бригада, теперь и сам понял – да, надо лечиться.
Вечером он написал сестре в деревню и лег, сиротливо отвернулся к стене. В бараке еще долго шумели – всех потешал неунывающий Митька. Павел, укрывшись с головой, задумчиво моргал горячими глазами.
Сестра встретила его на пристани. Еще с борта Павел заметил ее – Анна в платке и заплатанной кацавейке стояла около подводы, постегивала кнутом по сапогу. Павел улыбался, но знака не подавал – пусть сама узнает. Но Анна шарила глазами по медленно пристающему пароходу и не обращала на него внимания. «Ай, сестра, ай, разиня! – радовался Павел, прямо-таки обжигая смеющимися глазами подошедшую к самой воде Анну. – Да ну же, ну…». Но Анна уже несколько раз равнодушно скользнула по нему взглядом и не узнала его; а Павлу теперь не стоило труда разглядеть ее всю. «Постарела, здорово подалась сестра. А ведь почти ровесники…»
Когда пароход пристал, оказалось, что сходить здесь нужно только одному Павлу. Кажется, и у борта, кроме него, никого не было. «Что же это Анна, или забыла?..»
Павел ступил на землю и осторожно, словно пробуя ее ногами, направился к подводе. Анна все еще стояла у причала, высматривала. Он подошел к подводе, по-хозяйски оглядел ее – вроде ничего живут, только тележонка подкачала. Павел тронул рукой дробину – труха, сгнила вся. Он положил мешок в телегу и пошел к Анне. «Вот обрадуется», – думал он, приближаясь к ней.
Одета сестра была плохо – из последнего. Со спины ни дать ни взять старуха.
– Ну, здравствуй… сестра, – голос Павла осекся от волнения.
Анна испуганно обернулась и, глядя на него, медленно, медленно поднесла ладони к похолодевшим щекам.
– Да неужель… или Павлуха? Братушка, да чего ж это с тобой! – Припав на мгновение к его груди, она вновь подняла неузнавающие ошеломленные глаза.
Тут только Павел понял все и сник, устало опустив плечи.
К подводе он шел из последних сил, будто всю эту длинную скучную дорогу по воде он один, своей силой тянул бечевой пароход. Анна суетилась вокруг, неловко поддерживая его за спину. Кнут она обронила и не посмела вернуться – пришлось бы оставить брата.
Павел неуклюже влез в телегу и лег на старой, собранной сестрой по дороге на жнивье соломе. Анна поправила у него под головой мешок и суетливо полезла на облучок, все почему-то в спешке, торопясь, словно боялась не довезти его живым. «Ну, все теперь, – подумал Павел, закрывая глаза. – Теперь все». До сих пор ему казалось, что со стройки он уехал ненадолго; вот приедет в деревню, погостит, посмотрит, раздаст гостинцы и вернется. А вот сейчас понял – все. Доконала его река. Ведь всю зиму в воде – ноги сырые, сырость от реки. Даже в бараке и то не продохнешь – сушат портянки, валенки, телогрейки. Видно, прав был доктор. В памяти проплыли одутловатое с залысинами лицо доктора, суровый, с острой бородкой, Арефьич и еще кто-то, безликий, туманный…
Проснулся Павел под вечер. Поднял голову. Телега моталась на разъезженной, разбитой дороге. Ехали все еще вдоль реки, – значит, до деревни далеко. Надо еще проехать Суворинскую заимку, потом Каменный крест, а уж потом будет поворот; оттуда останется часа полтора, ну от силы два. Тянулись родные, с детства исхоженные места. Подступала наезженная, веками глохнувшая кержацкая сторона, подступала дебрями, медвежьим буреломом, белевшими – теперь уже недалеко – вечными снеговыми изломами: белкáми. Много тут хоронилось селений – заимок, деревень. После восьми лет скитаний по стройкам Павел отвык от всего этого – пожил и в городах, и в бараках, его торопили, и он подгонял; и пооббился, подтянулся – не тот уже, не деревенский был Павел, хотя и оставался, пожалуй, самым тихим в бригаде: там редко слышали его голос… А вот теперь хвойным воздухом детства обступала его дедовская застойная тишина. Да, мало что изменилось здесь с той поры. Не дохлестнула еще, видать, в эти уголки будоражащая волна новых событий. Чем же теперь заняться здесь?
Но невеселые размышления Павла прервала сестра:
– Проснулся, значит. А я уж еду, как с молоком. Намаялся небось за дорогу-то?
Он с удовольствием разглядывал сестру. Нет, не такая уж старуха. Развязала платок, расстегнула кацавейку – под ней Павел заметил серого ситчика кофтенку. «Одна живет…» Павел приподнялся на локтях, подбил повыше мешок. Сон освежил его, и ему казалось теперь, что дорога действительно была нудной, изнуряющей. Тащились вверх по реке двое суток. Старенький пароходишко еле шлепал плицами. Шел дождь, и Павел отлеживался в каюте, среди похрустывавших кульков, свертков, узлов, – провожали его всей бригадой и гостинцев накупили кто сколько мог. Ночью вызвездило, и Павел стоял у борта. Тянул холодный ветерок, сыростью, глубинной стужей несло снизу, от воды. Изредка где-то далеко на берегу появлялся огонек бакенщика и долго стоял на месте. Пароход двигался еле-еле, с трудом борясь с рекой; она упорно тащила его назад, к далеким низинным скалам, где поднимались плотина и шлюз гидростанции. Но пароходишко шел наперекор и увозил Павла все дальше и дальше.
– Да уж известно – дорога, она и дорога, – подтвердила Анна, когда Павел кончил рассказывать. – Ну ничего, теперь отдохнешь. У нас сейчас самая благодать начинается.
Анна сбросила с головы платок на плечи, пригладила растрепавшиеся волосы.
Павел вздохнул, глубоко и облегченно. Да, здесь совсем не то, что там. Разгулялась погода, очистилось небо. Только за рекой, над сопками громоздились кучевые облака. Узкая щель горизонта рдела закатным пламенным цветом. Дождям теперь конец. Павел вспомнил, как ждал этой погоды Арефьич. Теперь опалубка пойдет! Интересно, кого возьмут в бригаду вместо него?
Анна, видно большая охотница посудачить, болтала без умолку. Павлу волей-неволей пришлось слушать все. Анна рассказывала, что в деревне теперь, слава богу, жизнь пошла вроде на поправку. После того как скосили недоимки да повысили закупочные цены, колхоз заметно стал поднимать голову. А то было захирел совсем; не помогло и укрупнение. От неурожаев да тощего трудодня народ стал расползаться кто куда – в город, на рудники, «на эту вашу станцию много подалось, устраивались люди»… А в последние годы сбили в деревне артель – валять пимы, шить полушубки. Какой-никакой, а – заработок. Колхозу бы и совсем теперь каюк, но одно за другим пошли правительственные постановления, и колхозники вздохнули полегче. Теперь уже неизвестно, кто кого возьмет – артель или колхоз. Особенно после того, как отменили обязательные поставки с хозяйств.