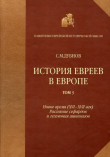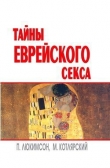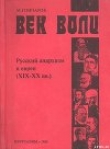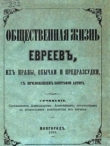Текст книги "Очерки по истории еврейского народа"
Автор книги: Автор Неизвестен
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 53 страниц)
{17} В семнадцатом веке до н.э. Египет завоевывается народностями азиатского происхождения – гиксоссами. Ханаан попадает в сферу владычества гиксоссовых царей, центром которой была дельта Нила. На всем протяжении страны были воздвигнуты крепости нового типа – большие города, обнесенные стенами и укрепленные земляными валами. Меняется и состав населения: с волнами различных народов в страну проникают хурриты – "хори" – несемитский народ, прежде живший в горах Курдистана и в Северной Сирии, и с ними индоевропейские князья, а также знаменитые "марианну", славившиеся искусным умением править колесницами. Страна распадается на мелкие царства, нередко состоящие из одного укрепленного города с его окрестностями. Между этими царствами часто ведутся войны. Однако, когда им угрожает общая опасность, они заключают союзы между собой.
Таково было политическое положение Ханаана и после того, как Египет освободился от власти гиксоссов. Оно продолжалось во времена XVIII и XIX династий, т. е. в период Нового царства в Египте, о чем свидетельствуют документы, обнаруженные в Эль-Амарне, где сохранились руины одной из столиц древнего Египта. Документы эти относятся ко времени царствования фараона Аменхотепа III и его сына Аменхотепа IV, переименовавшего себя в Эхнатона. Это положение не изменилось к накануне покорения Ханаана израильтянами.
Несмотря на то, что в некоторые периоды древности страна находилась под непосредственным египетским управлением, культурное влияние Египта в Ханаане было весьма незначительным, а преобладающим влиянием пользовалась культура Месопотамии.
В больших городах изучалось вавилонское письмо. Послания хананейских царей в Египет писались по-вавилонски. Из новых документов, найденных недавно в Израиле, вытекает, что в Хацоре и в Мегиддо были школы, где изучалась месопотамская клинопись. Однако наряду с этим в Ханаане и в соседних странах развивалась и местная, самобытная культура, памятники которой были {18} обнаружены при раскопках в Рас-Шамре (Угарите). Были найдены песни древнего угаритского эпоса, сходные по своему стилю и форме с библейскими поэтическими текстами, а также документы политического и экономического характера. Следует предполагать, что угаритская письменность не была исключением в культурной и общественной жизни Древнего Востока. Она выражает в общих чертах культуру Ханаана.
Угаритские тексты написаны частично по-аккадски и частично на угаритском северо-семитском – диалекте своеобразной алфавитной клинописью. Особенность этого письма заключается в том, что его основа, в отличие от вавилонской клинописи, азбучная, а не слоговая. Недавно было найдено несколько таблиц с перечнем алфавитных знаков. Эти знаки приведены в порядке, подобном порядку еврейского алфавита. Наиболее ценным вкладом Ханаана в сокровищницу мировой культуры является, несомненно, создание алфавита.
Это огромное культурное достижение было, очевидно, порождено особыми условиями Ханаана, связывавшего две мировые культуры – египетскую и месопотамскую. Угаритскому алфавиту предшествовали протосинайские надписи, начертанные в XVII или XVI столетии до н. э. Эти надписи следует считать прототипами алфавитных знаков. Среди них встречаются также пиктографические знаки, несколько схожие с древнеегипетскими, но каждый рисунок обозначает иное понятие.
Ханаанский и еврейский алфавиты, пройдя некоторые стадии развития, легли в основу греческого – а затем и латинского – алфавита, сохранившего в основном порядок букв и их древние ханаанские названия: альфа – алеф, что на иврите означает "бык", бета – бет, что означает "дом", и т. д.
{19}
Глава вторая
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЕВРЕЙСКОГО
НАРОДА
1. Эпоха патриархов
Согласно библейской традиции еврейский народ ведет свое происхождение от патриархов Авраама, Исаака и Иакова, которым посвящена большая часть Книги Бытия. Эпос о патриархах повествует о том, что Бог велит Аврааму покинуть свой родной город Ур в Месопотамии и отправиться в землю Ханаанскую. Авраам пускается в странствование со своими домочадцами и стадами скота и на своем пути задерживается в окрестностях ханаанских городов, Хеврона и Герара.
Ханаан постигает тяжелая засуха, которая заставляет Авраама переселиться на некоторое время в Египет. Авраам всей душой предан Богу и послушен его повелениям. Эта беспредельная преданность крепнет во время его странствий. Наконец, отношения Авраама с Богом принимают форму союза, основанного на договоре, по которому земля Ханаанская обещана его потомству. Однако потомство Авраама обретет свою страну лишь после длительного порабощения в Египте. Характерной чертой этих повествований является то, что, несмотря на добрососедские отношения с народами, населяющими Ханаан, Авраам во время своих странствований не сближается ни с одним из них и не роднится с ними. Даже когда наступает пора женить его сына Исаака, он шлет свата в город Харран, в Северной Месопотамии, для того чтобы найти сыну невесту из среды своих родичей, обитавших там. Однако в том же самом эпосе имеется рассказ о другом сыне Авраама, Измаиле, который берет себе жену из местных жителей. Измаил был в детстве вместе со своей матерью Агарью изгнан в пустыню и считается как по еврейскому, так и по арабскому преданию родоначальником арабов.
По библейскому рассказу, у Исаака также было двое сыновей, и отец их предпочитал старшего сына, охотника {20} Исава, пастуху-овцеводу Иакову. Но, в конце концов, именно Иаков добился родительского благословения, даровавшего ему первородство, и стал продолжателем традиции Авраама. Исав же стал родоначальником народа эдомского (идумеев).
Подобно отцу своему, и в отличие от Измаила и Исава, Иаков не женится в Ханаане, а отправляется в Харран, где продолжают жить его единоплеменники, для того чтобы из их среды взять себе жену.
Следующий цикл повествований рассказывает о двенадцати сыновьях Иакова, главным образом о его любимце Иосифе. Братья, побуждаемые чувством зависти, продали Иосифа в рабство измаильтянам. Иосиф попал в Египет, где, по стечению обстоятельств, он достиг высокого сана наместника фараона. В период засухи, постигшей Ханаан, в Египет прибыли в поисках продовольствия его братья и старый отец и, при помощи Иосифа, поселились в области Гошен, в дельте Нила.
Эпос о патриархах представляющий собой единое целое в литературном и идейном смысле, рассматривался прежде различными исследователями как творчество сравнительно поздней эпохи в истории еврейского народа. Некоторые считали даже, что эпос этот был создан в V столетии до н. э., т. е. после вавилонского пленения. Но по мере того, как научно-исторические исследования обогащались новыми данными, стали полагать, что предания о библейских патриархах следует отнести к VIII или даже к Х веку до н. э.
Открытия в области культуры Древнего Востока и ее основательное изучение создали новый подход к вопросу об источниках эпоса о родоначальниках еврейского народа. Этот подход основывается на данных из области ономастики и географии, упоминаемых в библейских рассказах, а также на критическом анализе правовых, социальных и религиозных элементов, содержащихся в них.
Из ономатологических данных следует, что праотцы евреев принадлежали к западным семитам, т. к. имена Авраам, Исаак, а в особенности Иаков, в форме Якобэль, были известны как имена амореев, упоминаемых в {21} документах XIX и XVIII вв. до н. э. К этому же типу относятся и имена некоторых сыновей Иакова и само имя Израиль. Весьма знаменателен тот факт, что ни одно из этих имен не встречается ни в аккадских, ни в угаритских документах позднее XIX века до н. э" ни в одной из других библейских книг, кроме Книги Бытия, где эти имена принадлежат только самим патриархам.
Не менее знаменательны географические названия. В последние годы выяснилось, что некоторые имена родичей Авраама, упоминаемые в библейских преданиях, встречаются в качестве географических названий в Северной Месопотамии, в районе Харрана, как, например, Нахор. В документах, найденных в Мари (на среднем течении Евфрата), Харран упоминается как один из центров западных семитов – амореев. В этом районе цари Мари вели войны с кочевниками, патриархальный образ жизни которых походит на быт, описанный в эпическом цикле о патриархах.
К подобным же выводам приходят исследователи, рассматривая общественные нравы, обычаи и правовые нормы. Некоторые из них уже обратили внимание на то, что формы бракосочетания и семейных отношений, описываемые в повествованиях об Иакове, полностью разъясняются лишь на фоне практиковавшихся в Северной Месопотамии обрядов, которые нам известны из документов XV века до н. э., найденных в Нузи.
Анализ религиозных понятий, упоминаемых в библейском эпосе о патриархах, также подтверждает его древность. Эпитеты "Бог Авраама", "Бог Исаака", "Бог Иакова" или "Бог моего отца" совпадают с эпитетами, встречающимися в древнеассирийских документах из Кападокии ("Бог моего отца", "Бог твоего отца"), относящихся к XIX в. до н. э. В последнее время были найдены подобные документы и в некоторых областях Месопотамии XVIII века до н. э. Такие эпитеты, хотя они встречаются один или два раза и в более поздние периоды, все же наиболее характерны для религиозных понятий Аморейской эпохи, т. е. XIX и XVIII веков до н. э.
{22} Некоторые исследователи усматривают в эпитетах такого рода проявление верования в исключительно близкую связь между семейным божеством и главой рода. Верование это было весьма распространено среди различных племен, и возможно, что предание о союзе, заключенном между Богом и Авраамом, являющееся центральным пунктом всего эпоса о патриархах, коренится именно в нем. О глубокой древности свидетельствуют и другие эпитеты, упоминающиеся в эпосе, а прежде всего "Бог вершин" (Шаддай). Этот эпитет вышел из употребления и у древних израильтян со времен Моисея, уступив место новому имени бога – Яхве (или Иегова).
Суммируя результаты исследований, можно с уверенностью установить, что различные элементы рассказов о патриархах указывают на древность предания, которое, по-видимому, начало зарождаться за сотни лет до того, как оно было зафиксировано в письменной форме, как предполагают, в эпоху царей. Формирование эпоса, передающегося устно из поколения в поколение в течение сотен лет, до тех пор, пока он не выкристаллизуется в законченном письменном виде, известно также из истории других древних культур. Таковы, например, индийские веды. Однако существует мнение, что не только предания о библейских патриархах, но и их запись в дошедшей до нас литературной форме относятся к очень древнему периоду.
Читателя, сравнивающего библейские тексты о родоначальниках еврейского народа, в особенности о Иакове, с другими древними текстами, прежде всего поражает та огромная пропасть, которая отделяет повествования о праотцах евреев от саг и легенд других народов о своих древних предках. Библейские патриархи – не суверенные властелины или герои-богатыри. Они обычные люди со слабостями и недостатками. Они даже не первенцы, которые у древних народов пользовались особыми правами. Исаак младший сын, а Иаков добился признания своего первородства лишь после того, как откупил его (а, по мнению Исава выманил), перехитрив своего отца – старика Исаака.
{23} Следует отметить, что в последующие эпохи эти древние предания не были изменены или приукрашены. Это имеет двоякое значение. Во-первых, зарождение эпоса именно в таких контурах свидетельствует о подлинности исторических воспоминаний, на которых он основывается. Возможно, что племена идумеев, представленные в повествовании своим праотцем Исавом, были древнее по происхождению, или, в определенный период, считались более знатными в роде Авраама, чем "сыны Израилевы", представленные в образе их прародителя Иакова-Израиля. Во-вторых, это доказывает, что чувство святости к этим преданиям существовало испокон веков и благодаря ему и летописцы не осмеливались вносить в них изменения даже тогда, когда они не соответствовали понятиям более поздних поколений.
Иаков, а до него также Авраам и Исаак, описываются в эпосе как люди, зависимые от окружающей среды. Их зависимое положение выражается главным образом в том, что они кочуют с места на место, не обладают собственной землей и вынуждены приобретать ее в случае необходимости за наличные деньги, находясь под покровительством разных царьков – правителей городов. Исследователями уже давно было высказано мнение, что ключ к пониманию этого положения находится в термине "иври", встречающемся в повествованиях об Аврааме и Иосифе. В рассказах о Моисее и о войнах царя Саула этот термин снова появляется в качестве общей характеристики израильтян. Позднее этот термин почти не встречается в Библии. Этим именем называли израильтян главным образом окружавшие их народы, а не они сами себя. По мнению исследователей, это имя этимологически тесно связано или даже совпадает с наименованием "хабиру", "хапиру" или "апиру", которое встречается в аккадских и египетских источниках с конца третьего тысячелетия и до конца второго тысячелетия до н. э. Обычно "хапиру" являлись чужеземцами и были наемными воинами, рабами или полупорабощенными. Весьма возможно, что это прозвание связано с понятием "убру" – т. е. иммигрант или чужеземец, – известным нам из {24} древнеассирийских документов. До сих пор не доказано, что все "хапиру" составляли единое этническое целое. По имеющимся источникам, главная отличительная черта хапиру кроется в их правовом и социальном положении.
Возможно, что существует связь между сознательной отчужденностью семейств патриархов в их новой, ханаанской среде, запрещением жениться на дочерях местных жителей, и между отношением местных народностей к ним как к пришельцам и чужеземцам.
В египетских документах упоминаются "апиру" в качестве общественной прослойки в Ханаане в XV веке. В самом Египте они принуждались к работам, которые проводились в XIII и XII веках до н. э. Само собой напрашивается сравнение между "апиру" и израильтянами, порабощенными в Египте, где они именовались "иврим", согласно библейским источникам.
В библейских сказаниях о патриархах уже вырисовываются исторические условия, в которых образовывались первые родовые объединения израильтян. Последующий библейский эпос об "Исходе из Египта" и завоевании "земли Ханаанской" содержит в себе более ярко выраженные и оформленные исторические элементы.
2. Моисей и исход из Египта
Еврейская историческая традиция связывает формирование племен Израиля в единый народ с их исходом из Египта. Эта традиция нашла свое отражение в эпической серии рассказов в двух разделах Пятикнижия – "Исход" и "Числа" продолжении эпоса о патриархах.
Согласно библейскому преданию, Иаков со всей семьей присоединился к своему сыну Иосифу, находившемуся в Египте, и израильтяне поселились в египетской области Гошен. После смерти Иосифа, когда взошел на престол новый фараон, израильтяне были закрепощены на долгие годы и вынуждены работать на строительстве новых городов, основанных фараоном. Предание о египетском порабощении заканчивается кульминационным пунктом всей этой эпической серии исходом из Египта.
{25} Вопрос о степени достоверности библейского сказания об исходе не раз подвергался критическому анализу историков.
По словам одного из современных исследователей Библии (С. А. Левинштам, Библейская энциклопедия, на иврите, т. 3., стр. 754.), "... до нас не дошло ни одного египетского документа, свидетельствующего о пребывании израильтян в Египте; однако имеется целый ряд египетских документов, косвенно проливающих свет на библейское повествование. И, конечно, не приходится сомневаться в факте египетского порабощения и исхода из Египта, т. к. никакой народ не создал бы вымышленного предания о пребывании в рабстве на заре своей истории".
Подобное же мнение выразил в свое время русский историк (В. В. Струве, Израиль в Египте, стр. 27.), констатируя: "...нельзя... предположить, что оставшиеся вне Египта племена изменили свои традиции свободного народа в пользу унизительной традиции рабства и притеснения Израиля, ибо бесспорно, что народная традиция проявляет естественную тенденцию приукрашивать свою историю".
Действительно, целый ряд египетских документов и фресок указывает на то, что азиатские племена нередко перекочевывали в Египет. Наиболее известна фреска, относящаяся ко времени XII династии (XIX век до н. э.), которая изображает семейство, по-видимому, аморейское, переселяющееся в Египет. В более поздние периоды, например, в последние годы XIX династии (XIII век до н. э.) имеются свидетельства о прибытии группы идумеев в Египет, в район восточной дельты.
Как в переселении азиатских чужеземцев, так и в их порабощении нет ничего необычного для Египта периода Нового царства. В Библии в точности сохранились названия двух городов – Питом и Рамсес, – на строительстве которых заставляли работать израильтян. Рамсес или Бет-Рамсес – новая столица, выстроенная фараоном Рамсесом II (1304-1238) на месте прежнего Таниса. Город {26} этот назывался Бет-Рамсесом лишь на протяжении двухсот лет. Следовательно, библейское предание о египетском рабстве возникло в этот период, т. е. не позже XI столетия до н. э. На этом и основывается большинство исследователей, склонных видеть в Рамсесе II фараона-поработителя.
Более сложным является вопрос, при каком фараоне произошел исход из Египта. Важное значение для решения этого вопроса имеет надпись на триумфальной стеле фараона Мернепты, относящаяся к пятому году его царствования (1233 до н.э.). Фараон хвалится своей победой над различными городами и племенами Ханаана, в том числе и над Израилем. "Никто под девятью дугами (поэтическое обозначение египетских владений в Азии) головы не поднимет, – гласит надпись Мернепты, – разрушена Техену (Ливия), затихло Хатти (Хеттское Царство), разграбленный Ханаан постигло зло, Аскалон был взят (в плен), Гезер захвачен, Иноам как бы никогда и не был, Израиль опустошен, и его семя уничтожено; Хару (наименование Ханаана) стоит перед Египтом, как (беззащитная) вдова".
Израиль изображен на этой надписи иероглифом, обозначающим не страну, а народ. Это обозначение указывает на то, что во времена Мернепты Ханаан еще не был заселен израильтянами. Во всяком случае, процесс завоевания и заселения еще не был завершен. Поэтому некоторые исследователи утверждают, что исход произошел в середине эпохи Рамсеса II, а другие относят его к последним годам царствования этого фараона или к началу правления его сына Мернепты. Заслуживает внимания также весьма распространенное мнение, согласно которому массовому исходу, происшедшему в XIII веке до н. э., предшествовал выход групп, покинувших Египет во времена фараона Аменхотепа IV или его наследников, т. е. в середине XIV века. Важный вклад в решение вопроса о хронологии исхода внесли археологические раскопки, благодаря которым выяснилось, что ханаанские города в горах Иудеи подверглись внезапному разрушению приблизительно в середине XIII века. Не исключается {27} также возможность, что не все племена Израиля переселились в свое время в Египет, а часть их осталась в Центральном Ханаане. Именно этим фактом объясняется, по мнению некоторых историков, связь выходцев из Египта со страной Ханаана.
Историческая традиция связывает исход из Египта, странствования по пустыне и процесс превращения израильских племен в единую нацию с личностью законодателя и вождя Моисея.
Сказания о Моисее повествуют о том, что он рос и воспитывался в египетской среде, о чем свидетельствуют не только его имя "Моше" (происходящее от слова "мос(е)" – сын на египетском языке), но и вся обстановка, двор фараона и его приближенные, описанные в полном соответствии с исторической действительностью, а также географические названия, связанные с рассказами об исходе. Интересно отметить, что эта обстановка, а также упоминаемые названия и имена характерны исключительно для этого цикла повествований. Они не повторяются ни в каких других библейских источниках.
О Моисее как исторической личности нет никаких документов, помимо библейских текстов. Это обстоятельство не дает возможности проверить достоверность библейских преданий путем сравнения с другими историческими источниками. Нет никакого сомнения в том, что некоторые элементы этих преданий носят легендарный или чисто литературный характер. В рассказе о рождении и детстве Моисея, например, много общих черт с легендами о рождении и детстве героев в эпосах других народов Древнего Востока. Отделить эти легендарные элементы от исторических фактов, содержащихся в эпопее об исходе, наука пока не в состоянии.
У нас есть, однако, возможность установить те черты личности Моисея, которые определяют его место в национально-исторической традиции еврейского народа: Моисей – пророк-вождь и Моисей – законодатель. Данные библейских сказаний и имеющиеся сведения о странах и культуре Древнего Востока в период около {28} XIII века до н. э. служат материалом для этого анализа.
В качестве вождя и пророка Моисей предстает перед нами посланником Бога, который явился ему в пламени горящего тернового куста в Синайской пустыне, где Моисей пас стадо своего тестя после побега из Египта. Здесь бог уже именуется не "Богом предков" или "Богом Всемогущим", а новым именем YHWH, Иегова-Яхве, выраженным формулой "эг'ье ашер эг'ье" (Я есмь Сущий).
Современное научное исследование Библии усматривает в этой формуле народное толкование имени Бога, общепринятого в описываемый период, – Яхве в греческой транскрипции и Иегова по еврейской традиции. С течением времени, однако, было строго запрещено произносить это имя, и вместо него вошло в употребление название "Адонай" (Господь). Стоит отметить, что несколько историков предложили недавно новое объяснение этому эпитету. Они предполагают, что Яхве весьма древнее наименование, которое существовало еще во времена патриархов. По своей грамматической конструкции оно принадлежит к аморейским именам, как, например, "Яхвеилу", что означает, согласно одному объяснению, "творец".
По словам Моисея (Исход VI, 3), бог, от имени которого он выступал, не кто иной, как Бог Авраама, Исаака и Иакова или "Бог Всемогущий". Именем этого Бога Моисей требует от фараона освободить его народ и выпустить Израиль из Египта. По библейскому сказанию, фараон и Египет подвергаются тяжелым бедствиям, описанным в ярких красках и известным как "десять казней египетских", Личность Моисея как активного вождя народа вырисовывается особенно ярко в продолжении эпоса, когда ему не раз приходилось стоять лицом к лицу с всенародным возмущением и быть объектом нападок и жалоб. Несмотря на то, что Моисей долгие годы – "сорок лет", т.е. период целого поколения – руководил народом в его скитаниях по пустыне, он сам, согласно преданию, не вступает в "Землю обетованную", а умирает по ту сторону Иордана, на горе Нево.
Другая сторона личности Моисея, запечатлевшаяся в {29} историческом сознании народа, это образ Моисея как законодателя. Библейское сказание повествует, что после скитаний по пустыне израильтяне дошли до горы Синай и там был заключен союз между ними и Богом. Важнейшим моментом этого события было возвещение "десяти заповедей", высеченных на двух "Скрижалях завета". Сущность союза выражается в словах: "А вы будете у меня царством священников и народом святым" (Исход 19, 6). Израильтяне обязываются соблюдать законы, переданные им Моисеем от имени Бога.
"Десять заповедей" охватывают различные сферы человеческой жизни: символы веры (Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов перед лицом моим) и основы личной и общественной морали (не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не желай... ничего, что у ближнего твоего; помни день субботний, чтобы свято хранить его... чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты; почитай отца твоего и мать твою). Эти заповеди были, несомненно, наиболее древним слоем библейского права.
В наше время исследователями установлено, что "заключение союза", составляющее один из центральных элементов в библейском эпосе, считалось в Древнем Востоке общепринятым обычаем при урегулировании международных отношений посредством договоров, начиная с XVIII века до н. э. К этой категории принадлежат политические договоры, заключавшиеся между царем-властелином могущественной державы и правителем подвластного ему государства. Такого рода тексты встречаются в изобилии среди хеттских (Хетты один из народов Малой Азии, основавший могущественную империю в XIV веке до н. э.) и аккадских документов XV-XIII вв., а подобные им формулы в арамейских и ассирийских письменных памятниках VIII-VII вв. являются их производной формой.
Эти договоры, в сущности, не что иное, как клятва вассала хранить верность своему сюзерену. Они обычно, {30} состоят из трех основных частей: в первой дается обзор исторических событий, предшествовавших договору; во второй излагаются по пунктам права и обязанности, вытекающие из договора; в третьей перечисляются угрозы и проклятия нарушителю договора. В арамейских и ассирийских документах обычно отсутствует первая часть. Поэтому союз, заключенный между Богом и израильским народом, в особенности в той версии, в которой он описан во Второзаконии, более сходен по своей форме с хеттскими и аккадскими договорами II тысячелетия, чем с более близкими к нему по времени арамейскими и ассирийскими договорами. Это указывает на глубокую древность основной договорной формы в Израиле. Предполагают, что древнейшая форма организации израильтян была "Обществом союза", т. е. объединением всех тех, кто вступил в союз с Богом, как со своим сюзереном.
Израильский народ обязуется в Синайском союзе хранить верность лишь своему Богу и не служить никакому другому богу. Форма этих обязательств подобна формулам, содержащимся в вассальных договорах.
По мнению некоторых историков, в том числе таких выдающихся исследователей, как египтолог Брестэд и семитолог Олбрайт, можно проследить косвенную связь между монотеистическими идеями, провозглашенными Моисеем, и религиозно-культовыми тенденциями, которые начали проявляться в Египте в XIV веке до н. э.
Эти тенденции выражались в элиминации некоторой части пантеона и в стремлении укрепить авторитет одного центрального божества. Фараон Эхнатон (Аменхотеп IV) провозгласил Атона (солнечный диск) единственным божеством всего Египта. Атон сочетал в себе функции всех остальных божеств и был, по убеждению веровавших в него, единственным творцом-хранителем всего мироздания. Весьма характерно для Египта, что сам Эхнатон был и остался фараоном-богом, сыном бога Атона, равным ему по своему могуществу.
После смерти Эхнатона, во времена его преемника Тутанхамона, это религиозное движение было подавлено контрреформацией жрецов Амона, которые старались {31} искоренить память фараона-еретика и восстановили древние культы Египта.
На фоне многообразия египетских божеств, изображавшихся в виде людей, животных и птиц, становится понятным строгий запрет, предписанный десятью заповедями, не делать никакого изображения божества. Этот запрет не имеет себе подобного ни в одной из религий Древнего Востока, и многие исследователи видят в нем вполне справедливо основу единобожия, которая наложила свой отпечаток на последующую историю израильского народа. Не может быть сомнения в том, что развитие монотеизма в той форме, в которую он вылился, и в тех ригористических рамках, в которых он формировался в период Второго храма, т. е. начиная с V века до н. э., не было результатом однократного акта, а являлось длительным историческим процессом, нередко сопровождавшимся столкновениями.
Более поздняя традиция видела в Моисее законодателя, создавшего законы Пятикнижия. Эти законы собраны в трех сводах:
Книга Завета (Исход 21-23), Закон Священнослужения (Левит) и Второзаконие (в одноименной книге). В XIX веке среди исследователей Библии преобладало мнение, что наиболее древним из этих сводов была Книга Завета, составленная в IX или VIII веке до н. э. Самой поздней считалась книга Закона Священнослужения, составление которой относили к пятому веку до н. э. В наше время большинство исследователей пришло к заключению, что в процессе возникновения законов и формирования этих трех сборников нет прямой последовательности. Именно Закон Священнослужения, или его главные части, следует отнести к древнейшим слоям законодательства, а самым поздним сборником является свод законов, заключенных полностью в Книге Второзакония. Следует отметить, что в преданиях народов Древнего Востока не встречается образ законодателя, являющегося основателем и вождем нации; такого рода образы впервые встречаются в преданиях греков и персов. Однако, в сравнении с ними, израильская традиция, безусловно, значительно древнее.
{32}
3. Завоевание Ханаана и эпоха Судей
Предание о завоевании Ханаана сохранено в Библии, главным образом, в книге Иисуса Навина, хотя некоторые эпизоды, относящиеся к началу завоевания, имеются и в Книге Чисел. Согласно этому преданию, Заиорданье было завоевано еще под руководством Моисея, а сам Ханаан был взят Иисусом Навином и поделен между коленами Израилевыми. Из другой традиции, рознящейся от обширной эпопеи Книги Иисуса Навина и запечатленной в Книге Судей (гл. 1), вытекает, что обширные районы земли Ханаанской остались населенными хананеями в продолжение всего периода Судей.
Тогда как по отношению к предыдущим периодам истории израильтян нет возможности в достаточной мере подкрепить исторические заключения археологическими данными, – совершенно иначе обстоит дело с завоеванием Ханаана, по отношению к которому археологические находки могут послужить исходными пунктами описания исторических событий. Из раскопок следует, что в поздний период бронзового века, т. е. в середине или в конце XIII столетия до н. э., в материальной культуре Ханаана произошел перелом. Весьма богатая ханаанская цивилизация уступает место более примитивной материальной культуре, которая не возводит строений и укреплений и не употребляет предметов роскоши, привозимых из "заморских стран" – главным образом со средиземноморских островов Кипра и Крита, – и характерных для Ханаана в период, предшествовавший израильскому завоеванию. Оказалось, что эта новая материальная культура принадлежала израильтянам, которые тогда начали поселяться в Ханаане.
Тем не менее не все результаты археологических раскопок в Палестине приводят к тем же самым выводам. До сих пор, например, нет несомненных и убедительных данных о времени разрушения ханаанского Иерихона, занимающего центральное место в эпопее завоевания страны. Весьма возможно, что этот город был разрушен уже в конце XIV века. Находки последних раскопок в {33} Хацоре и Сихеме более или менее соответствуют общим выводам о вторжении в страну племен, носителей новой материальной культуры, в конце XIII века до н. э. Согласно распространенному в наше время мнению, такое вторжение и послужило основой библейского эпоса, приписывающего весь завоевательный поход Иисусу Навину. Однако некоторые признаки указывают на возможность того, что этому походу предшествовали более ранние внедрения израильтян, которые проникли в Ханаан, в особенности в его гористые и лесные области в центре страны и в Верхней Галилее.