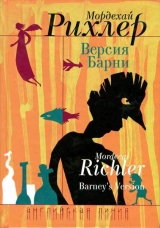
Текст книги "Версия Барни"
Автор книги: Мордехай Рихлер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 33 страниц)
9
Я решил все рассказывать честно. Быть достоверным свидетелем. Правда состоит в том, что романы Терри Макайвера, в том числе и «Денежный человек», в котором я описан в качестве стяжателя Бенджи Перлмана, воображением не запятнаны. Его романы одинаково скучны, серьезны и аппетитны примерно как больничный супчик, ну и конечно же лишены юмора. Характеры в них такие деревянные, что хоть на дрова их коли. Вот только в дневниках у него фантазии пруд пруди. Парижские страницы тоже, естественно, полны выдумки. Причем больной выдумки. Мэри Маккарти однажды заметила, что все написанное Лилиан Хеллман вранье, кроме «и» и «но». То же можно сказать и о дневниках Терри.
Привожу пример. Несколько страничек из дневника Терри Макайвера (кавалера Ордена Канады и лауреата Премии генерал-губернатора) в том виде, как они вскоре выйдут в его мемуарах «О времени и лихорадке», публикуемых в Торонто с одновременным выражением всяческих благодарностей триединой святой посредственности: Совету по культуре Канады, Совету по искусству Онтарио и Совету по искусству города Торонто.
Париж. 22 сентября 1951 г.Так и не смог сегодня утром вчитаться в «Смерть в рассрочку» Селина. Эту книгу мне порекомендовал трогательно не уверенный в себе П., что неудивительно, если принять во внимание зарождающуюся в нем самом и тяготящую его ненависть к миру. Мои отношения с П. весьма поверхностны: он мне навязан тем, что мы оба монреальцы, но само по себе это едва ли ведет к симбиозу.
П. появился в Париже прошлой весной, получив адрес от моего отца. Никого здесь не зная, он, естественно, каждый день искал встречи со мной. Мешал мне работать, приглашая на ланч и требуя, чтобы я за это снабдил его названиями кафе, которые следует посещать; умолял, чтобы я его с кем-нибудь познакомил. Через неделю он уже усвоил модный негритянский воляпюк, заглотал его не жуя. Запомнилось, как он однажды подошел ко мне на террасе кафе «Мабийон», где я читал «Мерзкую плоть» Ивлина Во.
– Ну и как оно, чувак, – цепляет? Или фуфло?
– Извини, не понял.
– Ну, в смысле, мне-то стоит вкапываться?
В итоге я передал его с рук на руки синклиту разбитных американцев, чьей компании я всеми силами старался избегать. Сначала они не очень-то ему обрадовались, но вскоре обнаружили, что П., решив во что бы то ни стало снискать их расположение, не будет возражать, если они его немного пограбят. Лео Бишински занял у него денег на холсты и краски, да и другие вовсю доили его, кто во что горазд. Однажды я Буке сказал между прочим:
– Я смотрю, у вас неофит появился?
– Что ж, каждый Робинзон имеет право на собственного Пятницу, не правда ли?
Бука, у которого период невезения за карточными столами настолько затянулся, что над ним нависла угроза лишиться домицилия, заставил П. оплатить его счет в гостинице.
Подобно многим другим автодидактам, П. не может не покрасоваться, не показать всем окружающим, что он в данный момент читает, поэтому его речь разукрашена цитатами. Как выходцу из помоечного чрева гетто, вульгарность ему, можно сказать, даже к лицу, но у него есть склонность также к пьянству и рукоприкладству, что удивляет: все-таки еврей как-никак. Попытка отмежевания? Возможно.
Родившийся в Монреале и воспитанный англоговорящими родителями, П. тем не менее тяготеет к инверсному синтаксису, словно переводит свои конструкции с идиша, как например: «Он был ужасным мерзавцем, этот Кларин доктор». Или (постфактум): «Кабы я знал, оно было бы другим, мое поведение». Надо это запомнить и использовать его речевые антраша для воссоздания в моей прозе еврейских диалогов.
Внешне П. не так уж неприятен. Черные курчавые волосы, жесткие, как проволочная мочалка. Хитрые глазки лавочника. Губы сатира. Высокий и неуклюжий, он любит напускать на себя начальственный вид. Такое впечатление, что здесь он еще не прижился, чувствует себя не в своей тарелке, однако в последнее время он сделался чем-то вроде подпевалы при одном из самых отъявленных позеров во всем quartier [133]133
Квартале (фр.).
[Закрыть], ходит за ним по пятам, как мальчик за взрослым педерастом, как его Ганимед, но это не так. Ни один из них в голубизне не замечен.
Написал сегодня 600 слов, а потом все порвал. Неадекватно. Посредственно. Может, я сам таков?
Париж. 3 октября 1951 г.Муж С. уехал во Франкфурт по делам, и она послала мне сегодня утром pneumatique, приглашая на обед в наше oubliette [134]134
Письмо по пневмопочте… укрывище (фр.).
[Закрыть], бистро на рю Скриб, где у нас обоих наименьшие шансы встретить кого-либо из знакомых. Предусмотрительная буржуазка, чтобы не дать повода к порожней болтовне («Еllе entretient un gigolo. Tiens donc!» [135]135
Она содержит жиголо. Это надо же! (фр.).
[Закрыть]), С. нашла под столом мою руку и сунула деньги мне, чтобы я расплатился по счету.
Я состою в должности преданного любовника С. вот уже три месяца. Она подцепила меня однажды летним вечером на террасе «Кафе де Флор». Сидела за соседним столиком одна, улыбалась мне, а разглядев, какую книгу я читаю, сказала:
– Не многие американцы способны читать Роб-Грийе по-французски. Должна сознаться, я и сама нахожу его трудным!
С. говорит, будто ей сорок, но я подозреваю, что она несколько старше, судя хотя бы по дряблости кожи. Вообще-то С., мою самозваную гурию, перепутать с Афродитой трудно, но она стройна и, в общем, недурна собой. Пить она начинает с утра («Gin and eet, comme la reine anglaise» [136]136
Джин с вермутом, как английская королева (англ. + фр.).
[Закрыть]). За обедом – сегодня, например – выхлебала почти все вино сама, между делом исподтишка ткнув меня: дескать, не сиди как пень – вот, у меня под столом ноги раздвинуты, сними туфлю и носок и нажимай пальчиком!
Потом мы скрываемся в моей отвратительно тесной гостиничной комнатенке, которую С. якобы обожает, потому что здесь она удовлетворяет свою nostalgie de la boue [137]137
Тягу к грязи (фр.).
[Закрыть], а кроме того, только такое жилище и приличествует молодому художнику. Мы совокупляемся дважды – один раз спереди, второй сзади, а потом я отказываюсь делать ей куннилингус. За это она на меня дуется. Ее лицо проясняется лишь тогда, когда, по ее настоянию, я начинаю читать ей из моего неоконченного романа. По ее мнению, он merveilleux, vraiment incroyable [138]138
Великолепен, просто неподражаем (фр.).
[Закрыть].
С. хочет, чтобы я обессмертил ее на своих страницах; она даже имя себе выбрала – Элоиза. Несмотря на проливной дождь и усталость, я иду ее провожать, сажаю в «остин-хейли», припаркованный на безопасном расстоянии, а по пути уверяю, что восхищен ее красотой, умом и образованностью. Вернувшись к себе в комнату, сразу сажусь писать 500 слов, в которых описываю, пока память еще свежа, как она содрогалась и корчилась в оргазме.
В 2 часа ночи просыпаюсь от приступа чихания. Лезу за термометром и обнаруживаю, что у меня температура 37,3. Пульс учащенный. Ломота в суставах. Я так и знал: не надо было выходить под дождь!
Париж. 9 октября 1951 г.Десять дней у меня на столе лежало письмо от отца, и только сегодня утром я наконец рискнул надорвать пугающе толстый конверт.
Я так и вижу, как отец пишет это письмо своим судорожным, неразборчивым почерком, сидя в задней комнатке книжной лавки за дубовой конторкой с шарнирно убирающейся полукруглой крышкой. Курит, должно быть, дешевую «экспорт А», зажав ее у черешка между двух зубочисток, чтобы не обжигаться, когда сигарета истлеет до последнего кончика. Поодаль на конторке штырь с наколотой на него стопкой неоплаченных счетов и коробочка от сигар с газетными вырезками, ластиками и марками разных заморских стран для почтальона-франкоканадца, которого он пытается обратить в свою веру. Здесь же остатки завтрака. Сухой огрызок сваренного вкрутую яйца – он никогда не съедает яйцо полностью. Или сэндвич с сардинами и потеки масла вокруг. Огрызок яблока. Посасывая желтые зубы, он пишет старомодной пробковой вставочкой, так же как до сих пор бреется опасной бритвой и каждое утро наводит глянец на свои грубые потрескавшиеся башмаки.
Письмо, как всегда, начинается с излития политической желчи. Юлиус и Этель Розенберги, естественно, признаны виновными и приговорены к смерти. В Тихом океане проведены испытания водородной бомбы – что это, как не провокация в отношении Советского Союза и других стран народной демократии?! В США арестованы лидеры коммунистической партии – двадцать один человек! Они обвиняются в заговоре и подстрекательстве к государственному перевороту. Затем он переходит к скучным мелочам повседневности. Маме лучше не становится. Ее нельзя оставлять дома одну, поэтому приходится каждое утро возить ее в кресле из дома в лавку, а ведь скоро лед и снег; как же тяжко ему придется с его артритом! Она все время дремлет или читает в подсобке, ждет, когда он закончит работать, опустит ставни и повезет ее домой. Дома он ее выкупает, протрет смоченной спиртом салфеткой, а потом подогреет ей кэмпбеловский томатный суп, а на второе даст морковные кубики с горошком или кукурузой, все из консервных банок. Или на старом свином жире поджарит ей из пары яиц омлетик – до кружевной сухой коричневой корочки с краю. На ночь станет прокуренным голосом читать ей, прерываемый приступами кашля, после которых будет сплевывать мокроту в грязный носовой платок. Кого читать? Да ясно кого: Говарда Фаста, Горького, Илью Эренбурга, Арагона, Брехта. Вместо распятия над кроватью у них висит копия грамоты, которую получил товарищ Норман Бетьюн от товарища Мао. Что же касается кровати, то из-за матери под простыню теперь приходится подкладывать клеенку. Иногда отец на ночь распускает матери волосы, расчесывает их и поет ей словно колыбельную:
В свой профсоюз, рабочие, вступайте!
Мужчины с женщинами, все в одном строю.
А кровососов жадных изгоняйте,
Как гонит буря пенную струю.
Не отставай, вперед гляди смелее!
Когда мы вместе, нам не страшно ничего.
Плечом к плечу мы все преодолеем —
Один за всех и все за одного!
Отец пишет, что у него никаких сил уже нет справляться. Если я вернусь домой, он простит мне все грехи, как вольные, так и невольные. Я смогу снова поселиться в задней комнатке, где радиатор шипит и щелкает всю ночь и где за окном открывается вдохновляющий пейзаж: чьи-то кальсоны, сохнущие на протянутой во дворе веревке, и простыни, которые зимой становятся жесткими, как жесть. Писать я смогу по утрам, только надо будет время от времени заглянуть к маме, вынести из-под кресла горшок – этакая аппетитная преамбула к завтраку. А вечерами мне придется помогать ему, я буду приглядывать за лавкой, пока он потчует страждущих товарищеймарксистской панацеей. Еще я должен буду отбиваться от случайно забредших простаков, которым нужен то Норманн Винсент Пил – «Сила позитивного мышления», то, может быть, Гейлорд Хаузер – «Как выглядеть моложе и жить дольше». А платить он мне будет двадцать пять долларов в неделю.
«Я ведь не становлюсь моложе, и мама, которая тебя так любит, тоже. Наши жизни подходят к концу, и нам нужна твоя помощь».
А как же насчет моей жизни? Почему я должен жертвовать ею для них? Да я лучше вскрою себе вены, как это сделала бедняжка Клара [Этот пассаж про Клару в рукописном дневнике Макайвера, подлинник которого хранится в университете Калгари, выглядит так: «Да я лучше вскрою себе вены, как это сделала бедняжка Клара (как всегда, неудачно, faute de mieux [139]139
За неимением лучшего (фр.).
[Закрыть]– сие сквозит во всем, что она предпринимала)». Тетрадь № 31, сентябрь-ноябрь 1951 г., с.83. – Прим. Майкла Панофски.], чей невероятный талант я распознал первым, нежели вернусь под постылый родительский кров. В этот так называемый дом, куда я не мог пригласить друзей без того, чтобы им не прочитали лекцию по истории всеобщей виннипегской стачки девятнадцатого года, а потом не всучили агитационные брошюрки для раздачи родителям.
Перечитывая отцовское послание, я с карандашом в руках правлю в нем правописание и пунктуацию. Обычно также отмечаю, что на всех семи страницах нет ни одного вопроса о моем настроении, душевном состоянии. Ни йоты интереса к тому, как продвигается мой труд.
Естественно, все эти призывы к сыновнему долгу вызывают у меня мигрень. Работать уже невозможно. Иду Люксембургским садом, потом по рю Вавен на Монпарнас. Это глупо, потому что моцион пробуждает аппетит, а на еду нет денег. Проходя мимо собора, замечаю П. – он о чем-то сговаривается с жуликом, который, говорят, теперь у него в приятелях. Это меняла с улицы Розье.
Пустой, пропащий день, не написал ни слова!
Париж, 20 октября 1951 г.Давно должен прийти чек с гонораром из ЮНЕСКО, а его все нет и нет. Из «Нью-Йоркера» вернули рассказ со стандартной печатной отпиской. Словесный понос Ирвина Шоу им больше по вкусу! Этого следовало ожидать.
С. всегда в прелестных платьях от Диора или Шанель. На одно платье тратит столько, что на эти деньги я мог бы жить месяцами. Да еще и жемчужное ожерелье с бриллиантовой застежкой. Кольца. Часы, конечно, швейцарские – «Патек-Филипп». Ее муж – какая-то крупная шишка в банке «Креди Лионне». Любовью он с ней не занимался более года. Она пришла к выводу, что он tante, но мог бы ведь хотя бы sans brio навести немножко «à voile et à vapeur» [140]140
Педик… для порядка… Зд.: тень на плетень (фр.).
[Закрыть], как она однажды сказала.
С. опять ходила за покупками на рю Фобур Сент-Оноре. Прихожу с рынка, и вдруг консьержка вручает мне маленький перевязанный ленточкой сверток, доставленный лично. Флакон мужских духов от «Роже и Галле». И три куска ароматного мыла. Ох уж это высокомерие богачей!
Потом, едва я сел за стол, является сама – запыхавшаяся, не привыкла пешком на пятый этаж взбираться.
– У меня времени всего час, – говорит она; ее поцелуй воняет чесноком, которым она сдобрила завтрак.
– Но я только что сел за работу!
Она принесла с собой бутылку «редерер кристаль» и уже раздевается.
– Давай-давай, не тяни, – повелительно роняет она.
Сегодня только 300 слов. И все.
Париж, 22 октября 1951 г. П. свысока приглашает меня пообедать в дешевую забегаловку на рю Драгон и конечно же в ответ ожидает благодарности. Говорит, что разжился кое-какими деньгами в результате некой темной сделки на паях с сообщником-менялой. Источая заботу, предлагает дать в долг. Я нуждаюсь ужасно, но отклоняю его предложение: он не из тех людей, у кого я могу позволить себе одалживаться. Его забота – всего лишь видимость. Он жутко не уверен в себе и навязывает свои услуги в надежде втереться в доверие к тем, кто лучше его.
Потом мы вместе доходим до Королевских кортов [141]141
* …до Королевских кортов… – здание бывших кортов. В середине XX в. там был музей.
[Закрыть], где ему особенно нравятся картины Сёра.
– Сёра приписывают изобретательность, говорят, будто он выдумал новый стиль, – возражаю я, – но он, как и многие импрессионисты, был, вероятно, просто близорук и изображал вещи так, как действительно их видел.
– Ну ты даешь! – отзывается П.
Париж, 29 октября 1951 г.Вся шайка за столом в кафе «Мабийон». Лео Бишински, Седрик Ричардсон, еще двое, чьих имен я не запомнил, какая-то девчонка с искрящимися волосатыми подмышками и, конечно, П., сопровождаемый обоими – его Свенгали и его Кларой. В ответ на фальшиво-дружественные приветствия я ненадолго остановился у их столика, стараясь не поддаваться на провокации Буки. Все в этой компании обкурены гашишем, что делает их еще глупее и скучнее, чем обычно.
Чтобы хоть как-то позабавиться, я стал выдумывать на всю артель общее прозвище. Йеху? Остолопы? В результате остановился на Шутах гороховых.
Они приехали сюда словно не набираться французской культуры, а болтать друг с другом. Ни один из них не потрудился хотя бы полистать Бютора, Натали Саррот или Клода Симона. Вечером, когда я иду (если есть деньги) смотреть постановку новой пьесы Ионеско или спектакль Луи Жуве, они в «Старой голубятне» орут, бисируя Сиднею Беше [142]142
* Мишель Бютор(р. 1926) – писатель, крупнейший представитель школы французского «нового романа» . Натали Саррот(наст. имя Наталия Иванова-Черняк; 1900–1999) – писательница, представитель школы «нового романа» . КлодЭжен Анри Симон(1913–2005) – писатель, лауреат Нобелевской премии (1985) . Луи Жуве(1887–1951) – легендарный актер театра и кино . Сидней Беше(1897–1959) – американский джазмен, кларнетист. «Старая голубятня»– студийный парижский театр.
[Закрыть]. Собравшись за столиком в каком-нибудь кафе, они до хрипоты спорят, кто лучше орудует битой – Джо Ди Маджио или Тед Уильямс, а если на П. нападает его томительный хоккейный стих, то, соответственно, клюшкой – Горди Хоу или Морис Ришар. А то еще примутся друг с другом состязаться, кто вспомнит больше слов какой-то там песенки «Сестер Эндрюс» [143]143
* «Сестры Эндрюс»– ансамбль, у нас известный главным образом переложением еврейской песни «Bei Mir Bist Du Schoen» (1938), английский текст которой написал Сэмми Канн в 1933 г.
[Закрыть]. Или реплик диалога из фильма «Касабланка». Прознают, что где-то идет комедия с Бадом Эбботом и Лу Костелло или мюзикл с Эстер Уильямс [144]144
* Эббот и Костелло– знаменитый комедийный дуэт . Эстер Уильямс(р. 1923) – бывшая чемпионка по плаванию брассом, ставшая затем средней руки кинозвездой.
[Закрыть]– о, хлопают друг друга по плечам и радостно бегут туда все вместе, чтобы потом опять засесть в «Олд нэйви» или «Мабийоне» и гоготать часами.
Париж, 8 ноября 1951 г.Джордж Уитмен пригласил меня выступить с чтением в его книжном магазине. Наверное, с Джеймсом Болдуином не смог договориться.
Когда я начал, публики было сорок пять человек, в том числе и П. с приятелями, пришедшими явно чтобы только надо мною поглумиться. Да тут еще, откуда ни возьмись (хотя очень даже понятно откуда – их кликнул Бука), появились «буквалисты» и устроили обструкцию. Но они жестоко ошибаются, если думают, что им по силам меня устрашить. Несмотря на весь их вопеж и ржанье, я продолжал читать ради тех, кто пришел меня слушать.
П., которому наверняка приятно было видеть, как на меня нападают, пригласил потом меня выпить – с тем чтобы без помех всласть позлорадствовать. Непомерно внимательный, опять предложил денег взаймы. Спросил, не лучше ли мне вернуться в Монреаль и поискать работу учителя. «С твоим университетским образованием, да еще и медалью по филологии…» – мямлил он с плохо скрытой завистью в голосе.
– Кто умеет делать – делает, кто не умеет – учит, – ответил я.
Он обиделся и попытался сбежать не заплатив. Я удержал его, сказав, что пришел в кафе исключительно по его приглашению. Задетый за живое, он вскипел, стащил меня со стула и ударил в нос, так что пошла кровь. А потом все же сбежал, вынудив меня платить по счету.
То был не первый раз, когда П. за неимением аргументов пускает в ход кулаки. Я думаю, что и не последний. Он человек жестокий и отчаянный. Боюсь, не совершит ли он когда-нибудь убийства. [Запись в рукописной тетради № 31 (сентябрь – ноябрь 1951 г., с. 89) не содержит последнего предложения. Фраза «Боюсь, не совершит ли он когда-нибудь убийства» добавлена позже, постфактум. – Прим. Майкла Панофски.]
10
Привет-привет, это опять я. В новостях снова замелькал великий и несравненный Лео Бишински. Музей современного искусства устраивает ретроспективную выставку, которая затем отправится в Художественную галерею Онтарио – ура! наконец-то выход на мировую арену! На фотографии в «Глоб энд мейл» видно, что Лео теперь носит парик, на который пошла, надо полагать, вся его коллекция волосков с причинных мест знаменитых манекенщиц – судя по виду изделия. Грудь нараспашку, сияющий, стоит в обнимку со своей двадцатидвухлетней любовницей, вылитой куклой Барби; ее руки обвивают его волосатый живот, необъятный, как бочка, в которых солят пастрами. Как я скучаю по Лео! Нет, в самом деле скучаю.
«Прежде чем приняться утром за работу, – по секрету сообщает Лео репортеру из «Глоб энд мэйл», – я ухожу в близлежащий лес и слушаю, о чем шумят деревья».
Однако на странице третьей той же газеты открывается нечто покруче.
Куда там Абеляру и Элоизе! Ромео и Джульетта? – отдыхают! Чак и Ди? Может быть, Майкл Джексон и сын дантиста из Беверли-Хиллз? Да ну! Берите выше! Сегодняшняя «Глоб» запузыривает истинно канадский блокбастер, печальнейшую повесть, полную любви и романтики. Какой-то неведомый Уолтон Сью вчера женился, тем самым завершив, по словам репортера «Глоб», «еще один акт почти шекспировской истории, где сплетаются любовь и деньги, верность и вендетта двух семей и в которой он и его жена оказались столь же невольными, сколь невероятными героями». Уолтон Сью, пятнадцать лет назад сбитый машиной и искалеченный в результате этого как физически, так и умственно, женился на прикованной к инвалидному креслу мисс Марии Де Саузе, страдающей от церебрального паралича. Их сочетали браком на «тайной» церемонии в Старой ратуше Торонто, где собралось больше прессы, чем родственников, пишет корреспондент «Глоб».
Проблема Уолтона Сью была в том, что его отец, в чьем распоряжении находились двести сорок пять тысяч долларов, полученные в качестве компенсации после того, печальной памяти, несчастного случая, был настроен категорически против женитьбы сына. Однако за день до свадьбы Уолтон был юридически признан неспособным управлять своей собственностью, и контроль над этими деньгами тут же перешел к Общественному Попечителю, коим является соответствующее учреждение провинции Онтарио. В результате Уолтон Сью и мисс Де Сауза были вынуждены переехать в дом инвалидов.
Я не пытаюсь выставить на посмешище эту пару, которой от всей души желаю мазл тов [145]145
Счастья и удачи (иврит) – традиционная еврейская здравица.
[Закрыть]. Для меня здесь изюминка в том, что умственная неполноценность, похоже, дала этому Сью лучшие шансы на удачную женитьбу, чем те, что когда-либо имелись у меня, а я в этом деле, можно сказать, ветеран: как-никак, а все-таки трижды пытался. Последний раз вступил в брак с женщиной, над которой «не властны годы, да и разнообразие ее вовеки не прискучит» [ «Над ней не властны годы. Не прискучит / Ее разнообразие вовек». Шекспир. Антоний и Клеопатра, акт 2, сцена 2. <Перев. М. Донского.> – Прим. Майкла Панофски.], но она в итоге сочла меня недостойным, и это еще мягко сказано. О, Мириам, Мириам, как томится по тебе мое сердце!
Была бы жива моя первая жена, я пригласил бы ее плюс Вторую Мадам Панофски и плюс Мириам на шикарный ужин в «Хуторок под оливами». Мы провели бы там симпозиум, посвященный крушениям брачных планов и надежд Барни Панофски, эсквайра. А также циника, волокиты, любителя выпить и поиграть на фортепьяно. К тому же, не ровен час, еще и убийцы.
Мой любимый монреальский ресторан «Хуторок под оливами» – живое доказательство того, что сей мятущийся, расколотый надвое город еще не лишился представления об истинных ценностях. Его спасение в том, что живущие в нем сильные мира сего не утрачивают привычки к удовольствиям. В Монреале не принято перекусывать на бегу или после полуденной партии в сквош перехватывать по-быстрому какой-нибудь салатик; этой болезни, присущей жителям Торонто, у которых в каждом глазу по доллару, у нас нет. Отнюдь: монреальцы собираются в «Хуторке под оливами» и сидят там, тратя на ланч по три, по четыре часа. Вдумчиво копаются в щедрых порциях côtes d'agneau или boudin [146]146
Баранины на ребрышках… кровяной колбасы (фр.).
[Закрыть], изысканные вина при этом пьют бутылками, а им вослед неспешно дегустируют коньяк и сигары. Именно здесь стороны состязательного процесса – непримиримые адвокаты с прокурорами, да и судьи тоже – встречаются, чтобы за дружеской беседой уладить разногласия, однако не раньше, чем попотчуют друг друга животрепещущей скабрезной сплетней. Здесь редко видишь жен, чаще любовниц. Крестный отец квебекских тори, у которого здесь постоянный столик, сидит, насосанный как клещ, и собирает дань, с видом до оскомины невинным. За соседними столиками министры провинциального правительства решают, кому дать, а кому не давать жирный строительный подряд, – сидят, выслушивают претендентов. У меня тут тоже свое местечко – за круглым столом еврейских грешников, где председательствует Ирв Нусбаум; здесь все мои преступления прощены или упоминаются только с целью вызвать взрыв хохота.
Сюда я приглашал Буку накануне бракосочетания со Второй Мадам Панофски.
А Бука, живи он поныне, был бы сейчас семидесятидвухлетним стариком и до сих пор, наверное, бился бы над тем своим первым романом, который должен был удивить мир. Вот ведь что во мне самое скверное. Мстительность. Но уже годы истекли с тех пор, как я со дня на день ждал, когда же он позвонит в мою дверь – не завтра, так послезавтра. «А ты читал Лавкрафта [147]147
* Говард Филипс Лавкрафт(1890–1937) – американский писатель-фантаст.
[Закрыть]?» Давно прошли ночи, когда я вдруг рывком вскакивал в четыре утра, бросался за руль и по какому-то безумному наитию мчал к своему домику на озере. Распахивал входную дверь, кричал, звал Буку по имени, все втуне, а потом сидел на пристани и смотрел на воду, куда он канул.
– Я видела его единственный раз, на твоей свадьбе, – сказала однажды Мириам. – Ты меня прости, конечно, но он был жалок. И не надо на меня так смотреть.
– Да я – ничего.
– Я понимаю: мы уже сотню раз проехали все происшедшее в тот ваш последний день на озере. Но у меня все равно такое чувство, будто ты что-то недоговариваешь. Вы там не ссорились?
– Да нет. Конечно нет.
По прошествии стольких лет милый моему сердцу домик на озере километрах в ста с лишним от Монреаля уже не радует меня так, как прежде. Конечно, когда в шестидесятые вдоль реки Святого Лаврентия построили шестиполосное шоссе, время на дорогу у меня сократилось до часа, а было ведь хорошо если два. Однако, к сожалению, из-за этого же шоссе озеро стало местом, где можно жить, работая в городе, а потом и вовсе появились компьютерно грамотные ухари, устроившие себе рабочие места прямо в коттеджах. Теперь уже не надо, добираясь до дома по предательскому проселку, разбитому лесовозами, ползти на первой передаче, петляя между торчащими валунами и стараясь не угодить в глубокую колею. Тогда я ездил с риском оторвать глушитель, который все-таки царапался, бился, и его каждый год приходилось менять. Нет, мне не жаль поваленных деревьев, частенько преграждавших путь, а вот ненадежного, узенького деревянного мостика через речку Чокчерри все-таки жалко: больно уж нравилось мне смотреть с него, как несутся во время весеннего паводка ее угрожающе вспухшие воды. Давным-давно его сменил нормальный железобетонный мост. А лесовозную дорогу, расширенную в конце пятидесятых, теперь замостили и даже чистят зимой от снега. И политический прогресс не обошел нас стороной. Это прекрасное озеро, настоящая жемчужина, которую про себя я продолжаю называть озером Амхерст, в семидесятые было переименовано в Лакмаркет комиссией de toponymie [148]148
По топонимике (фр.).
[Закрыть], которая не покладая рук занимается очищением la belle province [149]149
Букв.: прекрасная провинция (фр.);метонимия Квебека.
[Закрыть]от названий, оставленных ненавистными завоевателями. Когда-то воды двадцатитрехмильного озера бороздили лишь каноэ и парусные яхты, теперь же лето нам страшно портят полчища моторок и воднолыжников. Мало того: то и дело пролетают над головой самолеты с натовской базы в Платтсбурге – рев при этом стоит, аж стекла дребезжат. Бывает, прогундосит в небе межконтинентальный лайнер, заходящий на посадку в аэропорт «Мирабель», а еще у нас есть трое олигархов, которые по выходным прилетают на собственных маленьких гидропланах. А вот в прежние времена наши еще не тронутые воды самолет, помнится, потревожил лишь однажды. Наверное, пожарный бомбардировщик – их тогда только испытывали, году примерно в пятьдесят девятом. Ну да, конечно, кто же еще: проревел над озером, хапнул там черт знает сколько тонн воды, снова набрал высоту и понес эту воду, чтобы сбросить на какую-нибудь дальнюю гору. Подумать только, когда я впервые сюда приехал, на озере было всего пять коттеджей, считая с моим, а теперь – господи! – больше семидесяти. Надо же, забавно: я скоро стану местной достопримечательностью, этаким старым чудаком первопоселенцем, соседи начнут приглашать меня на свои дачи, чтобы я веселил их детишек рассказами о тех днях, когда пятнистая форель кишела кишмя, зато не было даже электричества и телефонов, а не то что, скажем, кабельного телевидения или спутниковых тарелок.
На свою Ясную Поляну я наткнулся случайно. Дело было в тысяча девятьсот пятьдесят пятом году. Один приятель пригласил меня на выходные к себе на дачу, которая была на другом озере, но я не там свернул и оказался на дороге, проложенной для лесовозов. Дорога привела меня к домику, на вид брошенному, стоящему на высоком пригорке над озером, и вдруг оборвалась. Смотрю, к столбу покосившейся веранды приколочена табличка с надписью «Продается» и указанием, к кому обращаться. Дверь оказалась заперта, и окна заколочены досками, но одну доску мне удалось отодрать, и я влез внутрь, распугав там белок и полевых мышей. Хижину, как выяснилось, построил в тысяча девятьсот тридцать пятом году какой-то американец из Бостона, чтобы ездить сюда на рыбалку, и она уже десять лет как выставлена на продажу. Последнее обстоятельство меня не удивило, поскольку состояние хижины было кошмарным. Но она покорила меня с первого взгляда, и я приобрел ее вместе с окружающими десятью акрами [150]150
* Акр– примерно 200 на 200 метров.
[Закрыть]луга и леса, причем фантастически дешево – всего за какие-то десять тысяч долларов. Следующие четыре года я проводил там каждый летний выходной, питаясь бутербродами и обходясь керосиновой лампой; ночи коротал в спальном мешке, окружившись мышеловками, а днем ругался с неповоротливыми местными строителями, мало-помалу приводившими дом в состояние, пригодное для житья. На третий год установил бензиновый генератор, однако до того, чтобы сделать дом зимним и построить во дворе сараи и лодочный ангар, не доходили руки, пока я не женился на Мириам. И по сей день я содержу в порядке шалаш на дереве, где когда-то играли дети. Зачем? Ну, может быть, для внуков.
Вот, разволновался, принялся мерить шагами гостиную. Кто-то должен прийти в одиннадцать, будет брать у меня интервью, а вот кто – убей бог, не помню. И зачем тоже. Оставил сам себе записку-памятку, но она куда-то пропала. Вчера ехал на своем «вольво», собирался уже поворачивать к дому и вдруг растерялся – не знаю, как воткнуть третью передачу. Подрулил к тротуару, отдохнул, потом выжал сцепление и стал практиковаться в переключении передач.
Стоп. Поймал. Юная дама, которая ко мне придет, – это ведущая передачи «Кобёл с микрофоном» студенческого радио университета Макгилла. Между делом она работает над диссертацией о Кларе. Допрос на эту тему для меня не новость. Ко мне уже приходили или присылали письма феминистки со всего света – из Тель-Авива, Мельбурна, Кейптауна и – ну, того города в Германии, откуда Гитлер повел наступление на парламент. Да как же его – туда еще ездил британский премьер-министр с зонтиком. Обещал немедленный мир. Черт! Черт! Черт! Тот самый город, где у них бывает знаменитый пивной фестиваль. Пильзнер? Мольсон? Нет. Звучит как название народца в «Волшебнике из страны Оз». Или картины… ага: «Вопль» [«Крик». – Прим. Майкла Панофски.] этого… как его… Мунка. Мюнхен! Да какая разница, я хочу сказать только то, что почитательниц святой великомученицы Клары тьма-тьмущая, и всех их объединяют две вещи: во-первых, я для них воплощение гнусности, а во-вторых, они отказываются понимать, что Клара терпеть не могла других женщин, считая их своими соперницами по борьбе за мужское внимание, в котором она купа-а-а-лась.
Над каминной доской у меня и поныне висит один из Клариных чересчур многофигурных, болезненно-извращенных рисунков пером. Изображено на нем групповое изнасилование девственниц. Оргия. Разыгравшиеся гаргульи и гоблины. Радостно ржущий сатир в моем образе держит за волосы голую Клару. Она на коленях, а я пытаюсь всунуть ей в открытый рот, воспользовавшись моментом крика. Мне за это очаровательное видение предлагали аж двести пятьдесят тысяч долларов, но ничто не может заставить меня с ним расстаться. По мне, наверное, не скажешь, но на самом деле я сентиментальный старый болван.








