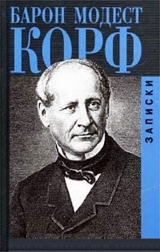
Текст книги "Записки"
Автор книги: Модест Корф
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 47 страниц)
В 1840 году дело об их разделе вторично достигло до Государственного Совета, который, видя, что все способы примирения уже истощены, заключил прибегнуть к строгим судебным мерам, именно обратить дело к разбору с нижней инстанции, а спорное имение взять в опеку, устранив от его управления всех трех братьев. Мемория об этом возвратилась в свое время с следующей грозной резолюцией, служившей новым доказательством, сколько император Николай чтил святость и неприкосновенность семейных отношений: «Справедливо; но при сем нужным считаю велеть объявить братьям Пашковым, что мне весьма прискорбно видеть редкий пример раздора семейного в таком звании, которое должно бы служить образцом всех доблестей. Сие касается в особенности до Андрея Пашкова; ему не должно забыть, что на нем лежит неизглаженное пятно[34]34
Подчеркнутое здесь было подчеркнуто и в собственноручной резолюции.
[Закрыть]: жалобы ко мне его матери на неслыханные его поступки. После того я не считаю приличным, чтоб он всюду показывался в благородном обществе, доколе ясно не докажет свою совершенную невинность».
Мемория с этой резолюцией пришла ко мне во время заседания Государственного Совета, и хотя заключение последнего, давшее к ней повод, состоялось под председательством не князя Васильчикова, устранившего себя от обсуждения дела Пашковых за родством, а князя Голицына, однако я тотчас вызвал первого из собрания для прочтения ему вышеписанного. Князя, хотя он и презирал Андрея Пашкова не менее, чем другие, чрезвычайно встревожили как содержание резолюции, так и ее форма, и в нем родилась мысль ехать к государю с просьбой о ее отмене, что мне удалось отклонить лишь с большим трудом, главнейше тем доводом, что при близком его свойстве с Пашковым всякое возражение могло бы быть принято в виде родственного ходатайства. Но тут предстоял другой вопрос: через кого и в каком порядке объявить эту высочайшую волю Пашковым, и в особенности Андрею, ибо должно было опасаться, что если сделать сие в обыкновенном порядке, через Сенат, то он, по своим формам, напечатает все общие сведения, а это, может быть, превзошло бы уже высочайшие намерения. С этим вопросом Васильчиков поехал к государю после заседания и получил повеление: резолюцию всю прочесть непременно в первом собрании Совета в общее услышание и затем объявить ее Пашковым лично у себя, не публикуя через Сенат, только из уважения к дворянскому сословию.
* * *
В бытность мою еще государственным секретарем, осенью 1840 года, я, по возвращении из заграничного отпуска, представлялся императору Николаю в Царском Селе. Во время этой аудиенции он заметил, между прочим, что состав Государственного Совета очень одряхлел.
– Васильчиков, – продолжал он, – тоже все от меня оттягивается; но я настоятельно писал ему, чтобы он воротился (Васильчиков был тогда в отпуску в деревне). Мне решительно некем заместить его: князь Александр Николаевич (Голицын), при всех своих добрых намерениях, никогда не был способен к этой должности, а теперь еще более, чем когда-нибудь, опустился.
При исчислении членов Совета, уехавших (на летнее время) и воротившихся, когда речь коснулась князя Любецкого, государь сказал:
– Этого я страшно боюсь; особенно теперь, в отсутствие Егора Францевича (Канкрина), он совсем нас загоняет!
Много также было говорено о подробностях и последствиях моей поездки, а от этого речь перешла к общему взгляду на Европу:
– Скучно, государь – сказал я, – за границей: меня измучила тоска по отчизне, и я воротился месяцем прежде срока отпуска.
– Это, – отвечал он, – обыкновенный результат того, когда выезжают за границу люди наших лет и наших понятий; посмотришь, порассудишь и убедишься, что если там что и лучше, то у нас оно выкупается другим словом: что наше несовершенство во многом лучше их совершенства. Вообще, если мы и можем поучиться у иностранцев чему-нибудь в жизни внешней, то, конечно, уж не во внутренней, – я разумею семью, дом, «home», как говорят англичане, а тут неволей и потянет домой. Но молодежь может думать и смотреть на вещи иначе, увлекаясь наружностью и живя там более нараспашку. Много ли ты встречал в чужих краях нашей молодежи?
– Чрезвычайно мало, государь, почти никого.
– Все еще слишком много. И чему им там учиться? Не говорю уже о Франции: этот край вне всяких правил, потому что там, по моему понятию, все еще продолжается революция 1789 года. Но посмотри и на Англию: в Лондоне выбирают теперь в лорд-мэры человека, не только оглашенного своим строптивым и беспокойным нравом, не только отъявленного врага всякого законного порядка, но и публично издевавшегося над всем, что должно быть священным в глазах порядочных людей, называвшего даже письменно свою королеву «восковой куклой». На Рейне я не был 18 лет и должен сказать по правде, что теперь нашел там перемену к лучшему; по крайней мере, место мнимолиберальных идей заступила у них осторожная выжидательность, но и это не от убеждения или чувства, а просто от страха, возбужденного в них примером. Они были ежедневными свидетелями тех бедствий, которые накликала на себя Франция под влиянием тамошнего безрассудного направления умов – и вовремя остановились. Остается Австрия; но об этой для меня задача даже то, как она может идти и как совсем еще не развалилась! Монарх безгласный; совет управления, в котором все члены от сердца друг друга ненавидят и готовы бы один другого разорвать, а во главе этого совета – эрцгерцог Людовик, человек, может быть, умный и знающий, но без всякого характера, без всякой воли – сущая баба. К тому же, если и нет в Австрии класса настоящих адвокатов, людей, по моему понятию, самых вредных и опасных, то есть сильная бюрократия, которая минирует государство и ставит умы в вечную борьбу с правительством.
Был также вопрос, много ли мне попадалось за границей поляков? Я отвечал, что из лиц примечательных видел только в Кракове, на улице, Хлопицкого.
– Да, – отвечал государь, – я знаю, что он живет там в большом уединении и одиночестве, – но более о нем не распространялся.
* * *
Императрица в 1840 году проводила лето на Эмских водах, куда ездил для свидания с нею и государь. В последнее время перед его отъездом было много важных дел по существовавшему в то время особому комитету западных губерний, и между ними одно, самое важное: о распространении на эти губернии общих русских законов, с отменой действия Литовского статуса и конституций и со введением в производство дел повсеместно русского языка и русских форм. Эта мысль, родившаяся первоначально от Киевского генерал-губернатора Бибикова, была схвачена и сильно поддержана государем, который собрал даже Комитет по этому случаю под личным своим председательством.
Князь Васильчиков, при обыкновенном горячем стремлении к благу России в том смысле, как он его понимал, с своей стороны сильно сопротивлялся введению этой меры, считая ее, во всех отношениях, скорее вредной, нежели полезной, особенно же потому, что ею должно было неизбежно еще более возбудиться неприязненное против нас расположение умов в западных губерниях. Преданный государю и России всеми чувствами и помыслами, прямодушный, правдивый, настоящий рыцарь без страха и без упрека, он часто говаривал мне, что идет всегда от того начала, что государь рассердится, покосится и пройдет, но при тех отношениях, в которых государь поставил к себе его, Васильчикова, противно было бы его совести, из видов сохранения царской милости, жертвовать истинными выгодами России. Следуя тому же правилу и в настоящем случае, он простер свое сопротивление до самой крайней степени, и указ 25 июня, распространивший на западные губернии русские законы и русский язык, был подписан при явной оппозиции нашего председателя, после разных неприятных объяснений и сцен.
Но и доблестный князь имел своих врагов. Кроме слышанного лично от него самого, государю перенесено было и то, что он говорил и делал в Комитете, а все это в совокупности не могло не возродить некоторого огорчения, так что, когда в это время приехал сюда князь Варшавский, то государь прямо жаловался ему на противодействие Комитета его видам.
Вскоре после того государь уехал под этими впечатлениями в чужие края. Вслед за его отъездом начали доходить в Петербург самые неприятные вести изнутри России.
Плодороднейшие наши губернии были поражены гибельным, повсеместным неурожаем, и печальное впечатление, произведенное сим бедствием, выражалось тем сильнее, что государь находился вне империи, следственно, при несуществовании в то время телеграфов рука помощи была далека. Васильчиков, видя необходимость в немедленном принятии хотя некоторых предварительных мер; почитая себя обязанным к тому по самому своему званию председателя двух верховных установлений в империи: Государственного Совета и Комитета министров; наконец, рассчитывая, сколько прошло бы драгоценного при таких обстоятельствах времени, если б писать за границу и ждать оттуда ответа, решился составить у себя чрезвычайное совещание из министров. Тут были положены на меру некоторые не терпевшие отлагательства распоряжения и, по приведении их тотчас в действие, Васильчиков донес о всем том государю с изъяснением и причин, побудивших его к такой решительности.
В этом, очевидно, сделаны были две ошибки. Одна заключалась в самой сей решительности, которая, без особого уполномочия, при всей чистоте побуждений не могла быть угодна государю. Другая состояла в том, что к министерскому совещанию не был призван управлявший в то время, за отсутствием Канкрина, министерством финансов Вронченко – тот самый, против назначения которого товарищем министра Васильчиков незадолго перед тем так сильно протестовал.
Первая ошибка могла показаться государю притязанием непризванно установить в его отсутствие нечто вроде временного правительства; вторая должна была утвердить его в мысли об упорной оппозиции, устранившей избранного им министра от составленного Васильчиковым совещания только потому, что он не нравился сему последнему. Как бы то ни было, но донесение долго не возвращалось, гораздо долее, чем следовало при обыкновенном движении заграничных сношений с государем. Наконец сам он приехал в Петербург, и тогда только бумага была выслана обратно к Васильчикову, с сухой надписью, изъявлявшей единственно удивление, что в сказанное совещание князь не пригласил Вронченко. Затем, не далее как на другой день, созваны были в Царское Село все министры, кроме Васильчикова, и тут же последовало повеление: дела о продовольствии постигнутых неурожаем губерний из ведения Комитета министров изъять, учредить для них особый временный комитет под председательством военного министра Чернышева.
Таким образом, не только предварительные распоряжения не получили прямого утверждения, не только созыв Васильчиковым министерского совещания остался без одобрения, но и сам он поставлен был на будущее время вне всякого дальнейшего участия и влияния по этому важному предмету, с поручением дела, мимо него, руководству и надзору другого лица.
Прошло несколько дней, и Васильчикова не приглашали в Петергоф. Наступил и его обыкновенный докладной день, вторник; но тут сам он уклонился под предлогом нужных дел по Комитету министров, собиравшемуся в тот же день; вследствие чего последовало ему приказание явиться в четверг. Что именно происходило при этом свидании, осталось для всех неизвестным; но домашние князя рассказывали мне (я был тогда еще за границей), что никогда не видали князя столь расстроенным, как после этой поездки: что он ни о чем другом не говорил, как об отставке и что хотя на следующее воскресенье его позвали в Царское Село обедать, однако он воротился немногим веселье и вслед за тем уехал в деревню, в обыкновенный свой осенний отпуск.
Все это было в июле, а во второй половине октября, уже при мне, князь воротился из деревни. Приехав ночью, он тотчас на следующее утро был приглашен в Царское Село и оставлен там на весь день. Рассказ его мне об этом свидании с государем заключался в следующем. Недели за две перед тем он из деревни прислал государю письмо, в котором прямо и откровенно просился в отставку как потерявший его доверие[35]35
К этому, без сомнения, относились слова государя мне, что Васильчиков от него «оттягивается».
[Закрыть]. В ответ на это его потребовали непременно в Петербург. Тема разговора, происходившего в Царском Селе, состояла, со стороны Васильчикова, главнейше в том, что распоряжения его могли показаться неугодными разве лишь по подозрению в них какого-нибудь тайного замысла (регентства и проч.); но как сердце государево, конечно, неспособно в отношении его, Васильчикова, к подобной мысли, то она и могла родиться единственно от посторонних злонамеренных внушений. Государь отвечал, что никогда подобной мысли не имел, а следственно, и подозрение в каких-нибудь внушениях само собою отпадает. Далее говорено было, что как дела о продовольствии ведались прежде в Комитете министров, под председательством его, Васильчикова, а теперь отделены в особый комитет, под председательством другого лица, то он заключает, что служба его более не нужна. На это ответствовано было фактом: в особом комитете, где председательствовал дотоле Чернышев, велено председательствовать Васильчикову.
Так окончилось это дело, и едва ли отношения между почтенным старцем и императором Николаем не сделались с тех пор еще искреннее, еще теснее. Эти два благородные сердца, неизменно стремившиеся к одной цели, вполне понимали друг друга, и случайные между ними неудовольствия имели всегда более вид размолвки между двумя любовниками. Васильчиков видел в Николае тот идеал, то олицетворение монархического начала, которое в то время считал столь нужным и для России и для Европы – и боготворил его. Николай любил и уважал Васильчикова как преданного друга, как благородную и возвышенную душу, как олицетворение праводушия, столько самому ему свойственного, и прощал своему другу его вспышки и напоминания, зная, что они истекали единственно от желания славы монарху и блага его державе. Вскоре после этой минутной размолвки граф Киселев сказывал мне, что был свидетелем, как государь, получив при нем упомянутое выше письмо, в котором Васильчиков просил об отставке, сокрушался о том и горевал, что недоразумение может подорвать основания дружбы и приязни, столько лет их связывающей.
* * *
При нашем дворе издавна существовал для парадных выходов особенный дамский костюм, называвшийся русским платьем, но, в сущности, очень далекий от своего названия и составлявший нечто среднее между нарядом польским и татарским. В царствование императора Николая этот костюм был более сближен с народным и единообразен в покрое и вышивках, с установлением также одинаковой формы для кокошников и повязок. Между тем на большом дворцовом бале 6 декабря 1840 года некоторые дамы позволили себе отступить от этой формы и явились в кокошниках, которые, вместо бархата и золота, сделаны были из цветов. Государь тотчас это заметил и приказал министру императорского двора князю Волконскому строго подтвердить, чтобы впредь не было допускаемо подобных отступлений. Волконский же, вместо того чтобы ограничиться распоряжением по двору, сообщил эту высочайшую волю к исполнению С.-Петербургскому военному генерал-губернатору графу Эссену, никогда не отличавшемуся ни особенной рассудительностью, ни высшим тактом. И что же вышло? Через несколько дней все наши знатнейшие дамы и девицы были перепуганы набегом квартальных надзирателей, явившихся к ним с письменным объявлением помянутой высочайшей воли и с требованием, чтобы каждая из них расписалась на том же самом листе в прочтении сего объявления! Государь, до которого это, разумеется, тотчас дошло, сначала очень посмеялся над таким деликатным распоряжением полиции, но потом не оставил сделать строгое замечание и князю Волконскому, и графу Эссену.
V
1841 год
Балет «Зефир и Флора» – Дело Дубенского – Переходная ступень к образованию министерства государственных имуществ – П. Д. Киселев – Внутренность кабинета императора Николая I – Любовная интрига в большом свете – Н. Н. Муравьев – Двойной приговор крестьянину, произнесшему дерзкие выражения против государя – Бал у графини Канкриной – Кн. А. Н. Голицын – Ночлег императора у динабургского коменданта Гельвига – Немецкая просьба – Генерал-адъютант Микулин – Падение потолка Георгиевской залы – Наследник цесаревич – правитель империи во время отъезда государя на маневры в Ковно и Варшаву – Император Николай играет на домашнем театре в Гатчине – Большие дворцовые балы
19 апреля был торжественный спектакль по случаю празднования бракосочетания государя наследника. Давали давно забытый балет «Зефир и Флора», утомительный, скучный, с устарелой музыкой, но назначенный на этот день именно по воле государя потому, что этот же самый балет давали, 24 года перед сим, при собственном его бракосочетании.
* * *
Государственные имущества, до учреждения для управления ими особого обширного министерства, ведались в одном небольшом департаменте, принадлежавшем к общему составу министерства финансов. Начальником этого департамента многие годы, еще со времен императора Александра, был сенатор Николай Порфирьевич Дубенский – человек, немногому учившийся, но с чрезвычайно светлым и верным взглядом на дела. Сверх того, служив до полковника в армейских полках, с которыми часто переходил с одной стоянки на другую, и быв потом долго вице-губернатором, губернатором и губернским предводителем, он приобрел очень много опытности и знал Россию как мало кто из тогдашних наших государственных людей. Вообще, если он и не был охотником до нововведений и редко помышлял о том, чтобы от частного идти к общему, т. е. от разрешения текущих дел к усовершению законодательства и к улучшению самой части, то, по крайней мере, со стороны критического ума, деятельности, распорядительности и железной энергии он имел мало соперников.
Но все отличные качества Дубенского помрачались его характером. Холодный и надменный эгоист, неумолимый деспот в кругу своих подчиненных[36]36
Вместе с департаментом имуществ Дубенский управлял долго и департаментом податей и сборов, где, быв при нем три года начальником отделения, я имел случай подробно изучить этого чрезвычайно тяжелого, но все-таки примечательного человека.
[Закрыть], не только пользовавшийся вполне своею властью как строгий начальник, но и злоупотреблявший ею для колких и ядовитых насмешек над теми из подчиненных, которые имели несчастье ему не нравиться, он оставался верен той же самой язвительной насмешливости и в отношении к равным, к высшим себя, к администраторам, к правительству, даже к священному лицу монарха. Острый и едкий язык его никого не щадил, и если иногда Дубенский расточал свои насмешки не прямо в лицо, то всегда и предпочтительно перед самыми приближенными к тем, над которыми он издевался.
Все это, естественно, навлекло ему бесчисленное множество врагов; а как к прочим его свойствам присоединялись еще, собственно по службе, под видом охраны казенных интересов, всевозможные притеснения каждому, кто имел до него дело, самое грубое и жестокое обхождение, и, наконец, преднамеренные действия наперекор людям сильным, чтобы доказать свою власть или свое бесстрашие, то я не знал никого, кроме разве, может быть, графа Аракчеева, кто был бы вообще так ненавидим всеми слоями публики. Даже непосредственный начальник Дубенского, граф Канкрин, который держал его и испрашивал ему частые награды единственно по убеждению приносимой им пользы, внутренне его терпеть не мог.
Отголоски этой публичной ненависти не могли не дойти и до престола, а тут к порицаниям заслуженным поспешила присоединиться и клевета. Дубенского выставили в глазах государя человеком, жертвующим государственными интересами для личных своих выгод, предателем благодетеля своего Канкрина, не имеющим ничего святого, осуждающим все, что делает правительство, даже противодействующим его распоряжениям, – словом, в самых черных красках, и именно в таких, которые наиболее должны были взволновать благородную и возвышенную душу императора Николая. Происки эти не остались тайной и для города. Стали говорить, что Дубенского отрешают от должности, предают суду и проч. Небольшое число его доброжелателей советовало ему, в отвращение грозившей бури, добровольно оставить службу. Но полагаясь, вероятно, на чистоту служебных своих действий или, по крайней мере, на ограждение их безукоризненным формализмом, он смеялся над всеми благонамеренными советами и продолжал оставаться при своей должности.
Около этого времени, к вящей пагубе Дубенского, выступал у нас на государственную сцену один новый человек с обаятельным умом, с необыкновенным искусством покорять себе людей, с блестящими формами, человек, исполненный воображения кипучей жизни, дальновидных государственных замыслов и отваги. Быв сперва начальником штаба 2-й армии и потом, после турецкой кампании 1828–1829 годов, полномочным правителем Молдавии и Валахии, где память о нем живет и доныне, Павел Дмитриевич Киселев в роли рядового члена Государственного Совета[37]37
Он был возведен в это звание 6 декабря 1834 года, в один день с назначением меня государственным секретарем.
[Закрыть] не мог находить достаточной пищи своей деятельности. Ему необходим был круг действия более обширный, более выпуклый, особенно такой, где, явясь исправителем старых упущений и вместе вводителем новизны и улучшений, он мог бы стяжать себе блестящую славу. Управление государственных имуществ представляло для всего этого самое пространное поле.
Как в частной жизни бывают иногда лица, против которых особенно устремляются злословие и клевета, так и в администрации всегда есть части, которые, по предубеждению ли, по обдуманному ли плану, или просто по привычке, делаются метой каких-то особенных, систематических нападок. К числу таких общепорицаемых частей у нас издавна принадлежало управление казенными крестьянами, оброчными статьями и проч. Оно действительно шло худо, но едва ли хуже некоторых других частей; только видимость предмета и, так сказать, осязательность его для каждого были причиной, что управление это осуждали более всех прочих.
Еще при императоре Александре, а потом и при его преемнике, неоднократно учреждаемы были высшие комитеты для преобразования этой части, но все, что ни придумывалось ими, встречало противодействие и от Канкрина, по общей ненависти его ко всему, чего не сам он был творцом, и от Дубенского – как врага по системе всяких нововведений и немилосердного критика всех идей, заимствованных из одной теории. При том предубеждении и, можно сказать, нравственном презрении, которое питал император Николай к Дубенскому, и при блестящих качествах Киселева, нетрудно было внушить государю, с одной стороны, что пока эта часть находится в руках у упорного Канкрина и его директора, до тех пор нельзя ожидать ничего хорошего, с другой – что для коренного преобразования и улучшения необходим и способен один только бывший правитель княжеств, который из царствовавшего там хаоса успел в несколько лет создать образец порядка и благоустройства.
И вот настал роковой январь 1837 года.
В ночь с 6 на 7 число Канкрина разбудили указом, павшим на него и на массу людей, как снег на голову, но давно предвиденным людьми наблюдательными. Дела о государственных имуществах были изъяты из министерства финансов; для заведования ими учреждено новое, пятое отделение в составе Собственной его величества канцелярии, по которому назначен докладчиком Киселев, а прежним департаментом велено управлять особому Временному Совету, за учреждением которого Дубенский перестал быть директором, хотя указ лично о нем прошел молчанием[38]38
Министерство государственных имуществ было образовано уже позже, в конце года; но Киселев получил портфель, как уже упомянуто, с самой минуты удаления Дубенского.
[Закрыть]. С сей эпохи открылось уже прямое и гласное преследование его. Сначала, под видом ревизии дел департамента имущества, приступлено было к обследованию личных действий бывшего его директора. Это обследование возложили на старого подьячего и отъявленного врага Дубенского, сенатора Болгарского, под благовидным предлогом, что он некогда сам управлял тем же департаментом, и на генерал-адъютанта Деллингсгаузена, человека с некоторой военной репутацией, но совершенно несведущего в гражданской части[39]39
Позже Деллингсгаузена заместил князь Голицын, назначенный впоследствии статс-секретарем у принятия прошений.
[Закрыть].
Естественно, что такая ревизия, под влиянием личной вражды и при стремлении угодить предполагаемому свыше желанию, произведена была не только со всею строгостью и с самой мелочной подробностью, нисходившей до порядка внесения бумаг в реестры, переписки черновых отпусков, скрепы их и проч., но и со всевозможной придирчивостью. Обвинения ревизоров с первого взгляда представлялись столько же странными, сколько, по большей части, и несовместными. По множеству страстей были сделаны произвольные выводы от частностей к общему, т. е. от беспорядков, усмотренных по нескольким делам, выводилось заключение о бездействии, небрежении или упущении департаментом своих обязанностей вообще. Сверх сего Дубенскому, и всегда только ему одному, вменялось в вину и то, что по закону лежало прямо на обязанности его подчиненных, и то, что делал и предписывал министр, и то, что было разрешено Сенатом, наконец даже такие упущения и действия, которые относились к времени, предшествовавшему его управлению.
Словом, бывшего директора представили каким-то исключительным лицом, на которого одного должна была пасть ответственность по целой части, как будто бы не существовало ни над ним министра, ни под ним чинов департамента, и как будто бы он был не только самостоятельным во всем распорядителем, но и контролером действий своего начальника. В таком виде обвинительные пункты, возросшие до 33 статей, были по высочайшей воле предъявлены Дубенскому, и тут наступило для него новое, самое горькое уничижение. С целью извлечения нужных к оправданию материалов ему открыты были все дела департамента, но не иначе как в самом департаменте. Таким образом, сенатору, александровскому кавалеру и прежнему самовластному и высокомерному начальнику надлежало всякий день являться в департамент, самому приискивать все нужные для него сведения и бумаги, делать лично все выписки и проч.; и все это в глазах и посреди прежних подчиненных, которым не было уже надобности его беречь и которых малоскрываемые глумления так тяжко должны были язвить его самолюбие…
Обвинения ревизоров вместе с оправданиями Дубенского поступили в 1-й департамент Сената. Здесь все выведенные первыми упущения признаны были или такими, которые, по связи их с мерами общими, не зависели от одного департамента имуществ, или же такими, за которые директор мог бы подлежать разве лишь взысканию административному. Только один предмет обвинения – о приобретении Дубенским от некоторых лиц прав на пожалованные земли – показался довольно важным, чтобы подвергнуть его судебному разбору. Вследствие того Дубенский предан был суду в V-м департаменте, с объявлением секретно высочайшей воли, чтобы до окончания суда он не присутствовал в Сенате[40]40
Государь в такой степени обращал внимание на это дело, что приказал доносить себе о ходе его каждые две недели. За всем тем оно пролежало в V-м департаменте и в министерстве юстиции около года, а всего, от начала его до окончания, длилось более четырех лет.
[Закрыть].
V-й департамент, обвинив подсудимого лишь по весьма немногим статьям, заключил тем, чтобы считать его уволенным от должности директора; но потом, на основании данного министром юстиции (графом Паниным) предложения, изменил свою резолюцию и хотя по десяти статьям совсем отвергнул обвинения ревизоров, а по некоторым другим нашел их маловажными, однако, при общем соображении остальных, признал Дубенского виновным в бездействии власти, невнимании к государственным пользам и употреблении начальнического влияния для своекорыстных видов. Затем, приняв в основание к смягчению приговора недостаток средств бывшего управления столь обширным ведомством, исполненные и предположенные при Дубенском в последние годы улучшения и, наконец, пятидесятилетнюю службу, V-й департамент определил: считать его отрешенным от должности директора, о чем, равно как и о вине его, публиковать повсеместно печатными указами. Граф Панин, с своей стороны, внося это дело в Государственный Совет, прибавил, что, за силой такого приговора, он не считает уже приличным оставлять Дубенского и в звании сенатора.
Доклад V-го департамента поступил в Совет в половине марта; но огромность его (в нем было около 1500 страниц) не позволила изготовить дела к слушанию прежде половины мая. В этот промежуток времени последовало бракосочетание государя наследника, сопровождавшееся изданием милостивого Манифеста, которого влияние должно было простираться и на участь настоящего дела. В гражданском департаменте Совета стал на стражу интересов Дубенского один из немногих друзей его, Лонгинов, с которым согласились три другие члена: принц Петр Ольденбургский, Грейг и Оленин; но зато с тем большей запальчивостью вооружился против Дубенского Бутурлин, который оставался, однако же, один.
Между тем как обвинения ревизоров и V-го департамента или, лучше сказать, министра юстиции, которого мнение сенаторы приняли, были в наибольшей части статей слишком притязательны, чтобы согласиться с ними безусловно, даже и при явном недоброжелательстве к обвиняемому, то из числа 33 статей по 31-й состоялось в гражданском департаменте единогласное заключение, которым Дубенский или вполне оправдывался, или извинялся разными обстоятельствами, и разномыслие произошло только по двум статьям. Одна касалась того, что в представлении Комитету министров об отдаче в частную аренду Онежских лесопильных заводов было умолчано о возражениях против сей меры местного начальства, которые, может быть, дали бы другое направление делу, представлявшему важный казенный интерес. Бутурлин относил сие к вине Дубенского, а прочие четыре члена оправдывали его тем, что отдача заводов приказана была собственноручной резолюцией министра, следственно, Дубенскому как исполнителю нельзя было и представление Комитету изложить в ином смысле.
Другая статья была гораздо важнее. Дубенский скупил от разных лиц права на пожалованные им земли (более 180 тыс. десятин) и вобрал сии последние в таком участке Оренбургской губернии, который за восемь месяцев перед тем предписанием министра финансов за скрепою самого его, Дубенского, велено было оставить для казенных крестьян, с запрещением раздачи в частное владение. При предназначении сих земель Дубенскому некоторые смежные селения изъявили желание оставить их за собою; но ни это желание, ни последующие просьбы и жалобы крестьян не были уважены министерством. Наконец, в представлении министра Сенату об утверждении означенных земель за Дубенским сокрыты были как сии просьбы и жалобы, так и предшедшее запрещение раздавать тот участок в частные руки. Пятый департамент вывел из сего, и Бутурлин вполне с ним согласился, что в действии департамента государственных имуществ по выбору и отводу земель директору оного Дубенскому обнаруживается преступление пределов власти в своекорыстных видах, по которому Дубенский не может уже впредь иметь доверия в поручении ему какого либо государственного управления.
Но тут был и оборот медали. Дубенский имел осторожность совершенно устранить себя от управления департаментом по всему производству этого дела и всегда и везде являлся и действовал в нем как постороннее частное лицо; он подавал только просьбы, а все распоряжения исходили от министра за скрепою вице-директора (Эногольма). Следственно, по строгости, Дубенский мог в качестве частного лица просить и беззаконного, т. е. отвода ему таких земель, которые за 8 месяцев прежде, при участии его в качестве директора, запрещено было раздавать в частное владение, а дело уже министра или департамента было в том отказать, как равно и включить в представление Сенату те обстоятельства, которых пропуск вменен был после в вину, без всякого основания, самому Дубенскому. Выведя подробно все сии обстоятельства в своем мнении и присовокупив еще, что преступлением и проступком закон велит считать только то, что запрещено им под страхом наказания, а покупка прав на пожалованные земли нигде директору департамента имуществ не возбранена, четыре члена признали Дубенского по сей статье невинным. К этому мнению принц Ольденбургский приписал еще в черновом проекте собственноручно: «Хотя же Дубенскому и надлежало бы отклонить от себя малейшую даже тень подозрения; но за намерения он может подлежать одному суду совести и суду Божьему; суд же человеческий требует доказательств юридических, формальных, а Дубенским по сей статье все формы соблюдены».








