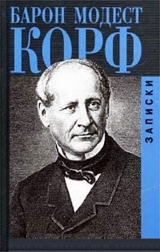
Текст книги "Записки"
Автор книги: Модест Корф
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 47 страниц)
Потом взял его к себе нынешний военный министр граф Чернышев, и тут в самое короткое время он умел сделать самую блистательную карьеру.
При тонком уме, живом воображении и хорошем пере он тотчас завладел Чернышевым, умел приобрести всю его доверенность и еще в средних чинах был употребляем ко всем важнейшим мерам и особенно ко всем новым предположениям по военному министерству, и потом, сопутствуя несколько раз государю в его путешествиях, сам объявлял уже высочайшие повеления графу Чернышеву. В 1834 году, когда я был перемещен в государственные секретари, он стоял уже на такой ступени, что вместе с директором канцелярии военного министерства Брискорном был предположен государем кандидатом на мое место в управляющие делами Комитета министров, но Чернышев решительно объявил, что не может обойтись ни без того, ни без другого, и тогда взяли Бахтина, служившего при князе Меншикове. Но когда, года через два после того, Бахтин был пожалован по месту своему в статс-секретари, то Чернышев потребовал этого же звания и для Брискорна и Позена, под благовидным предлогом, что оба они не получали места управляющего делами Комитета потому лишь, что были необходимы в настоящих должностях, и не должны от этого терпеть.
Ходатайство его было уважено государем, и Позен был тогда на апогее милости и силы.
Оставайся он при одной службе, и может быть, эта милость и сила сохранялись бы и росли по-прежнему; но он вздумал сделаться богатым – и этого завистливая толпа уже не вытерпела. Еще в меньшее время, чем ему нужно было для создания своей карьеры, он создал себе огромное состояние. По словам его – которые и мне кажутся правдоподобными, – ему посчастливились несколько смелых спекуляций, участие в золотых промыслах, в винных откупах и пр. Но многочисленные враги и завистники тотчас обратили обогащение его в сильнейшее против него орудие, приписали оное злонамеренному употреблению власти, нашли неприличие даже в тех его операциях, которые общее мнение дозволяет каждому и, не успев повредить репутации его ума и дарований, успели очернить его характер не только в глазах публики, но и самого государя, которого милость к нему с тех пор быстро уменьшилась.
Неудача при выборах не пройдет без вредных для него последствий, ибо услужливые люди не оставят разблаговестить это в городе и довести до сведения государя. Теперь он давно уже не сопровождает государя в путешествиях и вместе с милостью царской потерял почти и весь вес у Чернышева, который стольким ему обязан. Обеспечив свое состояние, Позен давно уже поговаривает об отставке: исполнит ли он это намерение, не знаю; но ясно, что блистательная его карьера кончилась и – при том гнусном свете, который набросили на него клевета и злословие, – не воссияет уже никогда солнце милости. Я с моей стороны считаю Позена – и по виденным не раз мной опытам – человеком добрым, благонамеренным и благородным.
25 февраля. Для разбора бумаг покойного графа Сперанского назначена комиссия из бывшего министра юстиции Дашкова, статс-секретаря Танеева и меня. Вчера мы приступили к делу вскрытием печатей и отделением всех тех бумаг, которые с первого взгляда оказались совершенно частными и принадлежащими в возврат семейству. Прочие, признанные нами «provisoirement» казенными, но из которых многие, вероятно, окажутся тоже частными, мы берем к себе для подробного разбора и описи. Жатва богатая, но однако не в той степени, как можно было заключать по слухам и даже по предварительному предположению государя.
1 марта. Все эти дни я занимался с большим напряжением разбором бумаг Сперанского: раскладывал, читал и – благоговел перед этим пером, этой бездной учености, этим необъятным трудолюбием, этим энциклопедическим умом! Чего тут нет, начиная от высших философических истин до самых крайних пределов мистицизма: история, религия, филология, классические и религиозные древности, законодательство в теории и практике, администрация, финансы – о всем тут есть не только материалы, не только отрывочные заметки, но и полные рассуждения и целые книги. И все это своей рукой и таким языком, каким никто никогда не писал у нас о подобных предметах. И как интересна частная его переписка с значительнейшими государственными людьми и учеными его века. И сколько в других бумагах любопытного материала для его биографии. Но настоящих мемуаров не нашлось: то, что я принял за них, оказалось кратким, к сожалению, слишком кратким дневником с 1821 по 1824 год включительно: почти одно оглавление.
10 марта. Я сказывал уже, что частная переписка Сперанского представляет большой и многосторонний интерес: это живая панорама дел и людей того времени, когда Сперанский был в отлучке, ибо по возвращении его сюда те письма, которые он получал из губерний, не имеют уже того общего интереса. Все это государь приказал возвратить семейству; но покамест оканчивается разбор других бумаг, письма остаются у меня. Не позволяя себе извлекать из них ничего, могущего нарушить священную письменную тайну, даже и за отдаленное время, я выпишу здесь только кое-что, относящееся не к поименованным лицам, а к людям вообще и к делам[270]270
Выписки расположены не в хронологическом порядке; но мы оставляем их так, как помещены они в дневнике М. А. Корфа. (Примечание «Русской Старины».)
[Закрыть].
От князя Кочубея 4 января 1821 года. «Быв некоторое время в отлучке и не находясь в столь непосредственных отношениях к делам, я не воображал себе, чтобы в сем (в улучшениях по внутреннему положению государства) была столь настоятельная необходимость.
Перемена во всем с 1812 года удивительная! Какое приняло направление публичное мнение! Какие требования или претензии! Но при том какой недостаток знаний и какая трудность искать людей, сколько-нибудь образованных.
Усердие мое томилось непрестанно. Нет никакой помощи. Извелись чиновники; правила забылись; одним словом, нет никакого удовольствия, а трудов бездна. По своему министерству (внутренних дел) сужу и о прочих, хотя, впрочем, министр финансов запасся людьми лучшими, делами части его управляющими. Но если бранят нередко всех министров и довольно непристойно, то нет уже никакой меры в запальчивости против министра юстиции. Может быть, Сенат ведет дела свои и не хуже, но сим недовольны: надобно, говорят, чтобы все шло лучше. Одним словом, труда высшему правительству предстоит премного».
Его же 3 апреля 1820 года. «Мне кажется, что всем нам должно думать не о том, как прежде лет за 50 было, но как сообразно направлению умов и веку расположиться должно, чтобы отвратить бедствия, коими более или менее все правительства угрожаемы быть могут. Я знаю, что мы менее других подвержены опасности; что мы можем даже делать и зло без вредных для правительства последствий; но однако же и у нас гораздо более ныне смеют требовать от правительства, гораздо более и гласнее смеют хулить его. И у нас здесь много болтают о конституции и пр. Молодых людей множество заражено полупонятиями о законодательстве и пр. Я не сомневаюсь, что все обойдется у нас хорошо; тем не менее однако желаю искренно, чтобы сделан был приступ к установлению лучшего во всех частях порядка».
Из того же письма. «По мере расположения сего (государя Александра к возвращению Сперанского) обращаются уже все желания наружные к возвращению вашему, к прочному вашему в делах водворению. Я вижу тех, кои самому мне утверждали, что вы не веруете в Христа и что все ваши распоряжения клонились к пагубе отечества и пр., утверждающих ныне, что правила ваши христианские переменились и что и понятия ваши даже о делах управления не суть прежние. Несчастие заставило вас размышлять и пр. Многие забегают ко мне спрашивать, будет ли М.М. сюда? Как вы думаете: надобно бы обратить старание к тому, чтобы его вызвали и пр. На все это ответ мой: не знаю, хорошо бы было и т. д.
Знаете ли вы: история ваша открыла мне новый свет в этом мире, но свет самый убийственный для чувств, сколько-нибудь нас возвышающих. Я до ссылки вашей жил как монастырка. Мне более или менее казалось, что люди говорят то, что чувствуют и думают; но тут я увидел, что они говорят сегодня одно, а завтра другое, и говорят не краснея и смотря вам в глаза, как бы ничего не бывало. Признаюсь, омерзение мое превышает меру и, при слабом здоровье моем, имеет, конечно, некоторое над оным влияние».
От князя А. Н. Голицына 22 апреля 1819 года. «Государь император, видя из ответа вашего к графу Аракчееву предположение ваше о мнении публики насчет вашего назначения, поручил мне вас удостоверить, что оное произвело вообще хорошее действие.
Иные приписывали отличной доверенности к вам поручение края, столь требующего всего внимания государя по многим отношениям; другие находили, что это назначение будет иметь для сибирских губерний самые благодетельные последствия. В рассуждении же просьбы вашей об отпуске, мало и знали о ней, ибо она прислана была от вас к графу Вязмитинову, а им доставлена прямо к его величеству».
О. П. Козодавлева 30 июня 1819 года. «Знаете ли вы, какая редкость при определении вас сибирским начальником случилась? Все были этим довольны; никто в том правительство не упрекал, оно попало на общее мнение…
Вы пишете, что в Сибири, ничего не читая, можно заржаветь. Это в Сибири так, как и везде. Здесь многие и весьма многие ржавчиной провоняли».
От самого Сперанского князю Кочубею 21 сентября 1818 года (когда он был еще Пензенским губернатором).
«При самом отправлении вашем из Петербурга в письмах к его величеству и особенно графу Аракчееву я просил суда и решения. Все опасности этого поступка я принимал на свой страх, а неприятелям своим предоставлял все способы поправить ошибку самым благовидным образом. На случай одной крайности присовокуплял я другое средство: службу. Из двух, однако же, именно выбрали худшее – и меня, ни оправданного, ни обвиненного, послали оправдываться и вместе управлять правыми и, чтобы довершить всю странность этого положения, то примкнули ко мне Магницкого, поставив таким образом мое поведение не только в связи, но и в зависимости от его порывов.
Один Бог сохранил меня от печальных предзнаменований, с коими появился я в губернии. По счастью и единственно по счастью, добрый смысл дворянства и особенно старинная связь моя с Столыпиными мало-помалу рассеяли все предубеждения.
Их советами и их сильной помощью я стал здесь помещиком и хотя вошел в долги, но зато примирился со всеми подозрениями и приобрел почти общую к себе привязанность. Между тем сношениями и делами мирился я и с Петербургом. Д.А. (Гурьев) один из первых ко мне обратился: по его ходатайству получил я продолжение аренды, некогда вами мне испрошенной, и земли в Саратове. Вообще по всем частям министерств я не встретил ничего, кроме приятного. Его величество сверх милостивого внимания ко всем моим представлениям по службе удостоил меня двумя благосклонными и совершенно в партикулярном и от службы не зависящем слоге рескриптами. В них нашел я и то драгоценное мне уверение, что государь не сомневается в искренности и преданности чувств моих.
Таким образом худое начало произвело добрые последствия…
Обращаясь лично к себе, я прошу и желаю одной милости, а именно, чтобы сделали меня сенатором и потом дали бы в общем и обыкновенном порядке чистую отставку. После этого я побывал бы на месяц или два в Петербурге единственно для того, чтобы заявить, что я более не ссыльный и что изгнание мое кончилось».
От него же к О. П. Козодавлеву 5 ноября 1818 года. «В положении моем трудно оградиться от наветов. К сему сделана уже привычка.
Привыкли, например, как слышу, и теперь еще продолжают судить о мне по известиям, из Симбирска привезенным. (Там был в то время Магницкий, удаленный вместе со Сперанским.) Но товарищ мой в несчастии никогда не был мне товарищем ни в образе мыслей, ни в поступках, и без большого самолюбия смею думать, что это слияние столько же само по себе странно, как и несправедливо».
14 марта. Вчера я обедал у очень достойного человека, полковника Ростовцева[271]271
Якова Ивановича, впоследствии графа.
[Закрыть], адъютанта великого князя Михаила Павловича и вместе начальника штаба военно-учебных заведений, весьма многим ему обязанных. Хотя Ростовцев женат, но обед был холостой. В нем участвовали статс-секретари Позен, Брискорн и Бахтин, начальник штаба артиллерийского князь Долгоруков, генерал-аудитор Ноинский, директор канцелярии министра финансов Княжевич. Ростовцеву приятели его заказали совершенно русский обед, который был очень недурен; но чтобы и вино шло в тот же тон, на бутылках с лучшими сортами французских вин вывешены были ярлыки: «сантуринское», «крымское» и пр., на водке «ерофеич», «пенник».
16 марта. Киселев (Павел Дмитриевич), который читал письмо Ермолова, сказывал мне, что в нем, между прочим, Ермолов изъявляет удивление свое «благости царя, уполномочивающего несколько избранных лиц в составе Совета разбирать и изъяснять существующие законы и составлять новые, предоставляя себе одно утверждение их мнения». Ответ ему сделан не через графа Бенкендорфа, а через военного министра, и довольно колко. Там сказано, между прочим, что государь выбрал его в члены Совета, имея в виду, что он долгое время управлял обширным и важным краем и предполагая поэтому в нем соединение сведений и опытности по всем частям администрации и законодательства; но как теперь он сам сознается, что не имеет нужных для этого звания способностей, то государь и предоставляет ему полную свободу – присутствовать или не присутствовать в Совете и пр.
20 марта. Граф Александр Иванович Чернышев (нынешний военный министр) – страшный охотник хвастать своими прежними воинскими подвигами и рассказывать их всякому, кто готов слушать, а слушателей, при теперешней его силе, разумеется, пропасть. Эту страсть он привил и жене своей (урожденной графине Зотовой), которая сделалась, таким образом, большой распространительницей военной славы своего супруга.
На днях был у них небольшой вечер. В одном углу граф играл в вист. В другом – графиня, в кругу усердных слушателей, трактовала любимую свою материю. Недалеко от них стоял князь Меншиков, столько же острый, сколько колкий и злоязычный. Вдруг графиня среди своего рассказа забыла имя города (Кассель), взятого ее мужем во французскую кампанию. «Вот князь Меншиков нас выручит: скажите нам название города, взятого Александром». – «Но ведь это Вавилон». – «Нет, это что-то другое».
29 марта. Вчера я обедал у М. В. Гурьева в довольно многочисленной компании, которую потешал своими рассказами генерал путей сообщения Дестрем, француз, столько же известный своим остроумием и ученостью, сколько, впрочем, и хвастливостью.
Вчера главный предмет его рассказов составляла ссылка в 1812 году. В числе многих французов, которые тогда удалены были из Петербурга без всякой другой причины, кроме общего подозрения в неприязни к России, находились и четыре воспитанника Парижской политехнической школы, перезванные на нашу службу и имевшие уже тогда у нас майорский чин: Дестрем, Базен, Потье и Фабр – люди, которые впоследствии все приобрели себе имя и общую известность на своем поприще. Они отправлены были сперва в Ярославль, а оттуда прямо в Иркутск, где и прожили два года восемь месяцев, под самым строгим надзором, с запрещением выходить из дому и принимать кого-нибудь к себе. Единственное утешение их было взаимное сообщество, потому что их заключили всех вместе, и занятие науками. Там же Дестрем выучился по-русски и теперь может поспорить в знании нашего языка со многими из нас. Тогдашний иркутский губернатор Трескин, которого Дестрем называет чудовищем (после он был за разные преступления под судом и разжалован), увеличивал еще их страдания самыми деспотическими и превосходившими даже его инструкцию притеснениями.
Наконец, когда они потеряли уже всякую надежду оставить в жизни своей Иркутск, им вдруг объявлена была свобода, с правом возвратиться к службе своей в Петербург. Эту сцену описывает Дестрем самым комическим образом. Городничий явился к ним рано утром с объявлением, что «принес им радостную весть». В ту минуту, как, читая принесенную им бумагу, они впали в немое оцепенение восторга и потом бросались друг другу на шею, – городничий с таинственным видом провозгласил, что имеет объявить им «еще другую радостную весть». В избытке своего счастья, они не могли вообразить себе такой вещи, которая могла бы еще его увеличить. Между тем эта радостная весть состояла в том, что «господин губернатор просит их к себе отобедать».
12 апреля. На счастье Блудова, ему даны отлично надежные помощники в министерстве юстиции. Через назначение Дегая статс-секретарем и Веймарна обер-прокурором I департамента Сената, в департаменте министерства юстиции открылись вакансии директора и вице-директора. Теперь помещены: на первую – обер-прокурор Данзас, а на последнюю – бывший в последнее время в министерстве государственных имуществ Пальчиков – оба люди умные, образованные, отличных правил, служившие долго в губерниях и приобретшие большую опытность, а что всего важнее, люди с твердым характером. Оба они учились в лицее и вышли через три года после меня (второй выпуск 1820 года), так что они не только теперь товарищи между собой по службе, но и бывшие товарищи по школе.
На днях князь Паскевич принимал меня с бумагами по-домашнему: на нем сперва фланелевая фуфайка, потом меховая и наконец, сверх всего, еще шелковый камзол на ватке, чем и оканчивается верхний туалет. Ноги его покоятся в огромном меховом мешке. И все это в комнате, где температура без того выше обыкновенной. Он говорит, что взял привычку к такой теплой одежде за Кавказом, где она предохраняет от внешней жары, а теперь продолжает употреблять ее в предосторожность от простуды. Адъютанты сказывали мне, что во всякую свободную минуту и по несколько раз в день он ложится на диван, и тогда покрывают его шубами, а к ногам прикладывают горячие кувшины.
Фамилия графов Виельгорских (или, как их у нас зовут, Велегурских) издавна очень приближена ко двору: сын одного из них воспитывался вместе с наследником[272]272
Почти в то самое время, как я писал эти строки, этот молодой человек умер в Риме.
[Закрыть], и вообще они пользуются самой особенной милостью как государя, так и императрицы. Один из них, Матвей, любимый еще более другого (Михаила), теперь в должности шталмейстера у великой княжны Марии Николаевны и вместе директором одного из департаментов министерства иностранных дел. Но как с наступающим браком великой княжны первая должность из синекуры обратится в действительную и притом довольно заботливую, то Виельгорский и принужден оставить последнюю. Граф Нессельрод, докладывая об этом государю, испрашивал Виельгорскому награду; но государь никак на это не хотел согласиться.
– Я слишком люблю Виельгорского, и потому подумают, что даю ему награду из пристрастия.
Несмотря на все убеждения Нессельрода и на отличное его засвидетельствование о службе Виельгорского, государь остался непреклонен.
– Пусть еще послужит и заслужит, – был его ответ.
Итак, Виельгорскому, за то что государь особенно к нему расположен, приходится пробыть еще несколько времени в обеих должностях. Вероятно, что государь отсрочивает его награду до свадьбы[273]273
И точно: в день брака он получил ленту Станислава. Но с тех пор и посыпались уже на него награды…
[Закрыть].
13 апреля. Сегодня первый несколько весенний день. На солнце 16°, а в тени и в воздухе есть уже что-то ароматическое. Лед на улицах, однако, не везде еще стаял, особенно на стороне к северу его очень много, а грязи еще более.
Умер еще один наш член, бывший андреевским кавалером, Иван Васильевич Тутолмин, человек добрый и почтенный. Он уже лет шесть или семь удалился совсем от дел и хотя числился еще в наших списках, но постоянно жил в Москве. Я состоял с ним некогда в ближайшем соотношении, потому что он был председателем комитета призрения заслуженных гражданских чиновников в то время, когда я числился уже его членом. Он умер в глубокой старости.
Наш старик Балугьянский был всегда – и совсем не по своей воле – человек чрезвычайно комический. Глухота его, неловкость, нелюдскость, совершенное отсутствие такта и какое-то простодушие, доходящее иногда до совершенного ребячества, тысячу раз давали повод к презабавным с ним анекдотам.
Вот опять самая свежая уморительная сцена. Эстляндское дворянство – по старинному обычаю своему в отношении к людям, которым хочет оказать особенную почесть или в которых имеет нужду, – причислило его в свое сословие и придало ему диплом на звание эстляндского дворянина, что очень польстило старику. На другой день после того является к нему эстляндский дворянин и ландрат Гринвальд, который ничего не знал о новом своем собрате. Можно себе представить удивление его и смущение, когда старик бежит к нему навстречу с распростертыми объятиями и вдруг, падая перед ним на колени, кричит: «Примите меня в рыцари!» Первая идея Гринвальда была, что он сошел с ума; вторая, что ему дана желанная Александровская лента. «Ваше превосходительство, наверно, назначены кавалером Александровского ордена?» – «Да, да», – отвечает ему глухой Балугьянский, слыша совсем другое, и вот Гринвальд, за отсутствием меча, дает ему легкий удар по плечу попавшеюся линейкой, – и только уже после этой церемонии, когда Балугьянский приветствовал Гринвальда «своим собратом», объяснилось обоюдное недоразумение.
3 июня. Мой Васильчиков большой охотник рассказывать анекдоты из военной своей жизни, которые не всегда равно занимательны, хотя карьера его, по общему свидетельству, была точно блистательна. Вчера мы говорили о предназначенных на нынешнюю осень маневрах при Бородино, и он рассказывал, что за Бородинское дело был пожалован в генерал-адъютанты, обойдя 30 человек, и что сверх того в этом же деле несколько раз чудесным образом спасена была его жизнь. Мать его, женщина набожная и богомольная, перед отправлением в поход 1812 года подарила ему прекрасную греческую саблю, на клинке которой был изображен лик Богоматери, с просьбой надевать ее во всяком деле.
– Но чудное дело, – прибавляет он, – до Бородинского сражения я совсем забыл об этой сабле, а тут только впервые надел ее, перекрестившись с молитвой за себя и за матушку. И что же: в этом деле убито было подо мною три лошади, меня задело в три приема и в трех местах осколками картечи, я был в двух шагах от плена, окруженный со всех сторон неприятелями, и Божия помощь меня вынесла; от самой же сабли остался один клинок с образом Богородицы: эфес отскочил или его оторвало, не знаю уже как, но он пропал.
8 июня. По случаю споров между калмыками Бузулуцкого уезда и занявшими часть их земель казенными крестьянами Сенат, до которого дошло это дело в 1836 году, предписал тех из крестьян, кои окажутся действительно уже поселившимися на калмыцких землях, оставить там без перевода на другие места.
Вследствие этого Оренбургский военный губернатор Перовский предположил оставить на калмыцких землях 41 семейство как прочно водворившихся, а остальные 108 семей (484 души) перевести в другие места. Но по представлению министра финансов (заведовавшего еще тогда государственными имуществами), основанному на присланной от казенной палаты подворной описи, Сенат, видя, что и эти крестьяне почти все обзавелись уже на калмыцких землях домами и хозяйством, в 1837 году пояснил, что к числу действительно поселившихся, о которых было упомянуто в первом его указе, не должно причислять только тех, которые не имеют еще хозяйственного обзаведения или живут в чужих домах, а всех прочих следует оставить на месте водворения.
Вопреки этому Перовский распорядился о своде с калмыцких земель всех означенных 108 семей; причем (как они показывают) разломаны в их домах печи, порезана дворовая птица и захвачены засеянные поля. Когда же крестьяне подали на это жалобу министру государственных имуществ и, известясь, что по оной производится переписка, опять было возвратились на прежние жилища, то Перовский снова велел их выслать.
Между тем, по упомянутым жалобам крестьян министр государственных имуществ требовал нужных объяснений и, увидя из донесения казенной палаты и из отзыва самого Перовского, что в числе высланных 108 семей у 99 были собственные жилища и разработанные земли, признал распоряжения военного губернатора несогласными с предписаниями Сената; почему и представил об отмене сих распоряжений и о возвращении означенных крестьян по-прежнему на занятые ими калмыцкие земли.
Сенат, согласно с заключением министра, вошел о том с всеподданнейшим докладом, который и поступил по порядку на рассмотрение Государственного Совета в начале нынешнего года в то самое время, когда был в гостях у нас и сам Перовский.
Теперь надобно сказать несколько слов о действующих лицах драмы, которая нас ожидала.
О подсудимом Перовском я имел уже случай говорить в моем дневнике. С неоспоримым умом, но без высшего образования, самовластный, он не любим в высшем кругу и едва ли более того любим в управляемом им крае.
Судьями его были члены департамента экономии, но с новым уже своим председателем, графом Левашовым, который, при самом начале своего председательства, показал если не высокие финансовые познания, то, по крайней мере, характер и самостоятельность. И тогда и теперь он один решает дела в своем департаменте.
Другой, также некоторым образом подсудимый, был министр государственных имуществ Киселев. Надлежало решить между ним и Перовским: виноват ли последний или первый в неправильном его обвинении? Всякое среднее решение, которое очистило бы обоих, было тут невозможно. Можно себе представить, как действовал в таком случае Киселев со всеми запасами его ума, ловкости, сметливости и блистательного положения в свете и у царя.
Затем под рукою мог действовать и действовал человек, хотя посторонний составу департамента экономии, но не посторонний делу, ибо он пропустил определение Сената, обвинившее Перовского. Я говорю о тогдашнем министре юстиции Дашкове. Личный враг Перовского, Дашков не мог молчать в таком деле, где и он разделял некоторым образом ответственность Киселева.
Департамент экономии не только утвердил доклад Сената, но и сделал еще такую добавку, чтобы «во внимание к убыткам, понесенным крестьянами как от неправильно допущенного двукратного их переселения, так и от притеснительных действий со стороны отряженных для их переселения чиновников, произведено было на законном основании исследование и по оному сделано крестьянам на счет виновных надлежащее за убытки их вознаграждение».
В общем собрании Совета это заключение прошло «par acclamation», без малейшей перемены.
Некоторые члены шептали даже что-то о выговоре Перовскому, но это было обойдено. Князь Васильчиков лично, со всех сторон настроенный, стоял горячо за решение департамента экономии. Я не помню дела, в котором бы он имел такое сильное убеждение.
Но и Перовский не дремал. Зная заключение Сената, узнав тотчас, как само собой разумеется, и заключение Совета, он предварил поднесение государю сенатской мемории представлением от себя обширной записки, в которой, изложив подробно все дело (со своей точки), описал побуждения и виды, которыми руководствовался в своих действиях, и уперся главнейше на том, с одной стороны, что и теперь считает неудобным и даже невозможным исполнить распоряжение Сената, а с другой, что возвращением крестьян на калмыцкие земли значило бы совсем уронить в общем мнении власть и образ действия местного начальника и поощрить как тех крестьян, так и всех других жителей, к самовольному упорству. Потому он просил, если бы действия его признаны были неправильными (в чем он, впрочем, отнюдь не сознавался), подвергнуть его какой угодно ответственности, но крестьян оставить там, куда он перевел их тому назад уже два года.
Последствием этой искусной эволюции было то, что меморию советскую государь остановил, а записку Перовского прислал, частным образом, к Васильчикову, с надписью, свидетельствовавшей, что она вполне убедила его в правоте Перовского и изъявлявшей надежду, что она таким же образом убедит и его, Васильчикова.
Что тут было делать? Уступить безусловно не позволяло Васильчикову его убеждение, честь Совета и интерес тех лиц, которые обвинили Перовского; спорить и идти прямо наперекор представлялось тоже неуместным, особенно потому, что в записке Перовского излагались разные новые обстоятельства и уважения, которых не было в виду ни Сената, ни Совета. И так после долгих совещаний мы решились на средний путь: Васильчиков послал государю докладную записку, в которой изъяснил, что хотя главный факт, именно неисполнение местным начальством сенатского указа, и после новых объяснений Перовского остается очевидным и неопровергаемым; однако же записка его содержит в себе разные подробности, которые, может быть, ближе пояснят предлежащий рассмотрению вопрос; что, во всяком случае, как его величеству благоугодно уже было удостоить изъяснения Перовского высочайшего внимания, то небесполезным представляется подвергнуть их совокупному с делом пересмотру; но что так как Государственный Совет по правилам своим никаких непосредственных сношений с губернскими начальствами не имеет, а Оренбургское казачье войско, к которому принадлежат и бузулуцкие калмыки, состоит в главном заведовании военного министерства, то всего удобнее было бы для возможного обеспечения правильности решения дела предоставить военному министру истребовать от Перовского подробное объяснение о причинах, побудивших его действовать вопреки указу Сената, и по сношении затем о сущности дела с министром государственных имуществ, внести в Государственный Совет окончательное к развязке этого заключение.
На этой записке государь написал своей рукой: «Будет совершенно правильно», вследствие чего князь Васильчиков объявил Совету соответственное тому высочайшее повеление, а я сообщил его для исполнения военному министру и для сведения министру юстиции.
Таким направлением дела присоединилось к числу действующих лиц еще новое: военный министр граф Чернышев.
Результатом всего этого было, что одним прекрасным утром вместо ожидаемого нами общего от графа Чернышева и графа Киселева представления в Совет, князь Васильчиков получил от первого бумагу, в которой сообщалось ему, что «государь император, рассмотрев с особенным вниманием вытребованные им, графом Чернышевым, по положению Государственного Совета, объяснения Перовского, поручить ему изволил уведомить князя, что его величество по зрелом обсуждении этого дела изволит находить, что рассмотренным в Государственном Совете решением общего собрания Сената очевидно было бы нарушено неоспоримое законное право собственности Оренбургского войска на занятые казенными крестьянами принадлежащие ему земли. В ограждение этого права, которое необходимо и во всех случаях должно быть неприкосновенным, его величество повелеть изволил: 1) оставить на землях калмыцких только те 41 семейство, которые военным губернатором признаны были прочно поселившимися, причислив их навсегда к казачьему войску; 2) остальных крестьян, уже выведенных, не переводя обратно, оставить в настоящем положении; 3) впредь воспретить строжайше казенных крестьян и вообще выходцев из внутренних губерний допускать к поселению на казачьих землях, иначе как по истребовании предварительного заключения военного губернатора и по испрошении высочайшего разрешения и 4) дело о переселении вышеупомянутых крестьян по всем местам, где оно производится, считать за этим решительно оконченным». Это отношение граф Чернышев заключил еще более неуместной и щекотливой для князя Васильчикова фразой: «Монаршую волю сию сообщая вам, милостивый государь, для зависящего распоряжения, имею честь быть и пр.».








