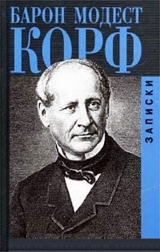
Текст книги "Записки"
Автор книги: Модест Корф
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 47 страниц)
– Я действовал против этого проекта по мере своих сил, – сказал он, – потому что видел в нем готовые элементы революции. И сообразите обстоятельства: в июле 1830 года произошла французская революция, в сентябре – бельгийская, в ноябре – варшавская; нам этот проект предложен был в предшествовавшем апреле; пока бы его обнародовали и он отозвался во всех частях широкой нашей России, прошло бы несколько месяцев, и наконец к исходу года мы тоже бы созрели к мятежу, как созрела после Франция, Бельгия и Польша. Князь Кочубей и Сперанский сперва крепко сетовали на меня за мою оппозицию, но потом, думаю, сами убедились, что она была не бесполезна.
Между разговорами о государственных наших установлениях великий князь сказал:
– Крепко ошибаются иностранцы в мыслях своих о России. Между тем как все народы Европы копаются в либеральных теориях, мы в полной мере пользуемся либерализмом в его практическом применении. Если нас жмут исправники, на которых есть суд, то тех жмут гораздо больше самовластные палаты, на которые нет расправы. Но где, скажите, есть такое муниципальное правление, как у нас? Где во всех степенях суда и полиции есть выборные от всех сословий? Где солдат, поступивший из моих крепостных людей, может через год сделаться мне равным и иметь сам крепостных людей? В Австрии графиню Бубна, жену знаменитого воина, администратора, писателя, не пускали во всю жизнь ко двору потому, что она была не дворянского происхождения, а муж при всех исторических своих заслугах не мог передать ей своего состояния!
Наконец между многим другим великий князь упомянул, сколько он благодарен за то, что посажен в Совет.
– Здесь только, – сказал он, – мог я познакомиться с людьми и с игрой страстей, – вещь, от которой без того всегда отдалило бы меня мое положение. Я тут узнал и цену людей.
Жаль, что в России мало знают великого князя и что часто сам он скрывает себя под каким-то покровом мелочей, особенно во всем, относящемся до военной службы.
5 апреля. Умер Дмитрий Львович Нарышкин, и занемог опасно наш граф Новосильцев; болезнь его еще в самом разгаре, и нельзя сказать ничего решительного. У нас по статс-секретарству новый товарищ князь Александр Федорович Голицын, состоявший долго при великом князе Константине Павловиче в особой милости, человек добрый, умный и образованный.
7 апреля. Графу Новосильцеву не лучше. Вопрос, кому исправлять его должность временно до решения большого вопроса о том, кто совсем заступит его место?
По общему порядку, в отсутствии председателя Совета или в его болезни, должность его занимает, если не последует особого назначения, старший из председателей департаментов. Теперь здесь налицо старший князь Варшавский, но только на несколько дней, а за ним следует граф Литта, к которому я и обратился.
10 апреля. Только три дня и сколько происшествий! С 7 числа вечера графу Новосильцеву гораздо сделалось хуже; по желанию семейства его исповедовали и причащали в полупамяти; 8-го утром посланному моему отвечали, что доктора произнесли уже смертный приговор и что он не переживет дня. В то же утро я был у графа Орлова и, по общему городскому слуху и разным намекам государя, мы заключили, что председателем будет Сперанский.
В 6 часов после обеда мне дали знать о кончине графа Новосильцева.
Мне хотелось, чтобы погребение председателя сделано было со всем приличием и вместе, чтобы Огаревы[264]264
Сенатор Огарев был женат на родной племяннице графа Новосильцева.
[Закрыть] не истратили на него последнее, что у них есть. Поэтому от государя я проехал прямо к министру финансов, больше за советом, что делать, чем с просьбой. Но граф Канкрин, с обыкновенным своим добродушием, пошел дальше меня и советовал, чтобы Огаревы обратились к нему письменно с просьбой о пособии, а он тотчас представит об этом государю. Но Огаревы на предложение мое решительно отказались: покойный во всю жизнь свою никогда ничего не просил, и потому они решаются лучше продать или заложить, что можно, чем просить о пособии после его смерти.
Сегодня я являлся уже в полной форме к новому моему председателю (графу Васильчикову), с которым, впрочем, состою уже семь лет в близких служебных отношениях, сперва в Комитете министров, а потом в Совете, где он до сих пор был председателем департамента законов. Он принял меня больше чем ласково, обнимал, просил моего содействия, изъявлял свою доверенность в самых лестных выражениях, которые в устах этого прямодушного и правдивого человека суть не комплименты, а истина.
– Я принял это место с тяжким сознанием своей малоспособности, – сказал он мне, – с уверенностью, что это бремя разрушит последние остатки моего слабого здоровья; но принял его по двум убеждениям: по ничтожностям, которые видел около себя в числе кандидатов, и потому, что вас буду иметь сотрудником. У обоих нас одна цель и одно желание: слава государя и польза России. Будем вместе трудиться и поддерживать друг друга на этом тяжком, но славном поприще.
Почтенный старец был растроган до слез. Умиление его сообщилось и мне. Характеристика его личности и его отношений к государю и к публике – когда-нибудь после при большем досуге.
11 апреля. Сегодня граф Васильчиков в первый раз председательствовал в Совете. Я встретил его в аванзале Совета в ленте, со всеми старшими чинами государственной канцелярии, и тут его приветствовал. Заседание по роду дел было незанимательное, и новому председателю не было случая показаться.
Я рассказывал сегодня графу Литте отзыв о нем государя. Он был в восторге и даже расцеловал меня, как будто бы тут было и какое-нибудь участие и с моей стороны.
– Но, дорогой барон, что я прошу у вас, как знак дружбы, это – рассказать об этом в городе.
И в восемьдесят четыре года это почти ребяческое тщеславие, эта просьба к человеку, который почти на пятьдесят лет его моложе и в котором он не может предполагать необходимой обязанности скрывать, что рассказывает он именно по его просьбе! Впрочем, я потешу старика.
– Верьте, впрочем, – продолжал он, – что не мое имя, не возраст вызвали мое назначение, но что это преимущественно моя религия; я католик, а католик в России по теперешнему времени хуже, чем еврей. Впрочем, совершенно правы: есть вопросы, в которых мое вероисповедание иногда поставило бы меня в оппозицию со всем Советом, я так как я не могу действовать против моей совести или против их истин, которые были моим утешением с детства, все это могло бы кончиться спорами вредными для дел и поэтому и народному благу. Я предпочитаю сохранить мое теперешнее место и давно уже отказался мечтать о титуле председателя Совета.
8 мая. Государыня отправилась в Берлин несколькими днями ранее государя, потому что в дороге ночует, а приехать туда они хотят вместе. С ней поехала одна великая княгиня Александра Николаевна, которой дедушка еще не знает. Сопровождают ее министр императорского двора князь Волконский, граф Бенкендорф, доктор Арендт и фрейлины – графиня Тизенгаузен и Нелидова. Первый едет вперед и съезжается с ними только на ночлегах. С государем поехал наследник; при них: генерал-адъютанты граф Орлов, Адлерберг и Кавелин; флигель-адъютант князь Долгоруков; наставник наследника Жуковский; камергер Толстой и три товарища наследника по воспитанию, гвардейские офицеры: граф Виельгорский, Адлерберг и Паткуль. Прежде всех отправились два младших великих князя: Николай и Михаил, которых Прусский король тоже еще не знает. При них генерал Философов.
Примечательно, что государь уехал в ночь со 2 на 3 мая, а до сих нет еще ни слова об его отъезде ни в одной из наших газет: вероятно, оттого, что без него и без графа Бенкендорфа некому разрешить печатание. Если следовать одним газетам, то мы из прусских узнаем о его приезде в Берлин прежде, чем из наших об его отъезде. Нет, конечно, ничего скучнее, как переписывать газеты, а между тем надо согласиться с тем, что выборка из них составила бы одну из любопытнейших частей современных записок, когда через десятки, через сотни лет все эти газеты исчезнут и все их подробности перейдут в область истории. Теперь во всех них только и речи, что о прибытии нашего царя с его семьей в Берлин, о тамошних праздниках, маневрах и проч.
Государь совершил свой переезд с быстротой почти баснословной. Выехав отсюда в ночь с понедельника на вторник, он в субботу в 6-м часу после обеда был уже на месте. Ему нет надобности и в железных дорогах!
31 мая. Вчера в ночь с 29 на 30 мая мы лишились опять члена, действительного тайного советника Родофиникина, едва только вступившего в Совет, свежего, крепкого, щеголявшего всегда своими силами и здоровьем, 74-летнего старика, который при этих летах был пободрее нас, молодых. Еще в четверг он был в Совете, еще в воскресенье гулял в Летнем саду, а в ночь с воскресенья на понедельник его уже не стало, от аневризма или какой-то подобной болезни в сердце. За отъездом графа Нессельроде в чужие края он управлял теперь временно министерством иностранных дел, где от внезапной его смерти сделалась страшная суматоха: при отсутствии государя они не знают, как им быть, и не нашлось ничего иного, как вступить в управление министерством его Совету впредь до повеления. Родофиникин во всех отношениях был примечательный человек: родом грек, неизвестного происхождения, пришлец в Россию, он сперва служил в военной службе, а потом одним умом успел достигнуть постепенно настоящих высоких званий. Сделавшись правою рукою графа Нессельроде, особенно по всем сношениям с востоком, он долгое время управлял Азиатским департаментом, и, конечно, во всей России нет человека, который бы так подробно знал Азию со всеми ее большими владыками и маленькими князьками. Ловкий, тонкий, необыкновенно приятный в обществе, услужливый, приветливый, вежливый со всеми без низости, он был любим почти всеми, кто его знал, и хотя некоторые почитали его пронырливым интриганом, но никто не умел представить на это доказательств; у него остался один только законный сын от давнишнего брака, который служит в Грузии. Между тем, когда теперь пришлось его хоронить, то должно было принять это на себя министерство, потому что, кроме дальних и незначащих свойственников, никого здесь нет.
Поездки по Царскосельской железной дороге идут с блистательным, превзошедшим всякие надежды и расчеты успехом. На днях открыта и дорога из Царского в Павловское, где выстроен на счета общества вокзал – чудо вкуса и великолепия. В последнюю неделю с одного воскресенья до другого включительно собрано около 50 000 руб. серебром, и в том числе в одно последнее воскресенье 12 880 руб.! И все это в погоду, хотя и ясную, но совсем еще не настоящую летнюю.
Несмотря на довольно дорогие цены, едут люди всех классов, разумеется, больше из любопытства, чем по действительной потребности. И beau monde наш пока совсем еще не устраняет себя от этого удовольствия. Только малое число трусливых староверов предпочитает еще тихую езду по пыльному шоссе.
– Раз, два, счастливо; а потом и быть какой-нибудь беде; так лучше кататься по-старому: хоть тише, да безопаснее, – говорят они.
Это я слышал вчера между прочим от князя Голицына и Сперанского, которые теперь часто ездят между Царским и Петербургом; один к царским детям, а другой к своей дочери. Но и их мало кто слушает, и доказательство, что в последнее воскресенье недостало в Царском, под конец дня, ни шампанского, ни хлеба, не говоря уже о прочем.
3 июня. Сегодня были в Невском похороны Родофиникина, менее великолепные по наружности, нежели похороны графа Новосильцева, но более оживленные сочувствием. Хоть у нас не принято, чтобы дамы были на похоронах мужчин, когда в остающемся и присутствующем при церемонии семействе нет женского пола, однако тут была графиня Нессельроде.
Примечательно, что покойный при всем отменном уме своем и совершенно европейской образованности был очень суеверен. Когда-то, лет сорок тому назад, бродячая цыганка предсказала ему всю его будущность, и он часто любил повторять, что все ее предсказания сбылись слово в слово. Между прочим она прорицала ему, что он получит много лент и будет жить и здравствовать, пока они будут с левого плеча; но как скоро получит он затем ленту накрест, т. е. с правого плеча, то это будет предзнаменованием близкой его смерти. В конце прошлого года ему дали Владимирскую ленту, которая носится именно с правого плеча, и я сам помню, как он тогда всем это рассказывал, прибавляя в шутку, что желал бы лучше не получать никакой награды. В прошлый четверг был еще совсем здоровый в Совете; когда, при начале заседания, сели члены за присутственный стол, он сосчитал, что всех их ровно 13 и тотчас шепнул своему соседу (А. С. Лавинскому), что, видно, кому-нибудь из них на днях умереть, – и через три дня его уже не стало.
4 июня. Предчувствие наше сбылось: мы знали, что маневры в Берлине кончились после 20 мая; что маневры в Варшаве должны были начаться 15 июня. По всему этому догадывались, что государь едва ли вынесет так долго скуку непривычного бездействия и, верно, воспользуется свободным до 15 июня временем, чтобы посмотреть на нас и на оставшуюся здесь часть своего семейства. Так и случилось. В ночь с 25 на 26 число государь вместе с наследником и с обоими младшими своими сыновьями выехал из Берлина в Штеттин, оттуда 26-го поехал с ними на пароходе в Стокгольм, куда прибыл совершенным сюрпризом для старика-короля, и наконец 3 июня утром в 10 часов воротился к нам в Петергоф.
8 июня. Насчет свидания этого с королем шведским ходят у нас два сказания. По одному, государь вошел к королю в свите наследника, и когда наследник, представив всех его сопровождавших, обошел государя, то король с удивлением спросил, отчего не представляют ему этого величественного казацкого генерала (государь был в казачьем мундире), которого он не знает. Тогда государь, выступив сам вперед, сказал: «Государь, это отец молодого человека, которого вы приняли так дружелюбно».
Но по другому сказанию, если менее поэтическому, то, по крайней мере, достовернейшему, потому что мне передал его очевидец (полковник Дюгамель), государь с наследником вошли к королю точно вместе, но государь представил себя тотчас сам словами: «Государь, вы ожидали сына, а приехал отец». Во всяком случае, это посещение было самым неожиданным сюрпризом для короля, и он поражен был до слез: «Это посещение навсегда укрепит мою династию на шведском престоле», – повторял он потом много раз. Не сказать ли после этого, что государь наш первый дипломат в мире и что это минутное свидание сильнее всех возможных мирных трактатов.
11 июня. Генерал Ермолов – эта знаменитая и, конечно, всех более популярная репутация в России, исчезнув давно уже с политического поприща, нынче вздумал опять явиться вдруг ко двору и присутствовать несколько месяцев в Совете. Каким образом это сделалось, не знаю, но едва ли доброй волей; по крайней мере, он едет уже опять на днях в бессрочный отпуск в свою подмосковную и сказывал мне, что нарочно избегает прощаться с государем, чтобы не подпасть под затруднительный вопрос: «Когда он думает воротиться опять в Петербург?»
«Я чувствую, – говорил он мне, – что я здесь совсем лишний человек: ко двору не гожусь, а в Совете совсем бесполезен; и я говорю это не для того, чтобы вымолить комплимент. Я отжил свой век».
Действительно, в Совете он совсем почти не говорит и большую часть времени дремлет. Не берусь судить о других достоинствах потому, что не довольно коротко его знаю, и могу только отдать справедливость его чрезвычайному дару слова в рассказах и вообще в разговорах. В прочих отношениях он для меня совершенная загадка, но едва ли он в уровень со своей репутацией. На днях я слышал от него испытанный им над самим собою примечательный опыт врачующей силы гомеопатии.
Он от рождения лишен был обоняния – по крайней мере, до известной очень сильной степени: «Запахи известны мне были, – рассказывает он, – только по крепчайшим экстрактам; таким образом я мог различить розовое масло от экстракта резеды, но не знал ни запаха розы, ни запаха резеды в естественном их положении; тухлую говядину, от которой все бежали из комнаты, я ел за свежую. В прошлую зиму в Москве я стал лечиться гомеопатически у очень искусного врача, и вдруг родилось для меня новое чувство, чувство самого тонкого обоняния, так что теперь я слышу, если в другой комнате поставлен горшок с цветами».
15 июня. Настали наши вакации, а с ними наш отъезд, на первый раз в Киев, а потом куда Бог даст, может быть, и далее на юг. Я еду с женой и с сестрой и с обоими нашими птенцами, разоряться, подышать другим воздухом, посмотреть на нашу Русь святую. Сейчас отслужим молебен, чтобы испросить благословение свыше на дальний путь.
13 числа я обедал еще у председателя на прощанье, и потом мы подписали полугодовой отчет наш государю: дел за Советом не осталось ни одного; за справками и проч. – только восемь; отчет блистательный, особенно после непомерного множества и относительной важности бывших у нас в это полугодие дел.
У председателя обедал опять партизан-поэт Давыдов, столько же любезный в обществе, сколько острый и умный с пером в руке. Он рассказывал между прочим множество анекдотов о славном Платове, один другого забавнее. Теперь, за уборкой и хлопотами дорожных приготовлений, мне, к сожалению, некогда их уже записывать; но один всех смешнее. Платов обедал с Карамзиными; после обеда, когда первый, по обыкновению, был уже совсем навеселе, последний вздумал спрашивать его об успехах просвещения в Донском войске.
– Я, батюшка, – отвечал Платов, – об этом много не хлопочу, потому что терпеть не могу ученых: они все или канальи, или пьяницы.
Надобно заметить, что это говорил подгулявший Платов ученому Карамзину.
18 сентября. Вот я опять дома, опять в кругу своих, в том Петербурге, который мне иногда так надоедает, когда я в нем и в который опять так хочется назад, когда из него выедешь.
20 сентября. Смерть князя Лобанова-Ростовского возбудила во мне разные воспоминания из времен первой молодости. При вступлении моем после выпуска из Лицея в 1817 году в министерство юстиции, министром был еще Трощинский, но он в том же году сменен князем Лобановым. Я дежурил при нем в числе прочих младших чиновников департамента по разу в неделю и более. Дежурство это состояло в том, что мы часу в 8-м являлись к нему в парадных мундирах, докладывали о приезжающих, подавали ему получаемые бумаги и печатали конверты. Потом дежурный обедал всегда за его столом, а вечером он отпускал нас часу в 8-м или 9-м. Можно представить, что все это бывало не очень забавно и что при механической работе печатания и докладывания князю трудно было ему ознакомиться с нашими способностями, тем больше, что за обедом, хотя мы и сидим вместе, но дежурный должен был хранить самое глубокое и святое молчание, и князь никогда не обращал к нему ни одного слова. При всем том он как-то меня полюбил и отличал несколько от других.
Между прочим, ему вздумалось поручить мне привести в порядок его библиотеку и составить ей систематический реестр. Я обрадовался этому поручению, надеясь, что оно надолго освободит меня от скучного переписывания набело бумаг в департаменте, – все, чем тогда меня занимали. Но не тут-то было! Вся библиотека его сиятельства оказалась одним небольшим шкафом с сотнями тремя книг, большей частью таких, которые поднесены ему были от авторов или переводчиков, и моя работа, сколько ни старался я ее протянуть, продолжилась не более трех дней.
Между тем, в это время образовалась новая канцелярия при министре, и все мое честолюбие устремлено было к тому, чтобы занять в ней место переводчика – как нечто уже самостоятельное после писарских моих обязанностей. Кандидатов было много, и некоторым, в том числе и мне, задали пробные работы. Мне пришлось перевести какую-то преогромную тетрадь по провиантской части с немецкого на русский язык, и, незнакомый с техническими терминами ни на том, ни на другом языке, тем меньше знакомый с предметом и сущностью дела, – всего 17-ти лет от роду, едва вышед из школы, я, вероятно, Бог знает что такое напутал. По крайней мере, помню как теперь, что «Grutze» – «крупу», я везде переводил без справки с лексиконом как вещь обыкновенную «кашею»; помню по неистощимым насмешкам, к которым подали повод эти «кули и пуды каши» моим служебным товарищам, между которыми я слыл, по тогдашнему выражению, «ученым», что в их понятиях составляло почти синоним с «бестолковым и негодным на службу».
Несмотря на то, перевод мой – по протекции барона Бюллера – оказался лучшим, и я получил желанное место, на котором от безделья чуть было не погиб для службы.
Но навык к занятиям, не погасший еще во мне от Лицея, и добрые советы тогдашнего близкого приятеля нашего семейства Отто Виттенгейма внушили мне мысль заняться чем-нибудь хоть не совсем служебным, то, по крайней мере, близким к обязанностям моей должности. Я перевел с латинского языка на русский курляндские статуты, закон, и теперь еще действующий, но который приводился тогда по делам в Сенате в разных негодных переводах, деланных местными переводчиками по частям.
Эта работа по связи со школьными моими занятиями была мне больше по плечу, нежели «провиантская каша», и я убил ею, как говорят немцы, сразу двух мух. Один экземпляр я поднес князю, и как перевод, по рассмотрении в тогдашней комиссии составления законов, оказался соответственным своей цели, то его велено употреблять в Сенате, а мне, 18-ти лет от роду, дали Анну третьей степени. Другой экземпляр я представил курляндскому дворянству, и оно прислало мне табакерку с вензелевым изображением своего шифра. Сверх того, за эту работу я был причислен к комиссии составления законов, и отсюда началась настоящая моя служебная школа. Но с князем Лобановым я все еще не расставался, продолжая числиться по-прежнему у него переводчиком. От него же я в начале 1820 года был командирован с сенаторами на ревизию Подольской губернии и Бессарабской области и по его же представлениям пожалован в 1821 году орденом Владимира 4-й степени, а в 1823 году – камер-юнкером. Окончательно расстались мы уже в мае 1823 года, когда я был назначен начальником отделения в департамент податей и сборов. Сперва за эту перемену службы, столько во всех отношениях для меня выгодную, он крепко на меня сердился, но потом, с переменой обстоятельств и с постепенным моим возвышением, этот гнев прошел и, наконец, по назначении меня в Государственный Совет, которого членом он оставался до самой своей кончины, мы жили лучшими друзьями.
24 сентября. Вчера возвратился из деревни наш председатель: свежий и румяный, как обыкновенно после летнего отдыха, с ретивостью к делу и желаниями всего лучшего. При всем том он горюет о том, что пролетели часы отдохновения и праздности и что надобно опять приниматься за работу. «Приехав назад в город, – сказал он мне, – я совершенно вспомнил на опыте те чувства, которые бывали у меня в ребячестве, когда в воскресенье вечером приходилось ворочаться из родительского дома в пенсион».
Вчера я виделся также с многими из членов Государственного Совета и, между прочим, с М. М. Сперанским, который купил себе славный дом на Сергиевской улице за 240 000 руб. Эти деньги или, лучше сказать, весь дом достались ему даром. Дом у прежнего владельца заложен был в банке в 140 000 руб., но где взять остальную сумму? М.М. выпросил у государя, чтобы вместо банка дом заложить на тридцатисемилетних правилах в государственном казначействе с выдачей под оный всей суммы по купчей крепости, т. е. 240 000 руб. Таким образом, он имеет теперь собственный дом и платит за него в казну в продолжение 37 лет по 15 000 руб. ежегодно, тогда как прежде платил за наем квартиры в чужом доме по 14 000 руб.
30 сентября. Новый наш министр государственных имуществ Киселев в нынешнем году совершил большое путешествие по России, чтобы постепенно ознакомиться и с бытом и потребностями казенных крестьян, и с другими частями вверенного ему многосложного управления. На днях мы делились взаимными нашими наблюдениями и впечатлениями, и посреди многого существенного он рассказывал мне и множество забавных анекдотов. Некогда мне их здесь записывать, но один особенно хорош, это посещение чувашей в Пермской губернии земской полицией.
Когда в чувашском селении сделается известно, что едет земский суд, все селение с женами, детьми и имуществом тотчас выбирается в какой-нибудь глухой и отдаленный лес, как от нашествия неприятеля. Оттуда они высылают своих парламентеров для соглашения с судом о сумме, за которую он выедет из селения. Тут происходит формальный торг: суд требует столько-то; чуваши дают столько-то. Наконец, ударив по рукам, суд выезжает с одного конца селения, а чуваши возвращаются восвояси с другого.
Взамен, однако, и я попотчевал Киселева несколькими не менее драгоценными анекдотами. К одному вновь определенному губернатору является откупщик с ходатайством о его милости и с предложением в благодарность по 10 коп. от ведра, причем клянется всеми святыми, что это останется между ними совершенной тайной и что он натурально никому не расскажет.
– Нет, братец, – отвечал губернатор, – давай-ка по 20 коп. от ведра и рассказывай себе, пожалуй, кому хочешь.
28 октября. В пятницу, 21 октября, М. М. Сперанский почувствовал себя не совсем здоровым, но, несмотря на то, в субботу тотчас после обеда отправился в Царское Село, где в тот же вечер сидел в театре и пробыл во дворце до второго часа, после чего еще целый час дожидал в холодных сенях кареты. Чувствуя уже довольно сильный лихорадочный озноб, он, при всем том, на другой день был еще у обедни и обедал во дворце. Все это вместе увеличило его простуду, и на другой день он слег в постель в сильных лихорадочных припадках, а с четверга, 27-го, открылось у него воспаление в боку. Вчера, в этот самый четверг, выпустили ему утром две чашки крови и вечером приставили 15 пиявок, а сегодня возобновили опять кровопускание рожками. Лечит его, в качестве главного врача, неизбежный Арендт, и сверх того день и ночь дежурит один врач Маргулец. Со вчерашнего дня выходят и бюллетени по два раза в день, которые отправляются в Царское Село к государю. Нельзя еще сказать, чтобы не было надежды, но опасность велика: ему 68-й год, и от такой болезни редко выздоравливают и молодые люди, или, по крайней мере, выздоравливают очень медленно.
Вчера по случаю этой болезни была у нас большая конференция с графом Васильчиковым. Оба мы чувствуем по полной мере неизмеримую потерю, которой грозит России смерть Сперанского. С огромными сведениями по всем частям, с гениальным и быстрым умом, с живым воображением, с пером, какого нет у нас еще другого, этот человек, сын простого сельского священника, проложил себе путь от низших ступеней гражданского общества к высшим его вершинам; был всесильным любимцем Александра, временщиком в полной силе слова, потом испил горькую чашу немилости и падения и, наконец, умел опять воспрянуть и вознестись выше прежнего.
Четыре вещи несомненно ставят его в ряд первых исторических лиц России и вообще его времени: учреждение Государственного Совета, учреждение министерств, преобразование делового нашего языка и – выше всего – Свод законов. Сперанский будет оценен в надлежащей мере только по смерти, когда начнется для него потомство и угаснут зависть и личности. При всем изнеможении от преклонных лет и частых недугов, дух его в последнее время был так же бодр и объемлющ, как и прежде. С ним угаснет предпоследний гений в России, – говорю предпоследний, потому что мы имеем еще Канкрина, тоже не вполне оцененного, но стоящего выше других, как гора над равниной. Где соперники этих двух орлов, кто из завистников и насмешников их, старых и молодых, поравняется с их полетом?
Работав с Сперанским с 1825 по 1831 год почти ежедневно, возобновив с ним самые тесные сношения после назначения меня в должность государственного секретаря, я мог вполне и непрерывно следить за энциклопедическим его умом; но при всем том нисколько не увлекаюсь никаким предубеждением или пристрастием в его пользу, и доказательство: отдавая полную высокую справедливость его уму, я никак не могу сказать того же о его сердце. Я разумею здесь не частную жизнь, в которой можно его назвать истинно добрым человеком, ни даже суждения по делам, в которых он тоже склонен был всегда к добру и человеколюбию, но то, что называю сердцем в государственном или политическом отношении, – характер, прямодушие, правоту, непоколебимость в избранных однажды правилах.
Сперанский не имел (я говорю уже, к сожалению, как о былом и прошедшем) ни характера, ни политической, ни даже частной правоты. Участник и даже, может быть, один из возбудителей – по тогдашнему направлению умов – филантропических мечтаний Александра, Сперанский был в то время либералом, потому что видел в этом личную свою пользу, а когда минул век либерализма, то перешел, в тех же побуждениях, к совершенно противоположной системе. Он был либералом, пока ему приказано было быть либералом, и сделался ультра, когда ему приказали быть ультра. И поэтому я убежден, что Сперанский никогда не мог быть человеком опасным, сколько ни старались в том уверять его ненавистники и люди недальновидные. Чтобы быть опасным, надобно иметь характер и твердую волю, а Сперанский всегда искал более милости, чем славы.
С другой стороны, обещания ему ничего не стоили, точно так же, как комплименты или ласки; но весьма прост был тот, кто им доверял или кто строил на этом шатком основании. Обворожительное обхождение привлекало ему с первого разу все сердца; но когда постепенно открывалось, что оно было «всем общее, как чаша круговая», что под оболочкой этих гладких слов не заключалось ничего существенного, что это был один обман ловкого и приветливого ума, безо всякого участия сердца, – то естественно, что следовало охлаждение. Я не думаю, чтобы Сперанский имел хоть одного истинного друга и чтобы был на свете хоть один человек, которого бы он искренно любил. Политику и холод деловой жизни он переносил и в свой кабинет, где продолжал постоянно играть роль умного хитреца, даже в самых тех беседах, где – по-видимому для не знавших его близко – не могло не принимать какого-нибудь участия сердце. Скольких людей обманул он льстивыми своими обещаниями и ласковым приемом, благодетельствуя истинно только тем, которые нужны были для его видов или когда самые эти благодеяния входили в его виды.
Многое бы мог я сказать еще о нем и хорошего и дурного, быв ежедневным и наблюдательным свидетелем его действий; но теперь, когда он еще между нами, как-то рука не поднимается. Память всего добра, которое я лично испытал от него, память всего добра, которое он делал России, память лучшего и хорошего изглаживает во мне в эту минуту память дурного, и я горячо желаю облегчения его страданий, хотя он, конечно, пропал уже для России даже в случае выздоровления.








