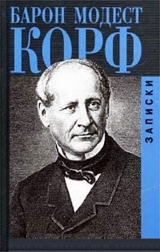
Текст книги "Записки"
Автор книги: Модест Корф
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 47 страниц)
* * *
В числе множества рассказов, ходивших в это время по городу, было и несколько очень забавных, если не совсем правдивых, то ловко придуманных… Так, например, приводили следующее истолкование нашими солдатами значения слова и смысла тогдашней французской республики. «Государь наш, – говорили они, – дал французскому королю денег взаймы. Наступил срок уплаты, король не платит. Нечего делать, государь пишет, пишет, а все толку нет; вот напоследок он и велел написать французскому народу, что, дескать, ваш король занял у меня деньги, и срок прошел, а уплаты все нет, заставьте же его. И народ рассудил, что государь требует дело, и приступил к своему королю: заплати да заплати, а король взял да и убежал с деньгами. Вот народ и рассердился, что король его такой неверный в своем деле; потолковали промеж себя и положили распубликовать его по всей земле, сделали республику…»
Недурна также была карикатура, которая, уверяли, продавалась тайком в лавках, хотя, разумеется, нигде нельзя было ее купить. Представлены три бутылки: одна с шампанским; пробка вылетела и в искристом фонтане вышибает из бутылки корону, трон, конституцию, короля, принцев, министров и проч. Это Франция. Другая с черным густым пивом; из мутной влаги выжимаются короли, грос-герцоги, герцоги и т. п. Это Германия. Наконец третья бутылка с русским ценником. На этой пробка, обтянутая крепкой бечевкой, и на ней казенная печать с орлом. Не нужно прибавлять, что это – Россия.
* * *
19 марта, в годовщину занятия нашей армией Парижа в 1814 году, выступили из Петербурга к западной границе, на случай возможной войны, первые войска: Гвардейский и Атаманский наследника цесаревича казачьи полки[183]183
Император Александр II исправил: «дивизионы Гвардейского и Атаманского наследника цесаревича казачьих полков».
[Закрыть].
Они были выстроены на площади у Александровской колонны. Ровно в час государь со своими сыновьями и многочисленной свитой объехал их ряды, после чего полки[184]184
Император Александр II исправил: «дивизионы».
[Закрыть], предводительствуемые своим наказным атаманом, наследником цесаревичем, прошли перед государем и перед императрицей, сидевшей в коляске с августейшей невестой. Еще до того государь вызвал перед себя из фронта всех офицеров и сказал им несколько прощальных слов. Площадь была усеяна многими тысячами народа, и полиция распоряжалась чрезвычайно либерально, так что государь стоял почти посреди толпы. И вдруг эти дивные казаки двинулись мимо него, при безмолвии всех окружавших, с русскими заунывно-удалыми песнями, и весь народ, сняв шапки, начал креститься русским широким крестом.
По мере того, как один взвод подвигался за другим, государь кричал каждому: «Прощайте, ребята», – и люди отвечали: «Счастливо оставаться вашему величеству», – а народ все крестился. Минута была торжественная и многознаменательная. Эта чудная рать, идущая на бой с песнями, эта православная Русь, одна на всем пространстве Европы верная, неподвижная, чуждая и делом и помыслом смятениям Запада, знаменующаяся крестом на спасение своих собратий; весеннее солнце, обливающее своими лучами великолепную картину[185]185
В этот день, вспомним, 19 марта, было 10 тепла в тени.
[Закрыть]; наконец, величественная, почти исполинская фигура императора Николая, который один высился над развалинами монархизма, один, недоступный страху и верный призванию совести и долга, господствовал, как несокрушимая скала, над взволнованным морем Европы, – нельзя и незачем было удерживаться от слез! Когда войско прошло и государь повернул ко дворцу, вслед ему загремело единодушное «ура!» многотысячной толпы – явление очень обыкновенное в Москве и чрезвычайно редкое в дисциплинированном Петербурге.
В тот же день был обычный концерт в пользу инвалидов, на котором присутствовала вся императорская фамилия. В то время, как в чужих краях раздавались одни звуки «Марсельезы», у нас четыре раза заставили повторить «Боже, царя храни» при восторженных криках публики. Эти изъявления не могли не быть отрадны сердцу государя в той горестной тревоге, которая, без сомнения, так часто помрачала тогда его думы, хотя он нисколько ее не обнаруживал. Вообще, поведение и его и всей царской семьи в эту эпоху являлось истинно геройским. При уверенности в массе народа, трудно было ручаться за каждое отдельное лицо и, при всем том, не только не было усилено никаких внешних мер предосторожности, караулов и проч., не только позволялось свободно, как всегда, входить во дворец и расхаживать по его залам, но и сам государь всякий день совершенно один прохаживался пешком по улицам, наследник также, а царственные дамы катались по целым часам в открытых экипажах. Разумеется, впрочем, что это не ослабляло и не должно было ослаблять тайных мер надзора. Осматривая ежедневно во дворце собранных на службу бессрочных отпускных, государь при одном таком смотре вызвал вдруг из фронта одного солдата по имени и стал упрекать его в каких-то дерзких речах, которые тот накануне позволил себе в кабаке.
– Если б я выдал тебя, – прибавил он, – товарищи сейчас разорвали бы тебя в куски. Но я поступлю иначе и дам тебе средства обмыть твою вину кровью. При первом деле тебя выставят в первый огонь. Помни же эту милость!
* * *
Занятия мои с великим князем Константином Николаевичем окончились 30 марта. На всеподданнейшем донесении моем о том государь благоволил надписать: «Душевно благодарю за сие новое доказательство вашей ко мне привязанности». Сверх того, я удостоился получить золотую табакерку с осыпанным бриллиантами портретом его величества[186]186
Сам великий князь почтил меня превосходным акварельным своим портретом, писанным с натуры живописцем Гау.
[Закрыть].
Об этих обстоятельствах, хотя и относящихся более до моего лица, упоминаю здесь потому, что они показывают, каким искусством обладал император Николай в выборе наград по характеру заслуг. Приобщив меня к отеческой заботе своего сердца, он наградил именно тем, что знаменовало внутреннюю, так сказать, домашнюю услугу, а милостивая его надпись на моем донесении не могла не осчастливить верного подданного выше всякой меры.
* * *
Среди жгучей тревоги, вдруг овладевшей всеми нами вследствие парижских вестей, нельзя было не обратить внимания на нашу журналистику, в особенности же на два журнала – «Отечественные Записки» и «Современник». Оба, пользуясь малоразумием тогдашней цензуры, позволяли себе печатать Бог знает что, и по проведуемым ими под разными иносказательными, но очень прозрачными для посвященных формами, коммунистические идеи могли сделаться небезопасными для общественного спокойствия.
Беспрерывно размышляя о том, чем можно было бы это огранить и упрочить в виду судорожных движений Запада, я набросал несколько мыслей о действиях периодических изданий и цензуры; но долго колебался дать им ход, из опасения явиться в глазах других, а еще более в своих собственных, каким-то доносчиком.
Рассудив, однако, что жертвовать на общее благо ничтожной своей личностью есть священный долг каждого из нас, в такое опасное время еще более, чем когда-либо; что я буду тут действовать не как частный человек, а в качестве члена правительства и что, говоря лишь о фактах, а не о лицах, удалю от себя, в собственной совести, всякое нарекание в презренном доносе, я решился отвезти мою записку к наследнику цесаревичу. Не застав его высочества, я зашел с ней к великому князю Константину Николаевичу, который остался чрезвычайно доволен моей запиской и советовал непременно отослать к наследнику, не теряя времени, что я и исполнил на другой же день после получения известия о французской республике, т. е. 23 февраля, вечером. На следующее утро явился посланный с приглашением меня обедать к цесаревичу. За утомлением цесаревны от говенья, она не вышла к столу, и нас было тут, сверх хозяина и принца Александра Гессенского, только граф Медем, генерал-адъютант граф Сергей Строганов и я. Едва только мы вошли в первый кабинет наследника, где накрыт был обед, как он приветствовал меня первого словами:
– Искренно благодарю, получили вы уже бумагу?
– Какую, ваше высочество? Я никакой бумаги не получал.
– Ну, так еще получите. Государь учредил особый Комитет из князя Меншикова, вас, графа Александра Строганова (бывшего министра внутренних дел) и Д. П. Бутурлина. Ваша записка пришла как нельзя больше кстати. Вчера вечером у государя был разговор именно об этом, а воротясь к себе и найдя вашу бумагу, я сегодня же отнес ее к батюшке, и он, прочитав, оставил у себя для объяснения с Орловым, которого ждал в эту минуту.
Действительно, 27-го числа я получил от графа Орлова следующую официальную бумагу:
«По дошедшим до государя императора из разных источников сведениям о весьма сомнительном направлении наших журналов, его императорское величество на докладе моем по сему предмету собственноручно написать изволил: «Необходимо составить особый Комитет, чтобы рассмотреть, правильно ли действует цензура и издаваемые журналы соблюдают ли данные каждому программы? Комитету донести мне с доказательствами, где найдет какие упущения цензуры и ее начальства, т. е. министерства народного просвещения, и которые журналы и в чем вышли из своей программы. Комитету состоять под председательством генерал-адъютанта князя Меншикова из действительного тайного советника Бутурлина, статс-секретаря Дегая[187]187
Впоследствии к составу Комитета присоединен был еще начальник штаба корпуса жандармов, генерал Дубельт.
[Закрыть]. Уведомить о сем кого следует и занятия Комитета начать немедля».
Занятия этого Комитета продолжались с лишком месяц и, сверх некоторого дополнения цензурных правил, заключались во внушениях редакторам журналов и цензорам и проч. Но, в заключение, изо всего этого родилась у государя мысль учредить под непосредственным своим руководством всегдашний безгласный надзор за действиями нашей цензуры. С сей целью, вместо прежнего временного Комитета учрежден был 2 апреля постоянный из члена Государственного Совета Д. П. Бутурлина, статс-секретаря Дегая и меня, с обязанностью представлять все замечания и предположения свои непосредственно государю. Сначала надзор этого Комитета предполагалось ограничить одними лишь периодическими изданиями; но потом он распространен на все вообще произведения нашего книгопечатания. Призвав перед себя Бутурлина и меня, государь объявил, что поручает нам это дело по особому, как он выразился, безграничному своему доверию.
– Цензурные установления, – продолжал он, – остаются все как были; но вы будете – я; т. е. как самому мне некогда читать все произведения нашей литературы, то вы станете делать это за меня и доносить мне о ваших замечаниях, а потом мое уже дело будет расправляться с виноватыми.
Комитет этот, род нароста в нашей администрации, продолжал существовать под именем «Комитета 2 апреля» и с изменявшимся несколько раз личным составом[188]188
Я оставался сперва членом, а потом председателем Комитета до самого упразднения его в 1856 году.
[Закрыть], во все остальное время царствования императора Николая. Учреждением его образовалась у нас двоякая цензура: предупредительная, в лице обыкновенных цензоров, просматривавшая все до печати, и взыскательная, или карательная, подвергавшая своему рассмотрению только уже напечатанное и привлекавшая, с утверждения и именем государя, к ответственности как цензоров, так и авторов за все, что признавала предосудительным или противным видам правительства. Если в эпоху своего учреждения, когда министерством народного просвещения управлял еще граф Уваров, цель и надобность особого тайного надзора оправдывались тем, что министр утратил прежнее к нему доверие государя, и если, в начале своего существования, Комитет наш, по глубокому моему убеждению, принес большую и существенную пользу, то дальнейшее продолжение этого внешнего постороннего надзора, при преемниках Уварова, когда все постепенно вошло в законные пределы, сделалось уже совершенной аномалией и только парализовало действия и власть самого министерства, вредя косвенно всякому полезному развитию и успехам отечественной письменности. Эти обстоятельства были удостоены высочайшего внимания ныне благополучно царствующего императора[189]189
Императора Александра II.
[Закрыть] и вследствие того «Комитет 2 апреля», по всеподданнейшему докладу моему, закрыт.
* * *
Однажды за небольшим обедом у государя, при котором и я находился[190]190
Такие небольшие обеды, к которым приглашались двое или трое приближенных, бывали у императора Николая чрезвычайно часто, почти ежедневно. Сам он являлся тут обыкновенно в сюртуке без эполет; военные – в Петербурге в мундирах, а в летних резиденциях также в сюртуках; штатские же – везде единообразно в мундирных фраках, белых галстуках и лентах по камзолу.
[Закрыть], было много говорено о Лицее, прежнем и нынешнем, и еще более о Пушкине. Государь рассказывал (слышанное уже мной, впрочем, и прежде от великого князя Михаила Павловича), что и его и великого князя предназначали поместить в Лицей и что только Наполеон, с замышленной в это время против нас войной, побудил оставить этот план неисполненным.
Рассказ о Пушкине, обращенный непосредственно ко мне как к прежнему соученику нашего великого поэта, был чрезвычайно любопытен.
– Я, – говорил государь, – впервые увидел Пушкина после моей коронации, когда его привезли из заключения ко мне в Москву совсем больного и покрытого ранами – от известной болезни. «Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге?» – спросил я его между прочим. – «Стал бы в ряды мятежников», – отвечал он. На вопрос мой, переменился ли его образ мыслей и дает ли он мне слово думать и действовать иначе, если я пущу его на волю, он наговорил мне пропасть комплиментов насчет 14 декабря, но очень долго колебался прямым ответом и только после длинного молчания протянул руку с обещанием – сделаться другим. И что же? Вслед за тем он, без моего позволения и ведома, ускакал на Кавказ! К счастью, там было кому за ним присмотреть. Паскевич не охотник шутить. Под конец жизни Пушкина, встречаясь часто в свете с его женой, которую я искренно любил и теперь люблю как очень добрую женщину, я советовал ей быть сколько можно осторожнее и беречь свою репутацию и для самой себя, и для счастья мужа, при известной его ревности. Она, верно, рассказала это мужу, потому что, увидясь где-то со мной, он стал меня благодарить за добрые советы его жене. «Разве ты и мог ожидать от меня другого»? – спросил я. – «Не только мог, – отвечал он, – но, признаюсь откровенно, я и вас самих подозревал в ухаживании за моей женой». Это за три дня до последней его дуэли.
За тем же обедом государь рассказывал, что он поутру (это было в первых числах апреля) получил английское письмо из Лондона, без подписи, в котором выражали надежду, что он не последует примеру прочих европейских монархов и, в случае каких-нибудь беспокойств у нас, «не будет церемониться».
Наконец после обеда, когда хозяин отошел в сторону с графом Орловым, – Вронченко, также с нами обедавший, рассказал мне, что в это же самое утро, во время его доклада, при речи о каком-то благоприятном биржевом известии государь вдруг запел густым своим басом: «Спаси, Господи, люди твоя», к чему присоединились тотчас присутствовавшие при докладе наследник цесаревич и великий князь Константин Николаевич, и таким образом составилось прекрасное трио.
* * *
Лихорадочное сотрясение умов, возбужденное в России западными происшествиями, продолжалось весьма недолго. Чем более время подвигалось вперед, не производя никакого видимого волнения в нашем общественном спокойствии, тем более и беседы и помыслы стали обращаться снова к обыкновенным интересам. Политика и современные огромные перевороты, когда они не касаются непосредственно нашей личности, приедаются, как и все другое на свете… В Светлое Воскресенье, 11 апреля, все шло уже своим порядком, и если б кто, проспав семь недель поста, приехал вдруг в наш дворец к утрене и обедне, тот, конечно, ни по чему не догадался бы, что в эти семь недель остальная Европа была объята таким всеобщим, все еще и после них с одинаковой силой продолжавшимся, пожаром.
* * *
С открытием навигации в 1848 году великому князю Константину Николаевичу определено было идти в море, на первый раз в Стокгольм[191]191
Из Стокгольма он ездил в Копенгаген, а оттуда доходил до берегов Пруссии.
[Закрыть].
Императорская фамилия в то время имела свое пребывание в Царском Селе, и в день, назначенный для выезда великого князя, именно 7 мая, государь и наследник цесаревич поехали провожать его в Петербург и оттуда в Кронштадт. Перебравшись уже на дачу в Царское Село в первых числах мая, я в этот день также должен был ехать в Петербург и на Царскосельской станции железной дороги нашел государя прохаживавшимся по галерее в ожидании великого князя, несколько опоздавшего. Протянув мне руку, государь продолжал свою прогулку по галерее вместе со мной и начал говорить о делах нашего Цензурного Комитета.
– Последнее замечание ваше об анекдоте в «Северной Пчеле», – сказал он, – неважно; однако хорошо, что и это от вас не ускользнуло.
– Государь, – отвечал я, – мы вменяем себе в обязанность доводить до вашего сведения о всех наших замечаниях, даже и мелочных, предпочитая представить что-нибудь мелочное, чем пропустить важное.
– Так, так и надо; прошу и вперед так же продолжать; ну, а что теперь Краевский со своими «Отечественными Записками», после сделанной ему головомойки?
– Я в эту минуту именно читаю майскую книжку и нахожу в ней совершенную перемену, совсем другое направление, и нет уже следа прежнего таинственного арго. Повешенный над журналистами Дамоклов меч, видимо, приносит добрые плоды.
– Надеюсь; и признаюсь, не могу только надивиться, как прежде допустили вкрасться противному.
Продолжая речь о том же предмете, государь сказал еще:
– Больше всего мне досадны глупые возгласы против Петра Великого; досадно, когда и говорят, а тем больше нестерпимо, когда печатают. Петр Великий сделал, что мог, и даже более, чем мог, и вправе ли мы теперь, при таком отдалении от той эпохи и в нашем незнании тогдашних обстоятельств, критиковать его действия и унижать его славу и славу самой России!
Между тем, приехали цесаревич и великий князь, и государь, входя в вагон железной дороги, велел мне сесть вместе с ним и его сыновьями. Таким образом, нас было в том отделении вагона всего лишь четверо, и 25 минут от Царского Села до Петербурга пролетели для меня, как миг, в неистощавшейся беседе государя, предметами которой были: Сперанский, Новосильцев, Гежелинский, Аракчеев, архимандрит Фотий, мемуары Масона и другая старина. Я тут снова удивлялся и памяти государя на малейшие подробности, и самому знанию им этих подробностей, из числа которых многие, казалось, совсем не могли бы и достигнуть той сферы, в которой развивалась и протекала его жизнь.
* * *
Начало мая в 1848 году было совершенно феноменальным. С первых чисел доходило до 23° в тени, и при благодатных дождях и нескольких грозах растительность развилась так, как бывает у нас обыкновенно только в половине июня. 9-го числа, в воскресенье, после обедни в Царском Селе, присутствовавших при ней придворных пригласили к цесаревичу на завтрак. Он был устроен на площадке Камероновской галереи, и в продолжение его играла внизу, в садовой аллее, военная музыка. Государь, в разговоре со мной коснувшись моего, а потом и своего здоровья, сказал, между прочим, что стоящая на дворе жара очень благодетельно на него действует, а на вопрос мой, каков его сон, отвечал:
– Этим я, благодаря Богу, до сих пор жаловаться не могу – сплю прекрасно, но это для меня и дело первой важности; без еды или с едой самой скудной я могу, пожалуй, обойтись хоть пять дней кряду; но спать мне необходимо, и я свеж и готов явиться на службу только тогда, когда высплюсь, по крайней мере, семь или восемь часов в сутки, хоть бы и не вдруг, а с перерывами.
* * *
В тот же день, 9 мая, торжественно отрыт был Штейнбоковский пассаж, первый по времени построения в Петербурге, а по размерам и красоте один из первых в целой Европе. После молебствия с водоосвящением, завтрака для приглашенных гостей и обеда для рабочих впустили публику; но этот впуск в первые три дня был только на известные часы, и не даром, а с платой по 50 коп. с человека, за что играли постоянно два оркестра музыки и пел хор московских цыган. Хозяином этого пассажа был граф Эссен-Штейнбок-Фермор, служивший некогда в Конной гвардии и женатый на единственной дочери покойного Петербургского военного генерал-губернатора, которая, вместе с графским титулом и фамилией Эссен, принесла ему и весьма значительное состояние.
* * *
Весь май Петербург веселился напропалую, несмотря ни на приближавшуюся отовсюду эпидемическую холеру, ни на продолжавшую корчить всю Европу холеру моральную, вначале и нас так перепугавшую. Везде, на всех островах, на всех загородных гуляньях гремели оркестры музыки, составленные все, кроме военных, из приезжих иностранных музыкантов. Политика, продолжавшая более или менее занимать только самые высшие классы, для всех прочих отошла далеко в тень, и Петербург, как бы не обращая внимания ни на что внешнее, зажил во всем прежней своей жизнью. 31 мая железная дорога привезла в Павловск необъятные толпы народа. Там у великого князя Михаила Павловича, перед Константиновским дворцом, велись с песнями многочисленные хороводы крестьян из его Федоровского посада и пели московские цыгане, между тем как в вокзале играл обыкновенный оркестр Гунгля, а в саду раздавался еще хор военной музыки. Целое море музыки, и притом самой разнородной, если сравнить попурри Гунгля и марши военного оркестра с пискливым воем, как от несмазанных колес, русских красных девушек и с дикими, фантастическими мелодиями цыган.
Вдруг пробил час холеры…
Первым заболел 4 июня прибывший на лодке из Новой Ладоги дьякон Иванов, который, однако же, выздоровел. 5-го и 6-го новых случаев не было; но с 7-го числа болезнь стала распространяться в виде эпидемии и с 10-го чрезвычайно быстро разлилась по всем частям города. Заболевавшие умирали, большей частью, в несколько часов. 17-го уже занемогло в один день 719 и умерло 356 человек; 23-го – 1086 и 548; 26-го – 1017 и 576. С этого числа эпидемия начала несколько, хотя и незначительно, уменьшаться.
В первые дни газеты, извещая о числе заболевавших, находили еще возможность скрашивать дело фразой: «Больных, имеющих признаки, схожие с признаками холеры»; но вскоре страшная смертность и общий ужас не дозволили более употреблять никаких секретов и успокоительных выражений. Кто только мог, бежал из города, но и за городом, во всех окрестностях: в Павловске, в Петергофе, в Гатчине, даже в славящемся чистотой воздуха Царском Селе, бывали частые холерные случаи; в Кронштадте же и Ораниембауме болезнь действовала очень сильно. Кроме высших классов, Петербург оставили и многие тысячи чернорабочих, пришедших туда на летние работы. Объятые естественным страхом, они, бросая все надежды прибытков, стремились обратно на родину и умирали сотнями на дороге.
Гвардия, по обыкновению, была выведена в Красносельский лагерь, и не в летнем, а в суконном исподнем платье, а военно-учебные заведения переправлены в лагерь Петергофский прежде срока и не пешком, как всегда бывало, а на пароходах; вступившую же в Петербург, взамен гвардии, дивизию Гренадерского корпуса разместили не по казармам, а также лагерем на Царицыном лугу, Семеновском плацу и проч. Не обошлось, как ожидать должно было, и без народного волнения, направленного, впрочем, не против правительства, как в 1831 году, а прямо против мнимых отравителей[192]192
Не касаюсь здесь ни этих событий, ни учрежденного в то время в Петербурге торжественного крестного хода, потому что все это подробно описано в современных газетах.
[Закрыть].
Разумеется, что тут не обошлось также без новых подвигов со стороны нашего героя, нашей ограды, нашего великого государя, везде и всегда себе равного. Приехав немедленно из Петергофа в столицу, он увещевал здесь толпы народные, обращая их к покорности и молитве, обуздывал дикие страсти черни, обхаживал лично мясные лавки, вразумляя о необходимости особенной в них опрятности и проч. Не могу не повторить снова, что во всякой власти все надежды, все чаяния постоянно обращались к энергической и теплой душе государя, и что на нем одном покоились все наши упования.
В Петергофе не было не только празднеств, но и простого приема, ни 25 июня, ни 1 июля. Вследствие холеры, политических обстоятельств и недавней кончины родителя цесаревны, двор провел эти дни в совершенном уединении.
Но постепенно и испуг от холеры миновался точно так же, как испуг от политических событий.
Лишь только унялось народное волнение, – а оно унялось тотчас по появлении государя, – все опять пошло, по наружности, как бы обыкновенным своим порядком, хотя в городе на каждом шагу встречался гроб и над всеми другими одеждами преобладали траурные; однако публичные гулянья стали наполняться не менее прежнего; везде опять раздавалась музыка, и та часть населения, которой не поразил еще злой недуг в ее семействах или близких, старалась, по-видимому, забыться в этих мнимых весельях… Официальное течение дел и управления также не прерывалось, и ни одно из присутственных мест не было закрыто, хотя, среди общей тревоги и множества смертных случаев, все это шло очень вяло и большей частью только по имени.
* * *
В августе умер, но не от холеры, хотя она все еще продолжала свирепствовать, а от старческого изнеможения, Николай Васильевич Музовский, протопресвитер, александровский кавалер, обер-священник гвардии и духовник государя, императрицы и великой княгини Елены Павловны – почти столетний старец, о котором мне уже не раз случалось упоминать. Тонкий и ловкий придворный и вообще умный человек, он, однако, не был, как называют наши духовные, из ученых и не отличался ни особенным даром слова, ни блеском пера. Впрочем, самый характер его духовного сына не давал Музовскому никакого над ним влияния, и все значение духовника оканчивалось вместе с исповедью; от того и публика отдавала ему лишь почет, приличный его сану, отнюдь не считая его за человека случайного.
* * *
По случаю предстоявшего бракосочетания великого князя Константина Николаевича двор переехал 28 августа из Петергофа на Елагин остров, и затем самое празднество происходило в Петербурге, по обычному церемониалу, 30 августа. В публике, впрочем, некоторые сие порицали, говоря, что в этот день, т. е. в праздник Александра Невского, народ издавна привык видеть православный царственный дом у единственных в Петербурге мощей. Обряд бракосочетания впервые совершал новый государев духовник Бажанов, после чего были трехклассный обед и парадный бал, а на другой день утром развод перед Зимним дворцом и вечером парадный спектакль, в который давали балет «Пахиту».
На меня, как, вероятно, и на многих других, особенное впечатление при брачной церемонии произвели две вещи. С одной стороны, общее, обыкновенное усердие и участие всей большой народной семьи в царственном празднике. Разумеется, что в огромном стечении народа и перед дворцом, и целый день на улицах, участвовало отчасти и любопытство; но все же в ту пору судорожного распадения Европы зрелище этой державы, которая одна устояла неподвижно и неизменно в своих основах, этого народа, везде, толпой, с прежними криками радости и почти богопочтения устремлявшегося на сретенье своему царю; этой иллюминации, зажженной не в честь революционных завоеваний (Errungenschaften – одно из тогдашних модных словечек), а на радость царственную, хотя бы то было и по приказанию полиции; этого дивного порядка и тишины, которых ничем и ни на минуту не нарушало стечение огромных масс; наконец, посреди и над всем этим того могучего морального колосса, той единицы, которой держались миллионы, лежавшие у его ног по-прежнему, – все это не могло не действовать чрезвычайно поразительно, и оттого празднество бракосочетания великого князя Константина Николаевича имело совсем другой характер, нежели все ему предшедшие.
Но, сколько это явление было отрадно, столько, с другой стороны, казалась тут печальной роль иностранного дипломатического корпуса, который с тех пор, что правление везде перешло из рук монархов в руки народов, продолжал существовать почти только по имени. Разумеется, что всем этим блиставшим в вышитых мундирах господам и в этот день отдавался обыкновенный внешний почет, но какое же оставалось при них, в то время, внутреннее значение и как жалки и смешны они должны были казаться себе в собственных глазах, особенно при такой совокупной и публичной их выставке!.. Изъятие составлял разве один только английский министр, лорд Блумфильд, которого вес поднялся в соразмерность с упадком прочих.
Всех жальче был посланник виртембергский, принц Гогенлоэ, приехавший к нам за 24 года перед тем, у нас влюбившийся, вступивший в брак, опять овдовевший, состарившийся, отчужденный, через долговременное пребывание в России, от своего отечества и от всех в нем связей и вдруг, как человек старого режима, de l’ancien regime, лишаемый своего поста, отзываемый восвояси[193]193
Он впоследствии, оставив службу, навсегда остался в России.
[Закрыть], без пенсии и без всякого состояния, потому что он жил почти одним посланническим своим содержанием. Бедный человек, как он печально рассказывал это всем, кому только угодно было его слушать!
Я сказал, что праздник происходил по обычному церемониалу. Это так, но были некоторые изъятия из того, что велось искони в дворцовых преданиях. Так, например, за обедом, по особому повелению государя, не подавали ни стерлядей, ни трюфелей, ни мороженого – из предосторожности против холеры, все еще не прекращавшейся, но не помешавшей, однако, разлиться тут целому морю шампанского, как и вообще незаметной по движению и беззаботному веселью народа, хотя если б свадьба случилась три месяца раньше, при ней присутствовало бы пятнадцатью тысячами зрителей более, – число жертв, унесенных эпидемией в этот короткий промежуток в одном Петербурге. Со страхом исчезли и полезные напоминания смертоносного недуга, хотя на другой день, может быть, и из этой веселой толпы пало несколько десятков новых его жертв.
Другое изъятие состояло в том, что не последовало ни одной награды придворной, как и вообще ни одной, исшедшей непосредственно от государя. Касательно первых он отозвался, что не будет никому ничего, потому что при дворе и без того довольно случаев к наградам, и лица, состоявшие при великом князе, остались только с тем, что каждый из них получил ко дню его совершеннолетия.
* * *
18 сентября за маленьких обедом во дворце государь очень рассмешил всех нас и сам очень смеялся, рассказывая сон свой в предшедшую ночь.
– Я видел, – говорил он, – будто мне кем-то поручено удостовериться: настоящий ли у герцога Веллингтона нос или картонный, и что для этого я щелкал его по носу, который, казалось, звучал, точно картонный!
После обеда государь был бесподобен. Привели детей цесаревича, и он играл, валялся и кувыркался с ними, как самая нежная нянька, приговаривая несколько раз, что не знает счастья выше этого.
* * *
На зиму 1848 года ангажирована была нашей театральной дирекцией знаменитая танцовщица Фанни Эльслер. Государь изъявил желание, чтобы первый дебют ее был перед двором в Царском Селе, что и последовало 19 сентября. Хотя там есть особый и очень хорошенький театр, но император Николай, не знаю почему, не жаловал, чтобы в нем играли, и оттого спектакли, бывавшие в Царском Селе, во время осеннего пребывания императорской фамилии обыкновенно каждое воскресенье, давались в Большом дворце, в особо устроенной для них зале, сцена которой была очень удобна для комедий и водевилей, но слишком мала для пьес «с великолепным спектаклем», в особенности же для балетов. Оттого дебют Фанни Эльслер ограничился единственно качучею, исполненной между французской и русской пьесами.








