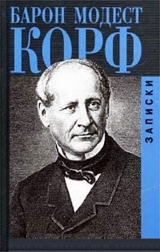
Текст книги "Записки"
Автор книги: Модест Корф
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 47 страниц)
* * *
В поездку государя в 1834 году по разным губерниям при нем находились только генерал-адъютант граф Бенкендорф, управлявший в то время корпусом жандармов и III-м отделением Собственной его величества канцелярии, статс-секретарь Позен и врач Енохин[10]10
Между графом Бенкендорфом и Позеном рукой императора Николая в рукописи этих Записок прибавлено: граф В. Адлерберг.
[Закрыть]. Вот что на одном из остановочных пунктов Позен слышал из соседней с государевым кабинетом комнаты.
В кабинете с государем один Енохин. Государь весел и разговорчив.
– Ты, Енохин, – говорил он, – из духовного звания и, следственно, верно знаешь духовное пение.
– Не только знаю, государь, но в молодости часто и сам певал на клиросе.
– Так спой же что-нибудь, а я буду припевать.
И вот они поют вдвоем церковные стихиры.
– Каково, Енохин?
– Прекрасно, государь, вам бы хоть самим на клиросе петь.
– В самом деле, у меня голос недурен, и если б я был тоже из духовного звания, то, вероятно, попал бы в придворные певчие. Тут пел бы, покамест не спал с голоса, а потом… ну потом выпускают меня, по порядку, с офицерским чином хоть бы в почтовое ведомство. Я, разумеется, стараюсь подбиться к почт-директору, и он назначает меня на тепленькое местечко, например, почт-экспедитором в Лугу. На мою беду, у лужского городничего хорошенькая дочка. Я по уши в нее влюбляюсь, но отец никак не хочет ее за меня выдать. Отсюда начинаются все мои несчастья. В страсти моей я уговариваю девочку бежать со мною и похищаю ее. Об этом доносят моему начальству, которое отнимает у меня любовницу, место, хлеб и напоследок отдает меня под суд. Что тут делать, без связей и без протекции?
В эту минуту вошел в кабинет Бенкендорф.
– Слава Богу, я спасен: нахожу путь к Бенкендорфу, подаю ему просьбу, и он высвобождает меня из беды!
Можно представить себе, какой неистощимый смех произвел в слушателях этот роман ex abrupto (экспромтом), доказывающий, вместе со многими другими анекдотами, веселую, обыкновенно, настроенность покойного государя и игривое его воображение.
* * *
Сын великой княгини, потом королевы Виртембергской Екатерины Павловны, принц Петр Георгиевич Ольденбургский, родившийся в 1812 году и пожалованный, при самом крещении (22 октября) в полковники лейб-гвардии Преображенского полка и андреевским кавалером, прибыл в Россию, по окончании воспитания своего за границей, еще очень молодым человеком, и именно в 1830 году. Сначала служба его была военная, то есть фронтовая, и он был назначен батальонным командиром лейб-гвардии Преображенского полка, при котором оставался и после производства его в 1832 году в генерал-майоры и в 1834 году – в генерал-лейтенанты. Потом он хотя и был назначен (6 декабря 1835 года) шефом Стародубовского кирасирского полка, которому впоследствии (14 апреля 1840 года) повелено именоваться «Кирасирским Его Светлости Принца Петра Ольденбургского»[11]11
Титул императорского высочества пожалован принцу, вместе с его супругой (принцессой Терезиею Нассаускою) уже позже, а именно в 1845 году.
[Закрыть], но это назначение было только почетным, и деятельность была исключительно обращена к гражданской службе, так что военного остался при нем только мундир и чин (с 16 апреля 1841 года генерал от инфантерии). В конце царствования императора Николая главные титулы и обязанности принца были: председатель департамента гражданских и духовных дел в Государственном Совете, председатель Опекунского совета и Главного совета женских учебных заведений и сенатор.
Примечательнейшую страницу в биографии принца, принадлежащую вместе и истории России, составляло, конечно, учреждение – по его мысли и с значительным от него пожертвованием – Императорского Училища правоведения.
26 октября 1834 года принц писал государю: «Всемилостивейшее назначение присутствовать в Правительствующем Сенате, приемлемое драгоценным знаком отеческого обо мне попечения вашего, постоянно доставляет мне случай вникать ближайшим образом в порядок и ход гражданского судопроизводства. Недостаток образованных и сведущих чиновников в канцеляриях судебных мест составляет неоспоримо одно из важнейших неудобств, препятствующих возвести часть сию на ту степень благоустройства, на которой ваше императорское величество желаете поставить все отрасли управления. Учебные заведения, ныне существующие, не удовлетворяют сей потребности государства. Молодые люди, получив в оных образование на собственный счет и потому пользуясь свободой избирать род гражданской службы, обыкновенно стремятся в министерские департаменты, где и виды честолюбия, и способы содержания более льстят их надеждам. По прошествии нескольких лет они перемещаются в высшие звания по судебным и исполнительным местам и таким образом минуют канцелярские должности, не получив надлежащего сведения о порядке делопроизводства. Для устройства канцелярий, давно озабочивающего правительство, полагаю необходимым, чтобы улучшение содержания согласовано было с образованием людей, к гражданской службе назначаемых, и чтобы с тем вместе учреждена была правильная для них постепенность в повышениях. Убеждение в сих истинах возродило во мне мысль о пользе учреждения особенного Училища правоведения. Многие из опытнейших и усерднейших слуг ваших помышляли и прежде меня о таком учреждении, но значительные издержки, необходимые для первоначального устройства подобного заведения, могли исполнению сей мысли препятствовать. Вам, государь, принадлежит все, что я имею, и сама жизнь моя! И если б уделением моего избытка мог я содействовать пользе службы вашего императорского величества, мог быть полезен родине, к коей привязан душой, то почел бы себя безмерно счастливым. Побуждаемый сими чувствами, я желал бы пожертвовать сумму, потребную на приобретение дома и на первоначальное обзаведение Училища правоведения».
Затем следовало краткое изложение оснований, на которых принц полагал учредить сие училище и определить обязательную службу оканчивающих в нем курс; в заключение же он предлагал, если мысль его будет принята, приступить к составлению проекта положения и штата.
Письмо это государь передал Сперанскому с следующею записью: «Благородные чувства принца достойны уважения. Прошу, прочитав, переговорить с ним и мне сообщить как ваши замечания, так и то, что с принцем вами условлено будет». Составленные вследствие того по обоюдному их соглашению проекты устава и штата внесены были в Государственный Совет, где подверглись, однако, подробному разбору и многим переменам, пока были наконец утверждены 29 мая 1835 года и изданы при указе, в котором сказано было, что государь вменяет себе в приятную обязанность воздать справедливость побуждениям, на коих основано предположение принца, приемля оные доказательством примерного его усердия к общему благу и наследственного ему глубокого чувства любви к отечеству». Принц на покупку и перестройку дома (на Фонтанке, против Летнего сада, бывший Неплюева) с нужным обзаведением пожертвовал более миллиона (ассигнациями) рублей. За все это через два дня после подписания указа (31 мая) ему дан был рескрипт, в котором государь говорил, сколь много ценит и достоинство мысли принца и образ ее исполнения – мысли, внушенной наследственной любовью к отечеству, тогда как предложенный образ исполнения означает готовность содействовать его пользам, не щадя достояния[12]12
Указ был написан мною, а рескрипт Сперанским, и я не без некоторого самодовольствия увидел, что подчеркнутые здесь слова были заимствованы им из моей редакции.
[Закрыть].
В феврале 1837 года, после болезни, едва не положившей меня в гроб, и в продолжение которой император Николай беспрестанно присылал наведываться о моем здоровье и наконец поручил меня искусству доктора Арендта, бывшего в то время его врачом, я явился благодарить государя за его милостивое участие. Приняв меня с распростертыми объятиями и с вопросом: «Ну что, оправился немножко, любезный мой Корф?» – он велел рассказать себе весь ход моей болезни подробно, от начала до конца. Когда я коснулся расстроенного состояния моих нервов, государь с усмешкой возразил:
– Полно тебе в наши лета так бабиться!
Но потом опять с участием соблаговолил спрашивать, не болит ли у меня грудь, правда ли, что пострадала моя память и проч., изъявляя надежду, что «все это поправится, на новую, такую же полезную службу мне, как и до сих пор». Далее он обратил речь к плану заграничного путешествия, которое врачи признавали необходимым для полного моего выздоровления.
– Куда же ты едешь: на Рейн или в Богемию?
На ответ мой, что я думаю еще посоветоваться с Мандтом, который, незадолго перед тем приехав из-за границы, пользовал императрицу Александру Федоровну, он сказал:
– И прекрасно сделаешь: Мандт очень искусный человек, и тем больше искусный, что умеет действовать не только на физику, но и на воображение. С моею женой он сделал просто чудеса, и мы оба от него в восхищении. Не верь здешним докторам, если они его бранят: это оттого, что он в тысячу раз умнее и ученее их. Советуйся с ним одним и одному ему доверяй.
Поговорив затем о недоверии своем вообще к врачам и к медицине и о том, что против болезней хронических он считает самыми верными средствами воды, климат и развлечение, сопряженное с заграничным путешествием, государь вдруг спросил:
– Но кто же заступит тебя на такое долгое время (на шесть месяцев) по Совету?
– Государь, мне объявлена уже ваша воля по этому предмету. Вам угодно было приказать, чтобы мою должность исправлял старший по мне в государственной канцелярии.
– Да, да, чтоб не пускать чужого козла в огород. Но довольно ли надежен Боровков? Можно ли поверить ему такие важные обязанности?
– Он – человек надежный и по правилам и по знанию дела, хотя и не совсем отличный редактор, в чем прошу ваше величество иметь к нему милостивое снисхождение. Дела при нем, смею надеяться, пойдут к удовольствию вашего величества. Я вообще очень счастлив товарищами: все они люди благородные, знающие, пользующиеся доверием членов Совета и публики. Получив уже единожды должное направление, каждый из них будет делать свое дело.
Тут государь удивил меня своим знакомством с личным составом государственной канцелярии. Спрашивая порознь о каждом из высших ее чиновников, он называл их по фамилиям и входил в подробности об их способностях, сведениях и надежности. Я отвечал, отдавая каждому заслуженную справедливость.
– У тебя такой напев, какой я редко слышу от других; каждый как бы похвалить себя, а других пониже. Но полно: я знаю, что все это и держится и идет тобою, и очень боюсь твоего отсутствия, а между тем, еще раз благодарю за то, что ты так поднял и облагородил сперва канцелярию Комитета министров, а теперь государственную канцелярию. Мы с тобою еще не сосчитались!
Когда, между прочими отзывами насчет чиновников, я в особенности рекомендовал Башуцкого (правившего тогда должность статс-секретаря в гражданском департаменте, после сенатора) за благородство правил и высокое бескорыстие, государь возразил:
– Сначала я никак не мог вразумить себя, чтобы можно было хвалить кого-нибудь за честность, и меня всегда взрывало, когда ставили это кому в заслугу; но после пришлось поневоле свыкнуться с этою мыслью. Горько подумать, что у нас бывает еще противное, когда и я и все мы употребляем столько усилий, чтобы искоренить это зло!
– Государь, – отвечал я, – в этом отношении, как и во многих других, Россия в ваше царствование все-таки далеко ушла против прежнего. Служив около десяти лет при императоре Александре, я могу судить по сравнению. Теперь хоть в высших, по крайней мере, степенях, все чисто, как ваши намерения, и если кто из нас когда грешит, то по ошибкам, а, конечно, уже не по злой воле.
– О вас и я так думаю. Но что еще делается внизу, что в середине! Там точно надо еще хвалить за бескорыстие и вменять в достоинство то, что следовало бы считать только за отсутствие зла. Но об этом можно бы толковать еще целый час, а я и так замучил тебя, полубольного, этим длинным разговором.
Остальная часть беседы относилась уже ко мне, к моей жене, к нашим домашним делам и потому могла бы принадлежать скорее к личной моей биографии, чем к предмету настоящих записок.
* * *
В нашей духовной иерархии в первой четверти настоящего столетия явилось лицо, чрезвычайно примечательное в разных отношениях, именно архимандрит Юрьева Новгородского монастыря Фотий. Сын простого дьячка, обязанный всем самому себе, Фотий умел приобрести не простую приязнь, а полную дружбу графа Аракчеева, свергнуть (в 1824 году) – при помощи митрополита Серафима, генерал-адъютанта Федора Петровича Уварова и того же Аракчеева – князя Александра Николаевича Голицына с поста министра духовных дел и народного просвещения; внушить слепое, рабское себе повиновение графини Орловой, дочери знаменитого героя Чесменского; наконец, возвести на высшую степень благолепия и богатства древнюю Юрьевскую обитель, столь славную в наших летописях, но пришедшую от разных причин в запустение и совершенную нищету. Жизнь его была всегда жизнью истинного отшельника, преисполненной всех возможных лишений для самого себя и щедрых даяний бедным новгородским монастырям и церквам, равно как множеству частных лиц.
Несмотря, однако же, на все это, он был почти ненавидим в обществе, которое называло его иезуитом Тартюфом, волком в овечьей шкуре и проч. Этому нерасположению способствовали, конечно, с одной стороны, общая ненависть к другу его Аракчееву, а с другой – и то несоответственное иноческому званию дерзкое высокомерие, которое Фотий ко всем оказывал, встречая каждого, без различия пола, лет и звания, хотя бы то был и высший сановник, грубым «ты». Император Николай, вероятно, по нерасположению к Аракчееву, может быть, отчасти, и по наговорам приближенных лиц, никогда не благоволил к юрьевскому архимандриту.
В 1835 году, когда государь впервые посетил его монастырь, Фотий лично сам еще более усилил это нерасположение. Он вышел на встречу государя без облачения и протянул неспрошенно руку свою для целования. Государь обернулся к провожавшему его графу Бенкендорфу и сказал по-французски:
– Подтвердите, что я умею владеть собой, – потом поцеловал протянутую ему руку и пошел осматривать монастырь.
Но на другой день велено было вытребовать Фотия в Петербург и здесь наставить его, каким образом должно встречать императора. Его в то время продержали и промучили в Александро-Невской лавре три недели и сказывают, что, кроме смертельной раны, нанесенной его самолюбию, этот урок и разрешение возвратиться в свою обитель стоили ему до 30 000 рублей ассигнациями.
Несмотря на то, в феврале 1838 года, узнав о тяжкой болезни Фотия, государь явил заносчивому архимандриту особенный знак внимания, тотчас отправил к нему из Петербурга лейб-медика Маркуса, на руках которого он и умер.
* * *
В феврале 1838 года скоропостижно, после бала в Аничкином дворце, умер Петербургский комендант, некогда командир лейб-гвардии Измайловского полка Мартынов, человек без образования, без высокого ума, но правдивый, честный и добрый. Государь очень был огорчен смертью этого преданного и верного слуги.
– Мы были с ним знакомы тридцать лет, – сказал он, – и я у него брал первые уроки военной службы.
На место умершего Мартынова назначен был Петербургским комендантом генерал Захаржевский, человек до безобразности тучный. На замечание, что такой толстяк едва ли пригоден для должности, требующей беспрестанной деятельности, даже и физической, государь отвечал:
– Напротив, от такого неповоротливого меньше будет дрязг, чем от другого проворного, который стал бы бегать ко мне за всякой безделицей, вместо того чтобы самому расправляться. Мне не нужно знать всех мелочных шалостей молодых офицеров, и не мое это дело, а коменданта.
* * *
Царствование императора Николая было богато бесчисленными чертами, то гениальными и потрясавшими душу, как электрическая искра, то трогательными и умиленными, но всегда проявлявшими высокую, светлую, поэтическую его душу. И телом и духом он был рожден повелевать, но, кроме того, и быть любимым – и едва ли, не говоря уже о монархах, была когда-либо и обворожительная женщина, которая имела бы такое множество фанатических, исступленных обожателей. Но зато как и умел он владеть умами и сердцами!
В феврале 1838 года государь посетил, как делывал часто и прежде и после, Пажеский корпус, где, подобно прочим военно-учебным заведениям, выставляются всегда на одной доске – имена воспитанников, отличившихся добрым поведением, а на другой – имена впавших в какую-нибудь погрешность. Подозвав прежде отличившихся пажей, он хвалил и благодарил их и заключил словами: «Будьте уверены, что я и впредь ваших имен не забуду».
Потом дошла очередь до провинившихся. Пожурив их отечески, он вдруг берет губку и стирает имена их с черной доски.
– На этот раз, – говорит он, – я отношу ваши шалости к легкомыслию и в надежде, что вперед будете лучше, всю вину вашу беру на себя; но помните же, что уж теперь я за вас отвечаю, и не выдайте меня.
Слова и анекдоты в подобном роде повторялись в продолжение тридцатилетнего царствования ежедневно.
* * *
8 апреля, в 6 часов после обеда, мне, по званию моему государственного секретаря, дали знать о кончине председателя Государственного Совета графа Новосильцева, которую, при тяжкой его болезни, мы уже несколько дней ожидали. Я тотчас поскакал к нему в дом, где, пригласив ближайшего из родных и наследника его сенатора Огарева, запечатал вместе с ним двери кабинета покойного, а оттуда поехал с донесением о моих распоряжениях к государю, который в то время, по случаю возобновления сгоревшего Зимнего дворца, жил в Аничковом дворце.
Почти у ворот последнего нагнал меня фельдъегерь с запиской, собственноручно написанной государем: «Статс-секретарю барону Корфу». Вскрываю и нахожу, что я предварил высочайшую волю. «По случаю кончины Николая Николаевича Новосильцева, – писал государь, – нужным считаю приказать вам[13]13
Говоря всем, не только приближенным, но и вообще известным ему «ты», император Николай на бумаге никогда не называл никого иначе, как «вы».
[Закрыть] немедленно опечатать бумаги, у него хранившиеся, что вы учините сейчас, вместе с теми из родных, которые при нем; по исполнении мне донести. Н.».
По докладе государю о моем приезде он принял меня в ту же минуту и сказал:
– Я счел нужным запечатать бумаги покойного графа не потому, что между ними могут быть дела Совета или Комитета министров, а более потому, что тут должна находиться переписка его с братьями Александром и Константином, которых доверенностию он долго пользовался, и, может статься, другие еще бумаги в таком же роде. Разбери все это хорошенько и потом представь мне подробные описи по категориям, а я назначу, куда что передать.
Затем после нескольких слов о последних минутах графа, о находившихся при нем родственниках и проч., я спросил, не будет ли каких приказаний относительно погребения, в тайной надежде, что, может быть, это поведет к вопросу о положении, в каком остались дела покойного и родственников его (у них почти ничего не было), а вследствие того будет приказано похоронить его на казенный счет. Но государь отвечал равнодушно и почти холодно:
– Ну, что ж, братец, ведь нам в это не мешаться; пусть родные делают как хотят; впрочем, разумеется, что по наружному церемониалу должно быть соблюдено все приличие, и по нарядам и проч. ты сделаешь, как было при похоронах прежнего председателя Совета князя Лопухина, потому что князь Кочубей умер в Москве и, следовательно, не может тут служить примером[14]14
Государь потом лично присутствовал при погребении Новосильцева в Невском монастыре.
[Закрыть].
Вообще я предполагал найти более сочувствия или, по крайней мере, вида сочувствия к смерти графа, хотя и знал, что прямого, искреннего расположения к нему не было, а особенного уважения, при гласности в целом Петербурге довольно безнравственной частной жизни покойного, также быть не могло[15]15
Новосильцев был назначен председателем Государственного Совета после смерти князя Кочубея летом 1834 года, и первая мысль о сем назначении его была подана государю великим князем Михаилом Павловичем, как я сам от него неоднократно слышал. Новосильцев, долго состояв при цесаревиче Константине Павловиче, пользовался полной его доверенностью, а известно, что мнение и взгляд цесаревича были всегда законом для младшего из его братьев.
[Закрыть]. Но всего замечательнее было заключение этой беседы, при котором государь выразил откровенное свое мнение насчет окружавших его в ту эпоху людей.
– Более всего, – сказал он, – озабочивает меня теперь вопрос о преемнике графу. Есть человек, душевно преданный мне и России, высоких чувств, всеми любимый и уважаемый, но от которого, по слабости здоровья, почти совестно потребовать такой жертвы, да едва ли и сам он согласится, – это граф (после князь) Илларион Васильевич (Васильчиков); беда еще и в том, что он глух, смертельно глух! Всех способнее к этой должности был бы, конечно, во всех отношениях Михайло Михайлович (Сперанский); но боюсь, что к нему не имели бы полной доверенности: он мой редактор[16]16
Сперанский управлял в то время II-м отделением Собственной его величества канцелярии, в котором незадолго перед тем окончено было под непосредственным надзором и руководством государя бессмертное создание Свода и изготовлялись разные законодательные проекты.
[Закрыть], и потому его стали бы подозревать в пристрастии ко мне. Граф Литта тоже человек с высокими достоинствами, которым я отдаю полную и душевную справедливость, но у него нерусское имя, и притом он католик. Князь Александр Николаевич (Голицын) не годится ни по способностям, ни по летам. Оставался бы еще граф Петр Александрович (Толстой); но этот тяжел, ленив и тоже не годится. Вообще надо еще хорошенько подумать, а ведь между тем дела не остановятся у вас и в теперешнем промежуточном порядке.
Когда государь кончил свою речь, я осмелился заметить, что обязанности председателя становятся с каждым днем обременительнее, по множеству и беспрестанно увеличивающейся важности вновь поступающих дел.
– О, подожди только до будущей зимы, – возразил государь, – тогда мы внесем к вам работы самые важные: пояснения и дополнения к Своду, которые надо будет рассматривать с особенной внимательностью, может быть даже в экстренных заседаниях.
В тот же день, вслед за моею аудиенцией, был вечер у вдовы предшественника Новосильцева – княгини Кочубей, на котором присутствовала и вся царская фамилия. Увидя тут Васильчикова, государь отвел его в сторону и, после многих убеждений, согласил принять упразднившуюся должность Новосильцева[17]17
Указ о сем был подписан на другой день, 9 апреля.
[Закрыть]. Таким образом, по особому стечению обстоятельств, в самый день смерти председателя Государственного Совета был у вдовы его предшественника вечер, на котором назначен ему преемник.
– Я принял это звание, – говорил мне потом граф Васильчиков, – с тяжким сознанием своей малоспособности, с уверенностью даже, что оно разрушит последние остатки слабого моего здоровья; но принял и счел противным долгу совести отказаться от него собственно ввиду тех ничтожностей, которые находил вокруг себя в числе кандидатов.
Из этого заключаю, что в разговоре с ним государь не назвал, как мне, Сперанского, потому что Васильчиков принадлежал к числу ревностнейших почитателей его ума и государственных достоинств.
Разбор бумаг графа Новосильцева был окончен мною в несколько недель, но по своим результатам не оправдал предвидений государя. Переписка с императором Александром I и с великом князем Константином Павловичем и все важнейшие из других бумаг, которые могли бы представить особенный интерес, были расхищены в Варшаве, во время мятежа 1830 года. Затем между оставшимися после его смерти (бумагами) найдено было очень мало: большею частию беспорядочные отрывки, копии, незначащие подлинные дела.
В представленной мною подробной описи государь сделал отметки против каждой статьи: иное велено было сжечь, другое разослать по роду дел в министерства и только три вещи представить ему самому: 1) разные отрывочные материалы, по-русски и по-французски, для «конституционной хартии России» – плод одного из филантропических мечтаний императора Александра в первой половине его царствования, 2) собственноручную записку покойного графа с разбором статьи: «L’Empereur Nicolas», появившейся незадолго перед тем в «Revue de Paris», статьи, которая в то время у нас почти всех восхищала, но в которой Новосильцев видел не иное что как самый едкий пасквиль, прикрытый личиной похвалы и простосердечия, 3) копию с польского письма, которым великий князь Константин Павлович в 1824 году спрашивал кого-то в Берлине о здоровье своего брата, но которого – по содержанию письма не было видно.
* * *
Я имел счастье сделаться лично известным императору Николаю по законодательным работам во II отделении Собственной его величества канцелярии, на которые он обращал в первое время такое заботливое внимание, что ему подавались еженедельно подробные ведомости о занятиях каждого из чиновников отделения поименно. Быв пожалован за сии работы, в один и тот же день, в коллежские советники, в звание камергера и значительным денежным награждением, я впервые представлялся его величеству на Елагином острову в июле 1827 года и могу сказать, что с самой этой минуты при каждом свидании, при каждом случае к награде государь не переставал осыпать меня милостями и ласками, а позже осчастливил меня и частыми знаками высокого, особого доверия. В длинный ряд следовавших за тем лет его царствования, состояв с 1831 года управляющим делами Комитета министров и с 1834 года государственным секретарем – следственно, в должностях, самых приближенных к особе монарха, – я только один раз имел несчастье подпасть его гневу, и вот по какому случаю.
В первых днях мая 1838 года государь предполагал отправиться за границу, а между тем, 22 апреля окончено было в Государственном Совете рассмотрение огромного проекта учреждений местных управлений государственных имуществ, внесенного министром (тогда еще не графом) Киселевым. Как при поступлении этого дела, а именно 25 марта, председатель граф Новосильцев объявил мне высочайшую волю о рассмотрении его в Совете сколь можно поспешнее, то оно и было окончено, при всей его обширности, менее нежели в месяц, и все эти обстоятельства, представляя 26 апреля государю проект, я изложил в приложенной от меня докладной записке.
Но вместо ожиданного изъявления удовольствия за такую быстроту на другой день возвратилась от государя одна моя докладная записка, с следующей собственноручной его надписью: «Вы забыли, кажется, что я привык читать, а не просматривать присылаемые бумаги, и для того приказал, чтоб все ведомства прислали мне все важные бумаги не позже 15-го апреля, дабы успеть прочесть; вам следовало то же исполнить, ежели же сего невозможно было, то испросить повеление, что делать с сим положением, когда оно будет готово: ибо мне нет никакой возможности его читать за близким отъездом».
Упрек обожаемого государя поразил меня тем более, что я в глазах его являлся тут как бы не исполнившим его волю, и за тем, хотя с уверенностью в своей безвинности, но с стесненным сердцем, я тотчас отвечал следующей запиской.
«Вследствие сей час полученного мною высочайшего вашего императорского величества повеления осмеливаюсь всеподданнейше донести:
1) Высочайшая воля, чтобы все важные бумаги поднесены были вашему величеству не позже 15-го апреля, никем мне объявлена не была, и я узнал о ней впервые из последовавшей сегодня на всеподданнейшей моей записке высочайшей резолюции.
2) Генерал Киселев в подносимом у сего письма от 25-го апреля[18]18
Следственно, накануне отсылки мною проекта к государю.
[Закрыть] уведомил меня, напротив, что ваше величество ожидать изволите представление его проекта для сколь можно скорого прочтения до отъезда. Посему, поднеся тот проект тотчас на другой день, я думал в точности исполнить священную волю вашего величества».
И что же? Тот самый Николай, которого невежественные иностранцы и злонамеренные крикуны старались всегда изображать таким непогрешимым и неподвижным в изъявлениях своей воли, возвратил мне эту объяснительную записку в ту же минуту с следующей новой надписью:
«Ежели так, то вы не виноваты, ибо приказание до вас не дошло, видно, по ошибке. Положение сие, по огромности, требует много времени для прочтения, и я никак не надеюсь прочесть до отъезда, ибо и без того дел много, и возьму с собой и пришлю, когда будет можно».
При этом еще замечу один знак нежной внимательности государя: записки мои с его надписями, и первая и вторая, были высланы мне не через 1-е отделение Собственной канцелярии, как в делах Совета всегда без изъятия делалось, а прямо в собственные руки, с его фельдъегерем. Государь явно изъявил этим волю свою оставить дело, так сказать, домашним и тайной между нами двумя. Подобные черты драгоценны для историка!
За всем тем это дело, начавшееся так для меня худо, хотя и без моей вины, должно было окончиться еще хуже, и на этот раз, к несчастью, уже прямо по моей вине.
Упомянутый выше проект, или, лучше сказать, целое собрание проектов, содержал в себе около 800 листов, и не видя, при страшной поспешности, никакого средства переписать их, по сделанным со стороны Совета поправкам и переменам, в маленькой государственной канцелярии, я просил Киселева возложить это на многочисленных его чиновников, но с тем, чтобы они приняли уже на себя и всю ответственность за верность переписки: ибо даже перечитать и проверить все эти огромные фолианты мне, среди множества других, тоже спешных занятий, не было никакой возможности. Киселев обещал исполнить это со всею точностью, а правителю его канцелярии при отдаче ему бумаг я повторил еще раз, что верность переписки обратится на личную и непосредственную его ответственность. Таким образом, будучи успокоен в этом отношении и получив переписанные проекты обратно лишь за два дня до поднесения их государю, когда нельзя уже было и помышлять о какой-нибудь поверке с моей стороны, я отправил их не читавши. Но государь, еще до своего отъезда, успел прочесть все и высылал мне тетради постепенно, с собственноручными поправками замеченных описок, которых было немало; наконец 1 мая, накануне выезда из Петербурга, он возвратил мне и последнюю тетрадь с надписью: «Много описок; кто поверял столь небрежно, посадить на сутки на гауптвахту».
Что было мне делать по этой резолюции, мне, который в звании государственного секретаря, ответственного за все, что происходит и делается в канцелярии Совета, хотя бы и другими, чувствовал и сознавал вполне свою вину в этом случае? Я поехал к графу Васильчикову, только за три недели перед тем, по смерти Новосильцева, назначенному председателем Совета; объяснил ему весь ход дела и просил довести до сведения государя, что в государственной канцелярии нет и не может быть никого виноватого, кроме одного меня; почему я и ожидаю дальнейших повелений его величества на мой счет. Граф в ту же минуту сам отправился к государю и вот что потом мне передал: государь крайне разгневан. Он не хотел принять никаких оправданий спешностию дела и множеством других проектов, также важных, которые были поднесены ему на этой же неделе и где не нашлось ни одной описки.
– Если Корф, – сказал он, – не успел приготовить и прочесть бумаг как следовало, то должен был мне донести, и я дал бы ему отсрочку, а в таком виде бумаг мне не представляют. Я люблю Корфа без души и сам его вывел, с ним никогда этого не случалось, а видно, он теперь подумал, что за скорым отъездом я только прогляжу бумаги и не стану их читать. Я доказал ему противное. Но именно потому, что этого никогда с ним не случалось, надо принять меры, чтоб это было и в первый и в последний раз.
– Уверяю вас, – продолжал Васильчиков, – что пришлось изрядно за вас повоевать, и лишь после многих доводов с моей стороны он решил сменить гнев на милость. Он приказал мне сделать вам завтра (это было в воскресенье, а день общего собрания Совета – в понедельник) замечание в присутствии Государственного Совета, но велел вместе пожурить и Киселева.








