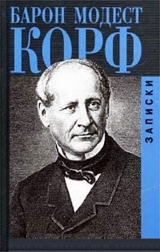
Текст книги "Записки"
Автор книги: Модест Корф
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 47 страниц)
* * *
В зиму с 1843 на 1844 год государь всякий почти вечер, по окончании своих занятий, играл в макао, большею частью с приближенными ко двору молодыми людьми: генералами князьями Лобановым-Ростовским и князем Суворовым, шталмейстером наследника цесаревича Толстым и проч. Раз случился тут и обер-шенк Рибопьер, человек домашний во дворце.
– Хорошо, – заметил он, – что вашего величества не видят за этой игрой Кавелин (военный генерал-губернатор) или Бенкендорф.
– Отчего же?
– Да ведь макао – запрещенная азартная игра.
– Почему она считается азартною?
– Потому что бескозырная.
– Ну, это еще не беда, я – сам козырь!
Так как государь никогда не носил при себе денег, то проигрыш его рассылался по принадлежности на другой день, при напечатанных по однообразной форме записках министра императорского двора князя Волконского.
* * *
В дворянской грамоте Екатерины II сказано было (ст. 19-я): «Подтверждаем благородным дозволение вступать в службы прочих европейских, нам союзных держав, и выезжать в чужие края». В 1798 году Павел I, при тогдашних политических обстоятельствах на западе, ограничил выезд русских подданных за границу, приказав сперва (июня 6-го) выдавать паспорта на такой выезд не иначе, как по предварительном ему о том докладе, а потом (22 июня) при выдаче сих паспортов объявлять получателям, что «уже они обратно впущены не будут». Александр I немедленно по вступлении на престол уничтожил все эти преграды, повелев (22 марта 1801 года) едущих за границу пропускать на основании прежних указаний.
Затем, в царствование императора Николая, хотя прямого запрещения выезжать из России не последовало, но после французской и бельгийской революции 1830 года, повлекшей за собой польскую, заграничные поездки вновь подвергнуты были весьма важным ограничениям. Прежде всего постановлено (18 февраля 1831 года), что русское юношество от 10 до 18 лет должно быть воспитываемо всегда в России, под лишением, в противном случае, права вступать в службу. Потом (17 апреля 1834 года) срок дозволенного пребывания русских подданных в чужих краях ограничен для дворян пятью, а для лиц прочих состояний тремя годами, с определением за просрочку важных политических и гражданских лишений. Далее (10 июля 1840 года) установлена значительная пошлина с заграничных паспортов. Наконец, указом 15 марта 1844 года, эта пошлина еще возвышена, и положены новые стеснения и в летах выезжающих, и в обряде выдачи паспортов.
Сверх общего нерасположения императора Николая к пребыванию русских, наиболее же молодых людей, за границей, непосредственным поводом к последнему постановлению послужило и несколько особенных случаев. Служивший при нашей миссии в Париже князь Гагарин, молодой человек, даровитый и трудолюбивый, вдруг вздумал, отказавшись от всех служебных видов и от надежд на значительное наследство, перейти в римско-католическую веру и поступить на послушание в один иезуитский монастырь в Бельгии, чтобы потом ехать в духовную миссию.
Два других молодых человека – князь Петр Долгоруков и Иван Головин, кончивший курс в Дерптском университете, но, впрочем, человек пустой, живя также в Париже, издали там две брошюры: первый, под псевдонимом «графа Альмагро», биографическую историю русских дворянских родов, последний, под анонимом «un Russe», – рассуждение о политической экономии. Долгоруков, представив со своей точки образ избрания на русский престол дома Романовых, откровенно рассказал происхождение о домашних тайнах некоторых высших наших фамилий, а Головин коснулся критически положения крепостного состояния в России.
Обе книги вызвали неудовольствие нашего правительства, и авторы их были потребованы восвояси. Долгорукова, немедленно явившегося по этому вызову, отправили на службу в Вятку[95]95
Долгоруков, известный в свете под прозвищем «le bancal» – Колченогий, быв потом выпущен в отставку, бросил свои прежние идеи и издал обширное и благонамеренное сочинение под заглавием: «Российская родословная книга».
[Закрыть]; но Головин уклонился от возвращения, сперва под предлогом болезни, а потом без всякого уже предлога, написав дерзкий ответ нашему министерству иностранных дел; за что, в один день с упомянутым выше постановлением 15 марта, дан был указ Сенату о предании его законному взысканию[96]96
Быв впоследствии лишен по суду прав русского подданства, с обращением его имения к наследникам, Головин скитался попеременно во Франции, Англии и Италии и добывал себе насущный хлеб множеством более или менее злобных памфлетов против русского правительства и всего русского. Книги эти, теперь давно полузабытые, в то время покупались и читались с жадностью и даже переводились на все языки именно оттого, что творцом их был русский эмигрант, которого партия красных и вообще ненавистников России провозглашала мучеником святого дела.
[Закрыть]. Наконец, некто Бакунин, молодой человек хорошей фамилии, которого дядя был сенатор, явно пристал в Париже к коммунистам и также отказался возвратиться в Россию.
Все это вместе побудило государя учредить особый комитет, из графа Нессельрода, графа Бенкендорфа и Перовского, для пересмотра правил о заграничных паспортах, и вследствие совещаний сего комитета или, лучше сказать, объявленной ему высочайшей воли, явилось постановление 15 марта 1844 года.
Не нужно прибавлять, какое прискорбное впечатление оно произвело в публике, тем более, что для множества лиц, по цене паспортов и другим условиям, равнялось совершенному запрещению выезда за границу. Многие сперва не хотели совсем верить его изданию, и в Петербурге разнесся даже слух, что громкие толки и пересуды побудили правительство взять новый закон назад. Но он был вскоре напечатан во всех газетах, чем и прекратились ложные ожидания, казавшиеся вероподобными лишь для не знавших близко характер императора Николая.
* * *
В начале весны 1844 года был экзамен великого князя Константина Николаевича, продолжавшийся несколько недель сряду, в присутствии, попеременно и по роду наук, князя Меншикова, графа Блудова, адмирала Грейга и некоторых других, преимущественно военных и морских чинов, а при испытаниях во всех важнейших предметах – и самого государя. На экзамене из русской истории, когда зашла речь об Александре Даниловиче Меншикове и великий князь отвечал, что он был одним из деятельнейших и ревностнейших сподвижников Петра Великого, государь вскричал: «Как? Так разве ты не знаешь, что он был обманщик, который обкрадывал и своего царя, и отечество!» (Потомка Меншикова при этом не было.) Вопросы коснулись также участи и кончины несчастного царевича Алексея Петровича, и великий князь рассказал эти события в том виде, как они представляются обыкновенно в наших учебниках.
– Так, – сказал государь, – так и надо преподавать эти предметы; но нам должно знать наши фамильные дела в истинном их виде. Обратись на этот счет к Блудову, и он расскажет тебе правду.
В руках графа Блудова, в числе исторических бумаг и документов, которые обыкновенно передавал ему император Николай, лишь только они где-либо были вновь открываемы, находились и полные акты этого таинственного процесса, сданные потом для хранения в государственный архив.
* * *
В марте умер в Париже, после продолжительной хронической болезни, князь Димитрий Владимирович Голицын, один из немногих вельмож прежнего времени, которых настоящее уже не производит. Прослужив до генерал-лейтенантского чина в Конногвардейском полку, участвовав с честью и отличием во всех войнах, начиная с польской 1794 года, Голицын окончил военное свое поприще в звании командира 2-го пехотного корпуса и с этого поста был назначен 6 января 1820 года Московским военным генерал-губернатором, которым оставался почти четверть века. В царствование императора Николая он был пожалован орденом св. Андрея (25 декабря 1825 года), алмазными знаками к этому ордену (в 1830 году), вензелевым изображением имени его величества на эполеты (в 1831 году) и украшенным алмазами портретом государя, для ношения в петлице. Наконец, в 1841 году (в день бракосочетания наследника цесаревича) ему присвоен был, потомственно, титул светлости, «в доказательство, – как говорил рескрипт, – постоянного к нему благоволения и совершенной признательности за долговременное, всегда полезное служение его престолу и отечеству, ознаменованное подвигами отличного мужества и храбрости во время войны и многими опытами пламенного усердия и примерной попечительности на пользу и благоустройство первопрестольной столицы в продолжение двадцатичетырехлетнего управления ею[97]97
Здесь редактор рескрипта впал в странную ошибку. В 1841 году минуло со времени назначения Голицына в Москву только 21 год.
[Закрыть] в звании главного начальника».
Москва действительно многим обязана была Голицыну. Он восстановил и украсил ее после пожара и бедствий 1812 года, и в шумливой «первопрестольной» столице нашей, этом пепелище остатков старинного боярства, смешанных с недоварившимися новыми идеями Запада и учениями славянофильства, умел всегда охранить, по крайней мере, внешний мир и тишину. Сверх того, он охотно становился во главе всякого доброго там предприятия и всякого полезного начинания.
Если в других отношениях долговременное управление его не ознаменовалось существеннейшими последствиями, то потому лишь, что никто не может идти далее круга и объема своих способностей. Как Воронцов был менее русский, нежели англичанин, так Голицын, получивший свое образование во Франции, воспитанник старинной французской школы со всеми ее фразами и общими местами, худо даже знавший наш язык, был более француз, нежели русский; при всем горячем патриотизме, мало знакомый с делами и мало ими занимавшийся, не всегда счастливый в выборе людей и окруженный всякими пронырами, либерал более на словах, а в существе приверженец всех предрассудков и поверий высшей касты, он не в силах был произвести ничего великого, монументального. Прекрасной наружности до конца дней, с приятными, хотя несколько надменными формами, с утонченным тоном самого высшего общества, доступный всякому, хотя и не всегда с пользою для просителя, Голицын был очень любим в Москве, хотя больше по старой привычке, по преданию, тою безотчетною любовью, которую русский человек исповедует к месту начальствующего, независимо от качеств лиц, лишь бы это был не тиран или не пошлый глупец.
Под конец своих дней Голицын, к сожалению, много уронил себя во мнении и Москвы, и вообще всей публики, через любовную связь с одною замужнею женщиною, которую он взял даже с собой за границу, поехав туда лечиться, но которая умерла на самых первых порах их путешествия еще в Берлине. Он был женат на родной сестре князя Васильчикова, одной из добродетельнейших женщин своего времени, сошедшей в гроб несколькими годами прежде него.
После смерти князя газеты наши наполнились, как и должно было предвидеть, «похвальными ему словами». В одной появилась подробная биография, с начислением даже всех его предков и родственников; в другой – история «незабвенных» его подвигов на пользу Московской столицы; в третьей был напечатан плач этой столицы о «великом» ее градоначальнике, и так далее; во всех в этом достойном, но отнюдь еще не великом сановнике, видели и восхваляли какого-то баснословного героя, не имевшего, казалось, ни одного порока, ни одного недостатка, даже ни одной слабости. Известное «о мертвых – ничего или хорошо» было тут приложено уже в слишком преувеличенных размерах. Между тем, современники умрут, предания исчезнут, в историю перейдут одни возгласы газетных статей, и Голицын станет в ней некогда наряду с полумифическими знаменитостями екатерининского века, занявшими свое историческое место, может быть, подобным же образом.
Замечательно, что покойный князь, хотя он при жизни своей был очень равнодушен к религиозным верованиям, смертью своею наиболее облагодетельствовал духовенство! Москва, вообще охотница молиться, разорилась на панихиды по нем. Они были: от имени всех сословий – в Чудовом монастыре; от чиновников генерал-губернаторской канцелярии – в Донском; от московских литераторов – там же, и притом в четверг, как день, в который бывали у князя литературные вечера; от градского общества – в церкви содержимого им Мещанского училища (с «поминальным» обедом на 250 человек).
Сверх того, было множество частных панихид; например, в городской больнице и в других заведениях, основанных в управление князя, и положено еще производить поминовение, в продолжение шести недель, от купечества – в сорока и от мещанства – в двенадцати церквах столицы! Купеческое общество, которое в 1830 году, по прекращении в Москве холеры, поднесло князю мраморный его бюст, после его смерти заказало его портрет для залы своих собраний, чему последовало и мещанское общество, сложившее, сверх того, при этом случае, с беднейших своих членов три тысячи рублей серебром подушной недоимки. Наконец, «в память усопшего» появились в Москве не только стихотворения, но и эмалированные траурные перстни и кольца.
Притворный голос массы всегда сильнее и громче частной искренности. В массе Москва рыдала, как бы потеряла любимого отца, и настал последний ее день, а на вопрос каждому порознь слышался нередко ответ: «Дай Бог, чтобы при новом было лучше, а пора уже было!..»
17 мая тело покойного было ввезено в Москву, а 19-го погребено внутри церкви Донского монастыря, по особенному, высочайше утвержденному, церемониалу. Для поставления к телу часовых, по приказанию государя, отправлена была из Петербурга на почтовых команда с офицером от Орденского кирасирского полка, которого покойный был шефом.
* * *
Цензура есть, несомненно, вещь столько же необходимая и благотворная в каждом благоустроенном обществе, сколько, с другой стороны, трудная, деликатная и требующая в цензоре высшего образования, в особенности же высшего такта, чтобы избежать всякой нелепой крайности. В царствование императора Николая цензура часто и много грешила, то пропуская статьи с самым дурным и опасным направлением, то впадая именно в сказанные крайности. Вот два бесподобных анекдота, относящихся к действиям ее в 1844 году.
1) В Париже обанкротился один банкирский дом, в котором лишились значительных сумм певец Тамбурини и папа. В переводе статей о том из иностранных газет цензура зачеркнула папу, найдя неприличным ставить имя главы римско-католической церкви наряду с оперным артистом.
2) В газетах наших при объявлении о любском пароходстве на 1844 год возвещено было, что пароход «Николай» отправится в третью субботу мая месяца, «Александра» – во вторую и «Наследник» – в первую. «Отчего же, – спрашивали многие, – так изменен тут естественный порядок и говорится о времени отправления третьего парохода прежде второго, а второго прежде первого?» Оттого, что цензура не допустила назвать наследника прежде императрицы и императрицу прежде государя!
* * *
Неотступные настояния графа Канкрина и совершенный упадок его сил решили наконец императора Николая отпустить его на покой. Указом 1 мая 1844 года он «по неоднократным его просьбам» был уволен от звания министра финансов, с оставлением членом Государственного Совета и при особе его величества, а другим указом, того же числа, повелено товарищу его Вронченко быть «статс-секретарем, управляющим министерством финансов». Таким образом, один из первых и замечательных деятелей нашей эпохи сошел с политического поприща, а место его заступил, вопреки всем предвидениям и, конечно, своим собственным, такой человек, которому, как, по крайней мере, многие в то время думали, надлежало бы, по дарованиям, образу жизни, формам и самому даже нравственному поведению, окончить свой век во второстепенном разряде подчиненных должностей. Но почему же, – спрашивали те же недовольные, – если уже Вронченко окончательно назначен на место уволенного Канкрина, не назвали его прямо министром финансов? Этому, кажется, был причиною сам Вронченко, который, к чести его должно сказать, продолжал постоянно уклоняться от принятия на себя звания министра. Государь успокаивал его тем, что он и впредь останется товарищем, только у другого министра, которым будет сам государь.
Канкрину пожалован был на прощанье рескрипт, и он вслед за тем уехал в чужие края. В публике все единодушно сожалели о добром старике, боясь, что недолго ждать до того времени, когда придется сожалеть в нем и гениального министра, и что преемник его скоро приблизит наступление этой эпохи. Канкрин 21 год управлял русскими финансами и вынес на своих могучих плечах бремя нескольких тяжких войн, нескольких повсеместных неурожаев, холеры, в первом появлении ее столь поразительно ужасной, и разных других народных бедствий. Ближайшая характеристика его находится в сочинении моем «Император Николай в совещательных собраниях».
XI
1844 год
Кончина графа П. К. Эссена – Два высочайших повеления о городских экипажах и лошадях – Граф Петр Александрович Толстой – Граф А. Х. Бенкендорф – Граф Воронцов и Ермолов – почетные члены английского клуба – Князь Александр Николаевич Голицын – Несколько подробностей о Сперанском – Вор, забравшийся к камер-юнгфере Карповой – Новые каски военных, белые брюки статских
В субботу, 23 сентября, умер на 73-м году от роду граф Петр Кириллович Эссен, остававшийся, со времени увольнения его от звания С.-Петербургского военного генерал-губернатора, только рядовым членом Государственного Совета. Совершенно здоровый, он в этот же самый день ездил еще со двора и, воротясь домой часу во 2-м пополудни, позвал повара для рассуждений об обеде на воскресенье, к которому ожидал гостей, а потом велел попросить к себе племянника, жившего в том же самом доме, чтобы сыграть с ним партию в бильярд. Но когда племянник вошел через несколько минут в комнату, старика не было уже на свете. Он сидел мертвый в креслах, с головою, приникнувшею к столу. Отличительными чертами его, как я говорил уже прежде, были добросердечие, личная честность и безмерная ограниченность ума, и если под «нищими духом» разумеется в Священном Писании соединение этих качеств, то никто более Эссена не имел права на Царствие Небесное.
Теперь прибавлю только два анекдота, которые рассказывали в Совете при разнесшейся вести о его кончине. 1) Нередко случалось, что, по прочтении графу правителем его канцелярии Оводовым бумаг и по выслушании им каждой с полным, по-видимому, вниманием, он спрашивал: «А что, эту мне надо подписывать, или она ко мне писана?» 2) Эссен жаловался как-то раз графу Блудову, что худо понимает дела при слушании беглого их чтения в Совете.
– Да ведь против этого есть средство, – возразил Блудов, – стоит вам только вперед прочитывать раздаваемые нам печатные записки.
– Пробовал, – отвечал простодушный старик, – но в том-то и беда, что когда я примусь их читать, то еще хуже понимаю, чем при слушании в Совете.
Император Николай почтил память старого и, по крайнему разумению, всегда верного слуги присутствием своим при печальном обряде. Отпевание происходило в Троицкой церкви Измайловского полка; после чего тело отвезено было в имение покойного в Орловской губернии.
* * *
Однажды в сентябре государю встретился на улице один только что женившийся на очень богатой девице, несносно заносчивый и, впрочем, совершенно ничтожный вертопрах, который уже давно был на его замечании. Молодой, числившийся где-то в службе с очень еще маленьким чином, ехал в карсте, запряженной великолепнейшею четвернею, с двумя лакеями в такой пышной ливрее, какой не было ни у кого из первых наших вельмож. Вслед за тем появился во всех газетах циркуляр министра внутренних дел Перовского, что «государь император, вследствие дошедших до его величества сведений об употреблении некоторыми из служащих лиц количества упряжных лошадей в городских экипажах и ливрей, присвоенных высшим классам, высочайше повелеть соизволил сообщить всем министрам о подтверждении служащим по каждому ведомству не отступать от постановлений, изложенных в ст. 936, тома III, уст. о службе гражд.»
Разумеется, что это повеление возбудило множество толков и пересудов в нашей публике, для которой подобные посягательства на мелочные внешности тщеславия иногда кажутся важнее нарушения самых существенных прав. Но всего досаднее было на Перовского, который, приняв повеление от государя в общих, без сомнения, словах, не умел выразить его лучше, как ссылкою на статью, Бог знает как попавшую в Свод, потому что она основана на старинных узаконениях (1775 года), уже не соответствующих нынешним обычаям и даже роду упряжи. Там, например, говорится о том, что только особам первых двух классов позволяется ездить с вершниками, что только первые пять классов могут ездить шестернею и проч., тогда как все это вышло у нас из употребления уже целые полвека.
Городские толки, вероятно, вскоре дошли до государя, ибо с небольшим через месяц после сказанного повеления явилось в отмену его другое: «Чтобы употребление количества лошадей в экипажах оставить сообразно надобности и принятым обычаям, относя прежде объявленную высочайшую волю только к ливреям». Государь сказывал потом многим приближенным, что Перовский не понял его и что мысль его всегда относилась только к ливреям. Таким образом, неловкость или непонятливость министра дали повод сперва к насмешливым пересудам, а потом, как бы в виде уступки сим последним, к отмене едва только объявленной высочайшей воли.
* * *
Под конец царствования императора Александра жил в Москве полузабытый, хотя и андреевский кавалер, полный генерал с 1814 года и некогда посол наш в Париже, граф Петр Александрович Толстой. В начале следующего царствования он был вызван в Петербург, назначен главным начальником военных поселений (после Аракчеева) и посажен во все возможные советы и высшие комитеты. Император Николай вскоре, однако же, убедился в его малоспособности. Толстой, которого имя попалось теперь под мое перо по случаю скоропостижной смерти его в сентябре 1844 года, не имел, при некоторой остроте ума, ни основательных суждений, ни высшего взгляда, ни образования государственного человека; главное же, подавлявшее в нем все другие, свойство было неописуемое равнодушие ко всем делам, соединенное с образцовой, можно сказать, баснословной леностью. И в мыслях его, и во всегдашнем их выражении самые важнейшие вопросы и дела составляли лишь «плевое дело» и, знав его с 1831 года по множеству совещательных собраний, я не видел никогда ни одного предмета, который удостоился бы его внимания, даже и минутного. Этой леностью и общим презрением к делам он был в особенности несносен для принужденных иметь с ним ближайшие сношения по службе. Когда он занимал, по титулу, должность председателя военного департамента в Государственном Совете, мне как государственному секретарю бывали величайшие с ним мучения. Хотя в этот департамент приходило всего каких-нибудь пять или шесть дел в год, однако и те залеживались по несколько месяцев, потому что не было никакой возможности допроситься от Толстого заседания, и на все мои убеждения всегдашним его ответом было: «Это, батюшка, плевое дело, и черт ли, что оно пролежит лишний месяц!»
Последние годы своей жизни Толстой проводил опять постоянно в Москве или в подмосковном своем имении Узком, имев позволение не приезжать в Петербург и занимаясь страстно цветами – единственной вещью в мире, которую он не считал «плевым делом».
Впрочем, сказав до сих пор одно невыгодное о Толстом, не могу, по справедливости, не коснуться и блестящей его стороны, именно военных его подвигов. В этом отношении он сделался известным еще при Екатерине, находившись при штурме Праги, при взятии Варшавы и в славном Мациовецком деле, где взят был Костюшко. Военные реляции того времени с отличием упоминают о полковнике графе Толстом, и он, 24 лет от роду, был украшен орденом св. Георгия 3-й степени из собственных рук императрицы. В знаменитом итальянском походе 1799 года Толстой участвовал уже в звании генерал-адъютанта императора Павла; потом, при императоре Александре, занимав недолго пост С.-Петербургского военного генерал-губернатора, в 1805 году был отправлен начальником десантного войска в шведскую Померанию и в Ганновер и находился в сражении при Прейсиш-Эйлау в качестве дежурного генерала. Тут следовало посольство, вскоре после Тильзитского мира, в Париже, где граф оставался до отъезда Наполеона в Эрфурт. В 1812 году он командовал военной силой в шести губерниях, в 1813 и 1814 годах участвовал в заграничных кампаниях и потом, в последние годы Александра I, командовал 5-м пехотным корпусом, расположенным в то время в Москве.
Наконец при императоре Николае, по отбытии его в турецкую кампанию 1828 года, Толстой назначен был главнокомандующим Петербургскою столицей и Кронштадтом и в 1831 году, в Польский мятеж, заключил военное свое поприще в звании главнокомандовавшего резервной армией в Виленской губернии.
Должно думать, что он в то время был не так равнодушен, беспечен и ленив, как по переходе к гражданским обязанностям.
* * *
11 сентября 1844 года умер на пароходе, на высоте острова Даго, при возвратном переезде из чужих краев в Эстляндскую свою мызу Фалль генерал-адъютант, граф Александр Христофорович Бенкендорф. Смерть его в ту эпоху была окончательным закатом давно уже померкшего за облаками солнца!..
Потомок древней эстляндской фамилии, сам заслуженный генерал-аншеф, отец Александра Христофоровича был женат на баронессе Шиллинг фон Капштадт, в которой покойная императрица Мария Федоровна принимала какое-то старинное фамильное участие. Молодой Бенкендорф, вступив в 1798 году юнкером в лейб-гвардии Семеновский полк, в том же году, еще 14 лет от роду, был произведен в офицеры и пожалован флигель-адъютантом. Дальнейшая карьера его была довольно обыкновенна, и если блестящие внешние формы доставляли ему иногда командировки к разным иностранным дворам, то, однако же, больше этого он не употреблялся ни на что самостоятельное по службе. На военном собственно поприще, он, как отличный кавалерист, действовал преимущественно в аванпостных делах; но подвиги его, кроме доказательств большой личной храбрости, также не представляют ничего исторического[98]98
Император Александр II написал: «Несправедливо; он командовал с большим отличием отдельными отрядами и в особенности ознаменовал себя в 1813 и 1814 годах».
[Закрыть].
В 1819 году Александр I назначил его начальником штаба гвардейского корпуса – пост, который он удержал за собою недолго. Уже через два года его перевели начальником 1-й кирасирской дивизии, и в этом звании застал его, при вступлении на престол, император Николай. С сей собственно поры начинается блестящая и самобытная карьера Бенкендорфа. 25 июня 1826 года он вдруг возведен был в звание шефа жандармов, командующего императорскою главною квартирою и главного начальника учрежденного в то время III-го отделения собственной полиции и вместе на степень приближеннейшего к императору лица. Ни это важное назначение, ни все милости, которыми государь постоянно его взыскивал (пожалование графского титула, всех высших орденов и значительных денежных сумм), не могли сделать из благородного и достойного, но обыкновенного человека – гения. В изданных за границею в 1842 году впечатлениях какого-то французского туриста был помещен следующий портрет Бенкендорфа, который я тогда же для себя перевел:
«Черты графа Бенкендорфа носят на себе отпечаток истинного добросердечия и самой благородной души. В занимаемой им высокой должности, где в одних его руках лежит решение вопросов, покрытых величайшею тайною, характер его представляет лучшее ручательство для всякого, кого судьба ставит в соотношение с ним. За то его вообще гораздо больше любят, чем боятся. Пять лет тому назад, во время вынесенной им опасной болезни, дом его непрерывно был наполнен людьми всех состояний, которые, с живым участием и беспокойством, стекались отовсюду наведываться о его положении. Император посещал тогда графа ежедневно. В одно из таких свиданий, когда опасность была на высшей степени, император с глубоким умилением пожимал ему руку.
– Государь, – сказал больной, – я могу умереть спокойно: эта толпа, которая ждет и спрашивает известий обо мне, будет моею предстательницею; в ней – сознание моей совести!
«Граф имел наружность совершенно немецкую; ловкий и предупредительный с дамами, он вместе и деловой и светский человек».
Впоследствии, по кончине уже графа, некрологическая статья о нем в наших газетах начиналась следующими словами: «В лице его Государь лишился верного и преданного слуги, отечество лишилось полезного и достойного сына, человечество – усердного поборника!» Все это, т. е. и чужие и свои вести, отчасти справедливы, но именно только отчасти. Вместо героя прямоты и праводушия, каким представлен здесь Бенкендорф, он, в сущности, был более отрицательно-добрым человеком, под именем которого совершалось, наряду со многим добром, и немало самоуправства и зла. Без знания дела, без охоты к занятиям, отличавшийся особенно беспамятством и вечною рассеянностью, которая многократно давала повод к разным анекдотам, очень забавным для слушателей или свидетелей, но отнюдь не для тех, кто бывал их жертвою, наконец, без меры преданный женщинам, он никогда не был ни деловым, ни дельным человеком и всегда являлся орудием лиц, его окружавших. Сидев с ним четыре года в Комитете министров и десять лет в Государственном Совете, я ни единожды не слышал его голоса ни по одному делу, хотя многие приходили от него самого, а другие должны были интересовать его лично[99]99
Считаю долгом заметить здесь, что отношения ко мне графа были всегда самые приязненные, и между нами не случилось ни одной неприятности; следственно, в этом очерке его портрета я руководствуюсь не каким-либо предубеждением против него, а одним голосом истины, может быть, даже еще с некоторым послаблением в его пользу.
[Закрыть].
Часто случалось, что он после заседания, в котором присутствовал от начала до конца, спрашивал меня, чем решено такое-то из внесенных им представлений, как бы его лица совсем тут и не было.
Однажды в Государственном Совете министр юстиции, граф Панин, произносил очень длинную речь. Когда она продолжалась уже с полчаса, Бенкендорф обернулся к соседу своему, графу Орлову, с восклицанием:
– Черт возьми! Вот так речь!
– Помилуй, братец, да разве ты не слышишь, что он полчаса говорит – против тебя!
– В самом деле? – отвечал Бенкендорф, который тут только понял, что речь Панина есть ответ и возражение на его представление.
Через пять минут, посмотрев на часы, он сказал: «Теперь прощай, мне пора идти к императору», – и оставил другим членам распутывать спор его с Паниным по их усмотрению.
Подобные анекдоты бывали с ним беспрестанно, и от этого он нередко вредил тем, кому имел намерение помочь, после сам не понимая, как случилось противное его видам и желанию. Должно еще прибавить, что при очень приятных формах, при чем-то рыцарском в тоне и словах и при довольно живом светском разговоре он имел самое лишь поверхностное образование, ничему не учился, ничего не читал и даже никакой грамоты не знал порядочно, чему могут служить свидетельством все сохранившиеся французские и немецкие автографы его и его подпись на русских бумагах, в которой он только в самые последние годы своей жизни перестал – вероятно, по добросовестному намеку какого либо приближенного – писаться «покорнейшей слуга».
Верным и преданным слугою своему царю Бенкендорф был, конечно, в полном и высшем смысле слова и преднамеренно не делал никому зла; но полезным он мог быть только в той степени, в какой сие соответствовало видам и внушениям окружавших его, ибо личной воли имел он не более, чем дарования или высших взглядов. Словом, как он был человек более отрицательно-добрый, так и польза от него была исключительно отрицательная: та, что место, облеченное такою огромною властью, занимал он, с парализировавшею его апатиею, а не другой кто, не только менее его добрый, но и просто стремившийся действовать и отличиться. Имя его, правда, стояло всегда во главе всех промышленных и спекулятивных предприятий той же эпохи; он был директором всех возможных акционерных компаний и учредителем многих из них; и все это делалось не по влечению к славе, не по одному желанию общего добра, а более от того, что все спекуляторы, все общества сами обращались преимущественно к графу, для приобретения себе в нем сильного покровителя. В жизни своей он много раз значительно обогащался, потом опять расточал все приобретенное и при конце дней оставил дела свои в самом жалком положении.








