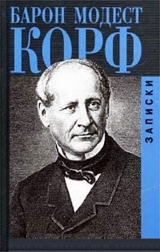
Текст книги "Записки"
Автор книги: Модест Корф
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 47 страниц)
– Что касается до меня, – продолжал его высочество, отступив на шаг, – то я с самого детства привык любить и уважать ваше почтенное сословие и потому считаю себя счастливым, что могу передать вам эти милостивые отзывы государя, которые верно останутся в сердцах у всех и побудят каждого стараться еще более заслужить его милость и благоволение.
Вслед за этим приветом цесаревич начал подходить порознь к каждому из присутствовавших (их называл ему поименно губернский предводитель) и каждому сказал несколько благоволительных слов или сделал несколько вопросов и, обойдя всех, возвратился снова к старшему летами и званием, отставному действительному тайному советнику графу Тизенгаузену и повторил ему, сколько считает себя счастливым, что мог передать дворянству милостивый отзыв государя.
Надо было видеть после этого общий восторг, упоение, слезы преданных от души императорскому дому дворян. Худо понимавшим по-русски (их было очень немного) переводили другие, и все кричали, что эти золотые слова надо записать на память потомству; все спешили передавать их собравшимся перед дворцом дамам, а я, растроганный до глубины души, тотчас по возвращении домой положил слышанную нами речь на бумагу и, отсылая ее к цесаревичу, выразил в докладной моей записке те общие чувства, изъявления которых был свидетелем. Моя бумага возвратилась со следующей собственноручной надписью его высочества: «Повторяю, что я счастлив, что мог передать слова государя сословию, которое столь достойно его милостей и еще более теперь радуюсь: ибо вижу, что их поняли. – Вами написанное совершенно выражает мою мысль и слова, сколько сам могу припомнить».
На другой день, за обедом во дворце, цесаревич, упомянув о своей речи, велел губернскому предводителю обратиться ко мне, чтобы внести ее в протоколы дворянства по моему изложению. Исполняя сие, я присовокупил в моем сообщении и надпись его высочества на моей записке, как содержавшую в себе вновь столь лестный для дворянства отзыв.
* * *
10 августа Ревель был осчастливлен новым царственным посещением. Прибыла императрица, провожавшая до сего города, вместе с великими князьями Николаем и Михаилом Николаевичами, великую княгиню Ольгу Николаевну, которая с супругом своим возвращалась в Германию. Августейшую гостью нашу встретили цветами, песнями, иллюминациями, фейерверками, факельными процессиями и всеобщим восторгом. Она, со своей стороны, с ее ангельской добротой, с видом радости и веселья, с улыбкой и лаской для каждого, очаровала всех в этом преданном, давно не видавшем ее населения. «Wie ist Sie noch so schon und wie ist Sie gut!» – раздавалось со всех сторон в густых толпах, везде ее окружавших и за нею следовавших, и все сердца – говоря не газетным языком, а в виденной мной истине, – летели ей навстречу!
Днем выезда из Ревеля обратно в Петербург императрица с цесаревной и прочими царственными гостями назначили 16 августа; но этому дню суждено еще было омрачиться одним горестным известием, тем более поразительным, что никто не мог его ожидать или предвидеть. Прежде отправления в путь (со свитой на четырех пароходах) императрица пожелала взглянуть днем на местность, на которой ей был дан от города праздник, накануне вечером, при тысяче огней. Пока она с цесаревной ездила туда, во дворец, где мы все собрались, чтобы откланяться, прискакал фельдъегерь из Варшавы. Что нового? Ужасные вести. Великий князь Михаил Павлович присутствовал на учении верхом, вдруг почувствовал себя очень дурно и едва успел закричать, чтобы его сняли с лошади, как его разбил паралич, мгновенно отнявший употребление языка и движение руки и ноги. Государь провел три часа у его изголовья, ему пустили кровь; но вечером, при отправлении фельдъегеря, хотя положение больного и было несколько лучше, однако врачи все еще не подавали надежды…
Между тем как мы расспрашивали фельдъегеря о подробностях, подъезжает возвращающаяся императрица и посреди букетов цветов, подносимых ей со всех сторон, вступает в сени, где мы ожидали, приветствует всех на прощанье, с обычной своей милостью и, радостно приняв подаваемое ей фельдъегерем письмо от государя, спешит с ним наверх. Но едва прошло несколько минут, как уже бегут со всех сторон за докторами. Что такое? Что случилось? Письмо государево извещало, что графиня Нессельроде умерла от удара и что «Michel» тоже на последнем издыхании от такого же удара, который случился с ним сегодня утром.
Императрица, от того ли, что имя было неразборчиво написано, или от волнения своего материнского сердца, беспрестанно тревожившегося за отсутствовавшего великого князя Константина Николаевича, прочла вместо «Michel» «Костя» и при этом страшном известии (она читала письмо стоя) упала всем телом навзничь, почти без чувства…
Благодаря Бога, это падение не имело дальнейших последствий. Ее тотчас удостоверили в ее ошибке и через каких-нибудь четверть часа силы императрицы уже возвратились в такой степени, что она могла отправиться в путь, причем опять с необыкновенной твердостью духа, как бы ничего не случилось, приветствовала нас ласковым прощальным взглядом и словом. Спустя несколько часов пароходы, увозившие дорогих наших гостей, скрылись из вида, и Екатеринтальский дворец снова опустел.
* * *
Умершая скоропостижно в Гаштейне графиня Мария Дмитриевна Нессельрод, статс-дама и кавалерственная дама, супруга государственного канцлера, дочь покойного министра финансов графа Гурьева и сестра члена Государственного Совета, по необыкновенному уму своему и высокому просвещению и особенно по твердому, железному характеру, была конечно, одной из примечательнейших, а по общественному своему положению и влиянию на высший Петербургский круг, одной из значительнейших наших дам в царствование императора Николая. С суровой наружностью, с холодным и даже презрительным высокомерием ко всем мало ей знакомым или приходившимся ей не по нраву, с решительной наклонностью владычествовать и первенствовать, наконец, с нескрываемым пренебрежением ко всякой личной пошлости или ничтожности, она имела очень мало настоящих друзей и в обществе, хотя, созидая и разрушая репутации, она влекла всегда за собой многочисленную толпу последователей и поклонников; ее, в противоположность графу Бенкендорфу, гораздо больше боялись, нежели любили. Кто видел ее только в ее гостиной прислоненной к углу дивана, в полулежачем положении, едва приметным движением головы встречающей входящих, каково бы ни было их положение в свете, тот не мог составить себе никакого понятия об этой необыкновенной женщине, или разве получал о ней одно понятие самое невыгодное.
Сокровища ее ума и сердца, очень теплого под этой ледяной оболочкой, открывались только для тех, которых она удостаивала своей приязнью; этому небольшому кругу избранных, составлявших для нее, так сказать, общество в обществе, она являлась уже, везде и во всех случаях, самым верным, надежным и горячим, а по положению своему, и могущественным другом. Сколько вражда ее была ужасна и опасна, столько и дружба – я испытал это на себе многие годы – неизменна, заботлива, охранительна, иногда даже до ослепления и пристрастия.
Совершенный мужчина по характеру и вкусам, частью и по занятиям, почти и по наружности, она, казалось, преднамеренно отклоняла и отвергала от себя все, имевшее вид женственности. Так и самый разговор ее вращался всегда в предметах, обыкновенно находящихся вне круга дамских бесед. Она любила говорить о серьезной литературе, о высшей администрации и политике, – более, однако, внутренней, чтобы не компрометировать случайно своего мужа, – о государственных наших людях, о действиях правительства и о новых его постановлениях, соединяя в себе, впрочем, две противоположности: беспредельную преданность не только монархическому началу, но и царственному нашему дому, с самой взыскательной оппозицией против распоряжений правительства и даже против личных действий его членов, так что великий князь Михаил Павлович, никогда не жаловавший графини, говоря о ней, называл ее в шутку: Ce bon Monsieur de Robespierre. При большой резкости в мнениях и приговорах, графиня была большей частью основательна в своих суждениях и чрезвычайно счастлива на меткие слова, умные наблюдения, тонкие и оригинальные замечания. Но все это она оставляла для своего тесного кружка, а в свете сохраняла редко прерываемое молчание и самое аристократическое спокойствие.
Салон графини Нессельрод, после смерти соперничествовавшего с ней в этом отношении князя Кочубея, был неоспоримо первым в С.-Петербурге; попасть в него, при его исключительности, представляло трудную задачу; удержаться в нем, при разборчивости и уничижительной гордости хозяйки, было почти еще мудренее; но кто водворился в нем, тому это служило открытым пропуском во весь высший круг. В некоторые зимы она принимала ежедневно; но два приемные дня в неделю были уже постоянно, и только в зиму с 1849 на 1850 год[210]210
Император Александр II заметил: «с 1848 на 1849 год».
[Закрыть] графиня, как бы в намерении дать нам привыкнуть к близкому закрытию ее гостиной навсегда, прекратила общие свои приемы.
XIX
Кончина и погребение великого князя Михаила Павловича – Учреждение секретного правительственного комитета по случаю отсутствия из Петербурга государя и наследника цесаревича – Обед в Царскосельском дворце и разговоры государя – Игра в карты – Смерть Бутурлина и назначение, вместо него, в секретный цензурный комитет Анненкова – Разговоры государя за обедом: о солдатах из поляков и о Публичной библиотеке – Разговоры о Герцене, Сазонове и проч. – Окончание дела Петрашевского – Толки о назначении, за болезнью графа Уварова, нового министра народного просвещения
28 августа кончил земную жизнь свою благороднейший, преданнейший, ревностнейший к своему долгу из людей: 51 года и 7 месяцев от рождения, опочил в Бозе великий князь Михаил Павлович, младший из четырех внуков Екатерины и сыновей Павла, в той самой Варшаве, к которой он так был привязан воспоминаниями об обожаемом им брате, цесаревиче Константине Павловиче. Из четырех братьев пережил один только император Николай, и все три, предшедшие ему, скончались вне Петербурга.
Отступая здесь несколько от порядка чисел, перейду сперва к аудиенции, которою почтил меня 4 сентября в Царском Селе, куда я переехал на осень из Ревеля, наследник цесаревич, возвратившийся из Варшавы в ночь с 31 августа на 1 сентября.
– Какое печальное возвращение! – были первыми словами его высочества, и потом весь разговор обращался все около того же предмета.
– Я лично безмерно потерял с кончиною великого князя, – сказал я между прочим, – он особенно меня жаловал и нередко удостаивал имени своего друга.
– Да, я давно знаю, что он вас чрезвычайно любил.
– Но, ваше высочество, какую сердечную любовь, какое благоговение он питал к вам! Я не раз слышал от него: Бог, отняв у меня Константина Павловича, послал мне взамен Александра Николаевича; а при известном его обожании к покойному цесаревичу это слово значило все.
Наследник прослезился, что повторялось не раз во время нашей беседы.
– Драгоценнейшим для меня подарком от государя, – сказал он, – было поручение мне теперь военно-учебных заведений, потому что я знаю, как покойный их любил; впрочем, и об этом, и о поручении мне гвардейского корпуса[211]211
Михаил Павлович был, между прочим, главным начальником военно-учебных заведений и главнокомандующим гвардейским и гренадерским корпусами, и обе эти должности, по кончине его, перешли к наследнику цесаревичу.
[Закрыть] отдано будет в приказах уже только после похорон. А знаете ли, какой бесподобный приказ отдал Ростовцов по корпусам? Я вам его дам.
И, вынув экземпляр из лежавшего на столе портфеля, его высочество громко его прочел и потом мне вручил[212]212
Его высочество назвал приказ отданным Ростовцовым, хотя последний занимал только пост начальника штаба, а приказ был подписан исправлявшим должность главного начальника военно-учебных заведений, Клингенбергом; но все знали, что этот добрый и почтенный, но в то время уже едва двигавшийся старичок представлял тут одну подписывавшую машину.
[Закрыть].
– А вот, – продолжал он, указывая на лежавшую возле портфеля почти до конца докуренную сигару в фарфоровом мундштучке, – вот последняя сигара, выкуренная им перед тем, как отправляться на тот смотр, после которого ему уже не суждено было вставать.
Речь коснулась, естественно, и государя и снедавшей его печали.
– Что всего ужаснее, – сказал цесаревич, – это idee fixe, преследующая теперь государя, именно, что этой смертью нарушен закон природы, т. е. Михаил Павлович обошел его в очереди, следственно, и ему недолго уже остается жить.
– Избави Боже, – вырвалось у меня, но прежде, чем я успел выговорить, то же самое восклицание произнес и цесаревич.
Я не раскаивался в моем слове: Александр Николаевич был не таким сыном и не таким наследником, перед которым нельзя было бы дать воли чувствам своим к его отцу…
– Теперь, – продолжал он, – государю необходим некоторый покой, и он приказал, чтобы, до времени, доклады министров принимал и дела оканчивал я.
Обстоятельство, что все три брата кончили жизнь свою вне Петербурга и что Михаилу Павловичу суждено было умереть именно в Варшаве, поразило также и государя и цесаревича.
– Сколько, – заметил наследник, – он рассказывал мне и любил всегда рассказывать про Варшаву, да вы и сами это знаете по всему тому, что он рассказывал вам.
В заключение его высочество передал мне многое и о болезни и кончине покойного.
– 11 августа, – говорил он, – по вечеру приехал Костя[213]213
Великий князь Константин Николаевич, возвратившийся в это время в Варшаву из Венгрии.
[Закрыть] и был у Михаила Павловича, который очень долго расспрашивал его о подробностях кампании, а 12-го утром мы все втроем сошлись у государя[214]214
Император Александр II написал: «у меня, а вскоре пришел и государь».
[Закрыть], где продолжался опять тот же разговор. Михаил Павлович казался очень веселым и, смеясь над докторами, которые в Петербурге всячески отговаривали его не пускаться в далекий путь, до Варшавы, говорил, что, напротив, поездка вышла для него чрезвычайно полезна, и что он уже многие годы не чувствовал себя так хорошо, как теперь. Потом он вместе с Костею отправился смотреть один из полков[215]215
Император Александр II написал: «7-ю легкую кавалерийскую дивизию, принадлежавшую к гренадерскому корпусу».
[Закрыть], а я пошел гулять пешком. На прогулке вижу вдруг скачущего верхом, прямо ко мне, адъютанта генерала Витовтова[216]216
В то время начальника штаба гвардейского и гренадерского корпусов.
[Закрыть].
– Что такое?
– Великому князю Михаилу Павловичу сделалось очень дурно, и его отвезли без памяти во дворец.
Адъютант предложил мне свою лошадь, и я поскакал в Бельведер, где, при лежавшем без чувств великом князе, нашел уже государя. На смотру, едва проехав несколько шагов, великий князь обернулся к ехавшему за ним командиру гренадерского корпуса Муравьеву, со словами:
– Что это, я как будто не чувствую своей руки.
Муравьев сжал его руку выше указанного места.
– А здесь, ваше высочество?
– И здесь тоже.
– В таком случае вам лучше бы сойти с лошади.
Великий князь хотел послушаться, но уже не мог пошевелить и ноги. Тогда его сняли с лошади окружавшие, но он упал к ним на руки без чувств. Кровопускание[217]217
Кровопусканием этим, кажется, несколько запоздали. По крайней мере, впоследствии великая княгиня Елена Павловна рассказывала мне, что случившийся тут полковой врач хотел тотчас же открыть кровь, но сбежавшиеся старшие доктора тому воспротивились, говоря, что надо сперва убедиться: не есть ли этот удар – нервный. Оттого кровь пустили больному уже только по перевезении его в Бельведер.
[Закрыть] возвратило ему, кажется, память, но не могло развязать языка, которым он шевелил только с величайшим трудом, произнося лишь изредка самые короткие и едва внятные слова. Видно было, что он всех узнавал, все слышал, даже все понимал, но не мог выразить своих мыслей и на это досадовал. Несколько дней позже, я пришел рассказать ему о новом успехе наших армий. Лицо его оживилось чрезвычайною радостью. Он жадно меня слушал, но мог только спросить: «Кто командует?» Положение его с самой первой минуты было безнадежною агониею. Великую княгиню Елену Павловну и Екатерину Михайловну[218]218
Они, по известию об опасном положении великого князя, поспешили прибыть в Варшаву с острова Рюгена, где находились в то время для пользования морскими купальнями.
[Закрыть] впустили к нему за два дня до кончины. Мне рассказывали, что он и тут видимо обрадовался и даже будто бы говорил: «merci», а потом – «Катя». Доктора уверяли, что он должен очень мучиться, но я не замечал в нем признаков страданий. Наружность его, правда, очень изменилась, но больше от выросшей бороды. Когда, после смерти, его выбрили и вымыли, я нашел, что лицо его сделалось опять прежним.
В дополнение к этому мне были рассказаны потом еще некоторые подробности другими очевидцами. Великий князь скончался 28 числа в 2 1/2 часа дня пополудни, в тот самый час, когда за 16 дней перед тем был поражен апоплексическим ударом и через 18 лет после торжественного вступления своего, во главе гвардейского корпуса, в павшую перед нашим оружием Варшаву. После кончины лицо его приняло вид чрезвычайного спокойствия и доброты. В 6 часов вечера была первая панихида, после которой государь остался в комнате, для прощанья с телом, один с цесаревичем. По удалении их, впущены были вся свита, генерал-адъютанты, флигель-адъютанты и проч., каждый кланялся в землю и прикладывался к плечу покойного. Великая княгиня и дочь ее, во время болезни умиравшего и при его кончине, явили много твердости духа и религии.
Государь был, как всегда, бесподобен. Он сидел при брате по часам, навещая его притом беспрестанно, и днем и ночью, из Лазенок, места своего пребывания, в Бельведер, где больной умирал… Во все это время у государя смертельно болела голова, и он, однако ж, не давал себе ни минуты покоя: ему беспрестанно поливали голову одеколоном и уксусом, а он – все стоял тут неотлучно как представитель высшей родственной любви, сам за всем смотря и обо всем думая. Нередко он становился возле постели на колени и горячо целовал руки больного, которые тот, в болезненном бессилии своем, тщетно старался отнять… Когда врачи объявили, что настал последний час, государь, видя возле себя Толстого[219]219
Генерал-майор Николай Матвеевич Толстой, состоявший при великом князе и не отходивший от него в предсмертную его болезнь.
[Закрыть], велел ему стать на колени у изголовья:
– Вот, – сказал он, – где принадлежит тебе место.
Между тем смерть еще медлила, и тогда государь, наклонясь к уху стоявшего на коленях, прошептал:
– Не очень ли вы устали, мой милый?
Государь оставил Варшаву в самый день кончины великого князя, после упомянутой выше вечерней панихиды, и приехал в Царское Село 31 августа. На следующий день напечатан был манифест о горестной утрате, омрачившей общую радость при счастливых событиях, которые покрыли новою славою русское оружие. Манифест этот помечен данным в Варшаве и притом 28 августа, в самый день кончины великого князя; но это представляло одну внешнюю формальность. Он был составлен графом Блудовым, жившим в Павловске, в ночь с 31 августа на 1 сентября. Так сказывал мне сам граф, не видавший, впрочем, при этом случае государя, а получивший его приказание и представивший свой проект через посредство князя Волконского.
Как прекрасны, как справедливы были заключительные выражения этого манифеста в отношении к отшедшему! Конечно, вся жизнь его, все труды и попечения были беспрерывно посвящаемы на службу царю и отечеству; конечно, по чистоте сердца, дел и намерений никто более его не был достоин великого имени христианина! При всем том, известие о кончине того, которого ошибки были всегда виною ума и никогда сердца, Петербург принял вообще холодно. Немногие, сквозь жесткую оболочку наружности Михаила Павловича, умели разгадать высокие его чувства и чистоту души; у большей части были в памяти только строгость его к военным, выходившая иногда за пределы дисциплинарные, его придирки, наконец, разные странные поступки его при выступлении весною гвардейского корпуса в поход, которые, точно, можно было объяснить лишь уже развивавшимся в нем в то время болезненным раздражением.
Над свежим трупом обыкновенно забывают слабости и недостатки человека и хвалят, что в нем было хорошего. С Михаилом Павловичем случилось почти совсем противное. Облагодетельствованные им, – а сколь было таких, особенно между бедными офицерами, – и поставленные в возможность оценить его по справедливости, молчали, или голос их исчезал в толпе, а преобладающее большинство вспоминало только все дурное, потому что оно оглашалось и поражало собою умы; добрые же дела покойного творились во мраке тайны.
Не то было с государем. В самую первую минуту после кончины великого князя он сказал окружающим:
– Я потерял не только брата и друга, но и такого человека, который один мог говорить мне правду и – говорил ее, и еще такого, которому одному и я мог говорить всю правду.
Действительно, смерть Михаила Павловича положила незаменимый пробел в сердечной будущности императора Николая. Не осталось никого, кому он мог бы, как равному, как ровеснику, как совоспитаннику, передать все, что лежало на душе; никого, кому в минуты воспоминаний о детстве и юности мог бы сказать: «Помнишь ли, как было то и то, как были мы там и там, как случилось с нами так и так»…
3 сентября государь, вместе с императрицею и младшими великими князьями, поехал, в печальном настроении своей души, уединиться на несколько дней в Петергоф, чего особенно желала императрица, для некоторого развлечения его производимыми им там постройками. 6-го прибыла из Варшавы и великая княгиня Елена Павловна с дочерью, через Штеттин. Чтобы выиграть время, они совершили эту поездку на почтовом пароходе, на котором, как бы по злой иронии судьбы, спутниками их, посреди жестокой их печали, случились Фанни Эльслер, певцы Итальянской оперы и актрисы французской труппы – все лица, имевшие назначение увеселять Петербург в наступавшем тогда сезоне. Великая княгиня, которую сопровождал брат ее, принц Август Виртембергский, сошла с парохода на берег в Ораниенбауме, где встретил ее государь, а на другой день переехала в осиротелый Павловск.
Оставалось ожидать привоза тела.
Еще прежде его прибытия приехали в Петербург, с изъявлением участия своих дворов, из Вены – эрцгерцог Леопольд, из Берлина – бригадный генерал Мюлендорф. Присылка от родственного прусского двора простого генерала принята была здесь не без неудовольствия.
Тело было везено во всю дорогу на почтовых и прибыло 15 сентября в Чесму, на последнее перед столицею отдохновение. Приезд туда предполагался к 8 часам, но государь и вся царская фамилия ожидали в Чесме уже с половины 8-го. Кроме них, находились тут военные штабы и управления покойного и свита государева, но из гражданских чинов никто приглашен не был, и из собственного усердия явились лишь очень немногие. Вдруг прибегает фельдъегерь с докладом, что кортеж уже приближается.
Государь с сыновьями своими и, вслед за ними, вся свита и многочисленное духовенство сошли из верхнего этажа и остановились в огромной аркаде перед подъездом, где вдоль стен расставлены были в две шеренги седые ветераны Чесменской богадельни. По торопливости фельдъегеря, ожидание тут продлилось около получаса, но хотя в аркаде стояло, по крайней мере, 300 человек, между ними, в виду государя с поникшею головою, царствовали мертвое молчание и ничем ненарушимая тишина. Момент этого гробового безмолвия среди такого множества людей был торжественно-умилителен. Наконец дроги подъехали в сопровождении всей свиты усопшего, частью следовавшей при теле от самой Варшавы, частью же выехавшей навстречу из Петербурга. Гроб, или, лучше сказать, три гроба, заключавшие в себе драгоценные останки, весили до 80 пудов, и эту ужасную тяжесть подняли, разумеется, на штангах, казаки, исправлявшие ту же обязанность от самого выезда из Варшавы. Государь, цесаревич и прочие великие князья поддерживали гроб в головах и по бокам, и, таким образом, он был внесен по крутой лестнице и с большим затруднением в церковь, находящуюся в верхнем этаже. Здесь царственные дамы уже стояли по левую сторону катафалка, а государь со своими сыновьями стал по правую. Упоминаю об этом обстоятельстве потому, что оно производило на присутствовавших очень неприятное впечатление при начавшейся затем панихиде, заставляя священнодействовавшего архиерея (викария петербургского Нафанаила) во время каждения беспрерывно переходить, по старшинству членов царской фамилии, с одной стороны на другую. После панихиды всех нас выслали из церкви, и там осталась одна царственная семья, которая, вслед за облобызанием гроба, уехала в Петербург.
Тогда началась наша очередь.
В крепость тело было перевезено 16 числа, по печатному церемониалу, при огромном стечении любопытствовавших. Шествие занимало более версты, но представляло мало не только выражения какого-нибудь чувства, но даже и простого благочиния. Все шли кое-как, нередко выдаваясь из рядов, пересмеиваясь и раскланиваясь с зрителями и болтая между собою. Истинно величествен и трогателен был лишь один момент шествия, именно непосредственно за колесницею. Тут в главе ехал государь, за ним следовали цесаревич и потом, в три или четыре ряда, занимавшие всю ширину улиц, военная свита, в которой находились и прочие великие князья – все верхами. В этом небольшом кругу, не говоря уже о глубокой горести, выражавшейся в чертах государя и цесаревича, все было чинно, тихо, прилично. Когда печальная колесница взъехала на Троицкий мост, с придвинутых к нему судов и с крепости загремели пушки, чего не значилось в церемониале. Во время первой панихиды в крепости любопытное внимание большинства сосредоточивалось на французском генерале Ламорисьере, новом посланнике Французской республики, приехавшем к государю еще в Варшаву и тут впервые явившемся перед петербургскою публикою.
Во весь этот и следующий дни пускали к гробу, наглухо закрытому еще в Варшаве, народ, который валил в крепость густыми толпами. 17-го государь, хотя ему ставили рожки, присутствовал опять и на утренней и на вечерней панихиде. Сколько достоинства, величия и вместе простоты соединялось в этом исполинском человеке! Поистине, в такие высокотрогательные минуты нельзя было смотреть на него без слез, без нервического потрясения… За каждою панихидою, приложась сперва сам к гробу, он оставался в головах и каждой из царственных дам протягивал руку для всхода на ступени катафалка, а вслед за ними, вслед за всеми своими сыновьями снова сам припадал к гробу…
18 сентября происходило погребение, также по печатному церемониалу…
Прежде еще церемонии, часов в 9 утра, приехали августейшие вдова и дочь. Прощание их было без свидетелей. Литургию совершал митрополит С.-Петербургский и Новгородский Никанор с придворным духовенством. Вскоре по ее окончании приехали государь с императрицею, цесаревною, великою княгинею Александрою Иосифовною и всеми своими сыновьями[220]220
Великая княгиня Мария Николаевна не присутствовала за болезнью.
[Закрыть]. Государь подвел своих дам к последнему целованию, после чего они уехали, и тогда только началось отпевание. Печальный обряд совершал тот же митрополит с тремя другими архиереями и многочисленным собором придворного, военного и приходского духовенства. В конце государь приложился первый, а потом, пока и мы все подходили, продолжал стоять на верхней ступени катафалка, у изголовья гроба, в слезах и с поникшею головою. Гроб подняли, сверх казаков, сам он с своими детьми и все, кому достало места прикоснуться.
Вокруг раскрытой могилы произошла теснота ужасная, но мне посчастливилось стать за великим князем Константином Николаевичем и почти рядом с государем и цесаревичем. Холст, на котором спускали гроб, держали, в первой шеренге, дюжие нижние чины[221]221
Император Александр II добавил: «дворцовые гренадеры».
[Закрыть], во второй, остававшиеся концы – государь и его дети. Во все время отпевания доктор Карель стоял неотступно близ государя, а при несении гроба следовал за ним почти по пятам. Помощь его, однако ж, благодаря Бога, не потребовалась. Сильный дух и в эти раздирающие минуты превозмог плоть. Когда гроб стал медленно опускаться и загремели пушки и беглый огонь, государь так зарыдал, что раз вырвалось у него даже громкое всхлипывание. Потом он посыпал земли и быстро удалился. Все было кончено.
Почил он, кто бодро и доблестно нес
Сан брата Царева и сан человека.
..............................................
Всю душу за брата, всю кровь за Царя!
Могила усопшего – первая, по левую руку, у самого входа в собор. Доблестный великий князь лег тут как бы на страже царственной усыпальницы.
21 сентября наследник цесаревич принимал все чины военно-учебных заведений и, прочтя им вступительный свой приказ, произнес несколько слов милости и привета, которые всех глубоко тронули.
– Мы жили душа в душу с покойным великим князем, – сказал, между прочим, цесаревич, – он меня очень любил… – и не мог продолжать далее из-за слез.
* * *
В 1828 году, во время Турецкой войны и пребывания императора Николая при действовавшей армии, разрешение всех дел по государственному управлению, восходящих, в обыкновенном порядке, на высочайшее усмотрение, поручено было, безгласно, особому секретному комитету, который оканчивал их именем государя, испрашивая его разрешения только в некоторых редких, именно указанных случаях; о всех же прочих, по решении и исполнении их, представлял лишь краткие ведомости для сведения. Этот комитет состоял из князя Кочубея, графа Петра Александровича Толстого и князя Александра Николаевича Голицына, а правителем его дел был управлявший в то время I отделением Собственной его величества канцелярии статс-секретарь Муравьев.
Впоследствии, при менее продолжительных или не столь отдаленных отлучках императора, общее течение управления ни в чем не изменялось, и все бумаги посылались к нему как бы в личном его присутствии. Наконец, когда наследник цесаревич достиг совершеннолетия и был приобщен к высшему управлению, государь, в случае дальних или долговременных своих отлучек, назначал его, так сказать, правителем государства, впрочем, также безгласно для народа, о чем я уже неоднократно говорил в этих листах.
В 1849 году явилась необходимость возвратиться снова к порядку 1828 года. Государь был в Варшаве, а наследник цесаревич, сначала остававшийся здесь по случаю тяжкой болезни своей дочери, после ее кончины также уехал (об этом уже говорено выше), а как ход военных действий не позволял определить заранее времени их возвращения, то в приезд государя в Петергоф, ко дню рождения императрицы, он решил, на отсутствие его и цесаревича, учредить подобный прежнему секретный комитет, из князя Петра Михайловича Волконского, князя Чернышева и графа Блудова, с назначением, для производств в нем дел, государственного секретаря Бахтина.
Комитету этому, или, по официальному его названию, комиссии, определено было действовать, применяясь к инструкции 1828 года, и хотя в Петербурге, естественно, почти все знали о существовании такого установления, однако во внешних своих сношениях комиссия оставалась совершенно безгласною. Бумаги из всех ведомств писались точно как бы государь был здесь, на его имя, и доставлялись обыкновенным порядком, запечатанные, в I отделение Собственной канцелярии, откуда статс-секретарь Танеев, не вскрывая конвертов, но соединяя их все в один, отсылал, вместо государя, под адресом комиссии, к Бахтину. Комиссия, собиравшаяся по три раза в неделю (большею частью в Петергофе, за пребыванием там Волконского при императрице) вскрывала полученные конверты, излагала, по содержанию бумаг, свои резолюции в кратких журналах и выпуски из сих последних обращала к Танееву, для заготовления исполнительных бумаг высочайшим именем, будто бы резолюции последовали от самого государя. Танеев, с своей стороны, изготовленные им проекты исполнений представлял комиссии, как представлял всегда государю и, по одобрении или исправлении их, рассылал, по принадлежности, в форме высочайших повелений, так что для мест и лиц представлявших не существовало никакого видимого изменения против обыкновенного порядка.








