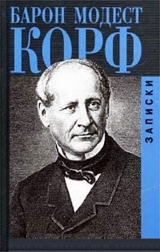
Текст книги "Записки"
Автор книги: Модест Корф
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 47 страниц)

Модест Корф
Записки
Предисловие «Русской Старины»
Барон (впоследствии граф) Модест Андреевич Корф окончил курс в Царскосельском лицее, служил сначала в министерстве юстиции и в комиссии составления законов. Затем в течение пяти лет состоял при графе Сперанском во втором отделении Собственной его императорского величества канцелярии. С 1831 года управлял делами Комитета министров, с 1834 года был государственным секретарем, а в 1843 году назначен членом Государственного Совета. С 1849 по 1861 год Модест Андреевич, будучи директором Императорской публичной библиотеки, совершенно обновил и преобразовал ее, испросив увеличение средств, облегчил доступ в библиотеку и основал особый отдел иностранных книг о России (Rossica). В 1861 году барон Корф был назначен главноуправляющим вторым отделением Собственной его императорского величества канцелярии, а в 1864 году – председателем департамента законов Государственного Совета. В 1872 году он возведен в графское достоинство.
Вскоре после вступления на престол императора Александра II, и именно в декабре 1856 года, на М. А. Корфа было возложено собирание материалов для полной биографии и истории царствования императора Николая I, и с этой целью под его председательством была образована особая комиссия. Собранные комиссией материалы по повелению в Бозе почившего императора Александра III переданы в Императорское Русское Историческое общество. В числе этих материалов поступили в распоряжение правительства, для пользования ученых, переданные М. А. Корфом и им самим составленные выдержки из его записок, которые с соизволения государя императора и печатаются на страницах «Русской Старины».
I
Предисловие барона М. А. Корфа – Черты характера императора Николая I – Дело Ф. Ф. Гежелинского – Возвышение таможенных сборов – Недоразумение, случившееся в Государственном Совете – Собственноручный рескрипт императора Николая графу В. П. Кочубею
Настоящие тетради содержат в себе выборку из дневника, веденного мною с 1838 по 1852 год, и несколько заметок моих за предшедшие ему годы.
В этот период времени, протекший для меня среди лиц и дел высшего нашего управления и в приближенности к особе почивающего теперь в Бозе незабвенного монарха, каждый день приносил с собою обильную жатву для современных записок. Многое из виденного и слышанного, из прожитого и прочувствованного я тотчас клал на бумагу; но всепоглощающий водоворот жизни и службы не всегда оставлял мне довольно досуга или довольно сосредоточенности, чтобы записывать все: оттого в дневнике моем являются не один перерыв общей нити рассказа, не одна белая страница, оттого же и представляемые здесь извлечения из него имеют характер и форму лишь отрывков.
Впрочем, они не вполне передают его содержание. Для многого не наступило еще время гласности, и может быть, что даже и в том, что внесено теперь в мою выборку, я иногда слишком говорлив или слишком отважен. В полном своем составе заветные мои тетради могут, по самому их назначению, развернуться тогда только, когда уже давно не будет ни меня, ни людей моей эпохи с двигавшими их страстями. Я не хочу быть доносчиком и никогда не умел быть льстецом.
Первоначально я думал распределить мои извлечения по категориям и дать им некоторый систематический порядок. Но потом нашелся принужденным отказаться от такого плана по двум причинам: во-первых, моего материала не стало бы для наполнения всех категорий и вообще для чего-нибудь всестороннего, в особенности же за время до 1838 года, когда я записывал так мало или почти ничего не записывал; во-вторых, переливать позднейшие заметки (т. е. с 1838 года) в другую, методическую форму, значило бы отнять у них тот характер первого впечатления, ту свежесть современности, в которых, быть может, заключается все их достоинство.
Это решило меня разместить мои отрывки здесь, как и в подлиннике, в порядке хронологическом, в том самом порядке, как лился поток современной жизни. Оттого они бегут один за другим в пестрой смеси значительнейшего с маловажным, мелких приключений, анекдотов, празднеств, обыденных слов и проч., с рассказами о государственных событиях, с изображением важнейших дел эпохи и с биографиями и характеристиками ее деятелей, как я знал и понимал их. Но каждый из этих отдельных очерков сам по себе всегда образует нечто целое и часто имеет если не прямо внешнюю, то внутреннюю связь с предыдущим и последующим.
Читатель, перелистывая их, будет как бы проходить галерею, в которой развешены самые разнородные картины, изображающие то предметы внутреннего, домашнего быта, то высшие исторические сюжеты. Каждая из картин окаймлена своей особой рамкой, имеет свой колорит, иногда мрачный, иногда улыбающийся; одни из них отделаны с большей тщательностью; другие – слегка набросанные эскизы, смотря по досугу и расположению духа живописца или по степени важности самого предмета.
Если принять в соображение, из каких мутных источников часто принужден черпать историк; как трудно последующим поколениям воссоздать изглаженные временем исторические образы со всеми их индивидуальными и характеристическими чертами; наконец, как многознаменательна была та эпоха и как велика та личность, о которых здесь идет речь, – то я могу, кажется, без нескромности ласкать себя надеждой, что заметки мои, несмотря на мелочность некоторых из них, будут не совсем излишними для истории и для правильной оценки императора Николая с окружавшей его сферой, придворной и правительственной. Эти заметки написаны, как я уже сказал, не по отдаленным воспоминаниям, часто столь обманчивым, не годы спустя, а в самый день, почти в самую минуту событий их очевидцем и участником, который мог сам иногда обманываться в своем воззрении и в своих приговорах, но никого не хотел преднамеренно вводить в обман.
Как некогда было в самой действительности, так и в этих отражающих ее листах средоточием всего является наш великий Николай; его духом, его личностью все здесь проникнуто; он всему придает значение и цвет; к нему одному сбегаются все радиусы многосторонней общественной деятельности; во всякой эпизодической сцене проглядывает его величественный образ; все собранные здесь очерки нашей государственной, придворной и светской жизни, в длинной и разнообразной их цепи, от него одного заимствуют свое единство!
Да сбудется пламенное мое желание: воздать этими листами хотя малейшую лепту благоговейной благодарности тому, которому я стольким, которому я всем был обязан, тому, которому некогда история и потомство воздвигнут один из блистательнейших памятников, сужденных человеку и монарху!
Дополнением к настоящим тетрадям могут служить: 1) историческое описание первого дня царствования императора Николая I, напечатанное в 1854 году (в 25 экземплярах), под заглавием: «14 декабря 1825 года», 2) описание болезни, кончины и погребения великой княгини Александры Николаевны и 3) отдельное обширное сочинение под заглавием: «Император Николай в совещательных собраниях». Материалы первого из сих трех сочинений означены в его предисловии; оба последние извлечены также из моего дневника.
Одним из пламеннейших, весьма естественных желаний императора Николая, по вступлении его на престол, было – чтобы при коронации в Москве присутствовал и великий князь Константин Павлович; но, давая только угадывать это желание, он не решался облечь его в форму просьбы и тем менее – положительной воли. Князь Любецкий, в то время министр финансов Царства Польского, отважился сделать это за него.
– Отъезжая тогда в Варшаву, – рассказывал он мне впоследствии, – я, при прощании с государем и при выраженном им желании увидеться скорее с братом, осмелился сказать:
– Государь! Нужно, чтобы он приехал к коронации в Москву; надобно, чтобы тот, кто уступил вам корону, приехал возложить ее на вас в глазах России и Европы.
– Это вещь невозможная и невероятная.
– Она будет, государь!
– Во всяком случае, приехав в Варшаву, сходите поцеловать от меня ручки княгини Лович.
– Я понял этот намек, – продолжал князь Любецкий, – и по приезде в Варшаву обратился прямо к княгине Лович. Сильное ее влияние убедило великого князя неожиданным своим приездом в Москву обрадовать государя и успокоить Россию.
* * *
Однажды, в первый год царствования императора Николая, при откровенной беседе князь Любецкий выговорил ему множество истин относительно России и его самого. Выслушав все благосклонно, государь вдруг остановил своего собеседника вопросом:
– Да скажи, пожалуйста: откуда у тебя берется смелость высказывать мне все это прямо в глаза?
– Я вижу, государь, что кто хочет говорить вам правду, не в вас к тому находит помеху, и я действую по этому убеждению. Но власть – самая большая баловница в мире! Теперь вы милостиво позволяете мне болтать и не гневаетесь, но лет через десять, или и меньше, все переменится, и тогда, свыкнувшись с всемогуществом, с лестью и с поклонничеством, вы за то, что теперь так легко мне сходит, прикажете, может быть, меня повесить.
– Никогда, – сказал государь, – я всегда буду рад правде и позволю тебе тогда, как и теперь, если я стану говорить или делать вздор, сказать мне прямо: Николай, ты врешь.
– Года два после того, – продолжал Любецкий в своем мне об этом рассказе, – я опять приехал в Петербург и явился к государю. В этот раз он принял меня чрезвычайно холодно, и даже не в кабинете, как прежде, а в передней зале, и, оборотясь с рассеянным лицом к окошку, встретил самыми сухими расспросами о погоде, о дороге и проч. Не было и тени прежней доверчивости, и я, разумеется, сохранял с моей стороны глубочайший этикет, не позволяя себе ни малейших намеков на прежние беседы.
Вдруг через несколько минут государь обратился ко мне с громким хохотом и с протянутой рукой:
– Что, хорошо ли я сыграл свою роль избалованного могуществом и лестью? – сказал он. – Нет, я не переменился и не переменюсь никогда, и если ты в чем не согласишься со мною, то можешь по-прежнему смело сказать: Николай, ты врешь!
* * *
История управляющего делами Комитета министров Гежелинского наделала в свое время очень много шума. В публике мало было лиц, которые бы его любили: но тягость осуждения, постигшего его при важности его поста; молва о невероятных злоупотреблениях в Комитете министров, которых он был виной; тайна, с которой ведено было дело; наконец, разные преувеличенные, как всегда, слухи – все это вместе произвело род общего сотрясения, долго и после отзывавшегося в умах.
Вот очерк этого дела по подлинным актам.
Гежелинский всю свою службу, от писца до звания управляющего делами Комитета министров, прошел в канцелярии этого Комитета. Без всякого образования, до такой степени, что он не знал ничего, кроме русского языка, но с большими природными дарованиями и необыкновенной тонкостью, владея притом даром слова и искусным пером, он умел сперва, пока занимал второстепенные должности, входить в милость к своим начальникам, а потом, когда сделался управляющим, приобрести общее расположение членов Комитета, хотя очень часто шел им наперекор. В последние годы царствования императора Александра, быв уже управляющим, он пользовался особым доверием графа Аракчеева, столько же могущественного в то время по делам Комитета, как и по всем другим частям.
По удалении Аракчеева, с восшествием на престол императора Николая, от всех дел, Гежелинский имел личный доклад у государя, но только до коронации, т. е. до того времени, когда личные доклады, за очень немногими изъятиями, вообще совсем прекратились. В два первые года этого царствования дела Комитета имели самый быстрый ход. Множество его меморий, лежавших неутвержденными в кабинете императора Александра, были очищены в первые месяцы, и нельзя поистине не удивляться деятельности и трудам канцелярии Комитета в продолжение 1826 и 1827 годов.
Тут вдруг все изменилось: Гежелинский, увлеченный, как говорили, несчастной страстью к распутной замужней женщине, которая уносила у него и много времени и пропасть денег и с которой он прижил несколько детей, стал видимо пренебрегать делами, дозволять себе несрочную отсылку к государю меморий и другие упущения. Главная их причина, конечно, лежала в этой страсти: ибо если задержание некоторых дел можно приписать корыстным видам, в которых многие подозревали Гежелинского, то ничем другим нельзя объяснить остановку множества таких, где нисколько уже не мог участвовать личный интерес.
Между тем государь тотчас обратил внимание на эти упущения, и с 1828 года не проходило почти ни одной мемории, ни одной бумаги, по которой не было бы делаемо Гежелинскому собственноручных высочайших замечаний, сначала весьма умеренных, потом с явными знаками неудовольствия и наконец в самых уже сильных выражениях справедливого гнева.
В 1829 году, заметив, что по бывшему в Комитете представлению Новороссийского генерал-губернатора графа Воронцова о наградах чиновников справки брались три года, государь спросил о причинах сего, и когда Гежелинский отвечал, что представление отложено было для совокупного рассмотрения с подобными же от министерств, но не мог доказать, чтобы Комитет действительно это приказал, то государь на его докладе написал: «Из сего вы сами должны ясно видеть, что не было никакой уважительной причины откладывать три года сряду рассмотрение поступившего дела, что я вам ставлю на вид, строго подтверждая впредь отнюдь себе не позволять».
Вот некоторые из числа множества других, гораздо еще сильнейших замечаний:
1) Две мемории 30 марта и 30 июля 1829 года поднесены были в октябре. Государь написал: «Подобный беспорядок ничем не извинителен, и я вынужден вам за сие сделать строгий выговор».
2) Четыре дела лежали очень долго без движения. Гежелинский оправдывался множеством других занятий. Государь отметил на его о том записке: «Если б вы лучше знали долг ваш, то не вынуждали бы меня повторять вам столь часто мое неудовольствие. Я предостерегаю вас, что и на всякое терпение есть мера».
3) При несвоевременном поднесении мемории 24 июня 1830 года последовало замечание: «Вам не должно было задерживать мемории 24 числа, а прислать ее сей час по изготовлении; тоже и меморию 28-го числа. Я вам сие неоднократно приказывал и опять в последний раз подтверждаю».
4) На донесение, отчего не было прислано в свое время мемории 23 сентября 1830 года, государь выразил неудовольствие свое следующими словами: «Вам неоднократно приказывал я всегда уведомлять меня, при присылке в положенные дни меморий, будет ли представлена в следующий другой день мемория; но вы этого не соблюдаете; вперед не забывайте, если вы не хотите, чтоб я другими способами вам оживил память и исправность; я до ленивых не охотник: вы это должны знать».
Но убийственные эти замечания не действовали на Гежелинского; не действовали на него также ни напоминания председателя Комитета, князя (тогда еще графа) Кочубея, неоднократно официально ему выраженные, ни усиливавшиеся со дня на день в публике жалобы. Он продолжал, оставаясь при своей должности, нисколько не заботиться об исправлении своих упущений. Независимо отдел в самом Комитете, множество запросов от разных министерств, иногда до десяти раз по одному и тому же делу повторенных, лежали годами без ответов, и с каждым часом несчастный накапливал на себя более и более ответственности. В делах за 1830 год, когда все это постепенно еще усилилось, не видно и следа малейшего с его стороны стремления выпутаться из этого лабиринта. Было ли то совершенным самозабвением, плодом его страсти или крайней самонадеянностью, внушавшей ему уверенность, что он незаменим, – вот вопросы, которые остались нерешенными и на которые мог бы ответить только он сам.
Между тем мера долготерпения государя исполнилась. Мемория Комитета 12 августа 1830 года о наградах по министерству юстиции представлена была, вместо установленного двухнедельного срока, через два месяца. Она выслана была обратно уже не к самому Гежелинскому, как всегда делалось, а к князю Кочубею, с следующей собственноручной высочайшей резолюцией: «Сегодня – 14-е октября. Мемория слушана 12-го августа, а мне представлена 12-го октября. Как я неоднократно объявлял, что за подобные непростительные протяжки строго взыщу, и, несмотря на то, они опять повторяются, то предписываю г. Гежелинского посадить под арест на сенатскую гауптвахту на трое суток, с занесением в его формуляр и с опубликованием в сенатских ведомостях».
По особому ходатайству князя Кочубея вторая часть этой резолюции была отменена, но первая приведена в исполнение, и Гежелинского выдержали на гауптвахте три дня. И это однако не подействовало. Даже и после такого позорного наказания Гежелинский не подал в отставку, а напротив, не постыдился явиться снова перед министрами и перед своими подчиненными. Он ждал последнего удара гневной судьбы!
25 декабря 1830 года, в день Рождества Христова, все мы, по обыкновению, явились во дворец к выходу, и каждого приезжавшего встречал вопрос: «Слышали ли вы, Гежелинский посажен в крепость?»
Разумеется, что весть эта в одну минуту везде разнеслась по всей столице, и притом сопровождаемая множеством вымышленных рассказов. Говорили, что Гежелинский обличен в тайном участии в замыслах польских бунтовщиков (польская революция только что перед тем вспыхнула); что он продал бумаги Комитета полякам и проч. Словом, публика осуждала, по обыкновению, и произносила приговор, ничего не зная. А истинное дело было в следующем:
21 декабря государь получил безыменный, мастерски составленный донос, над которым составитель и писец, если это были два разные лица, верно долго трудились: составитель – потому, что слог не имел никакого определенного характера и мог принадлежать одинаково как государственному сановнику, так и низшему чиновнику; писец – потому что на двух с половиною листах почерк, на образец старинного, не только был совершенно однообразно выдержан, но и не представлял никакого следа особенного усилия или даже вида подделки.
Донос начинался так:
«Ваше императорское величество, принимая отеческие попечения к искоренению зла, существующего в делах по гражданской части, изволите назначать частые обревизования губерний через г.г. сенаторов. Таковые благодетельные меры если не вовсе искореняют зло по губерниям, то, по крайней мере, уменьшают оное. Напротив того – зло, существующее подле вас, государь, и в таком месте, которое имеет влияние на все государство, оставаясь многие годы безнаказанно, превосходит ныне всякое вероятие! С того времени, как поручено Гежелинскому управление делами Комитета г.г. министров, злоупотребление и беспорядки водворились в делах Комитета».
Затем очень пространно исчислялись все упущения и злоупотребления обвиняемого. Вот вкратце сущность главных статей:
1) Дела отделяются во множестве из общих журналов в особые не для скорейшего решения, а по небрежению заняться их обработкой, чаще же для задержания их из корыстных видов. Потом они лежат по нескольку лет и получают по нескольку резолюций. Докладывая их повторительно, в разные заседания, при разных членах, Гежелинский выбирает любую ему резолюцию. Дела эти не показываются им ни в каких отчетах и считаются в виде оконченных, как только раз заслушаны в Комитете.
2) Когда, по дошедшим жалобам, государь потребовал ведомость всем неоконченным делам, то Гежелинский показал в ней только те, по которым надеялся вывернуться из беды.
3) Гежелинский «обманывает» государя и другими путями. По ходатайству цесаревича Константина Павловича военный министр представил, еще в феврале 1829 года, о награждении чином при увольнении от службы 6-го класса Шаганова. Продержав это представление около полутора лет и наконец доложив Комитету только 28 июня 1830 года, Гежелинский отметил его в мемории поступившим в комитет 24 того же июня; по возвращении же мемории от государя приказал писавшему ее чиновнику подчистить это ложное число и выставить настоящее, т. е. 12-го февраля 1829 года; причем подправлен и собственноручный знак государя, сделанный под положением Комитета карандашом в означение высочайшего согласия.
Почти в каждом журнале, после уже подписания его членами, Гежелинский марает резолюцию в желательном для него смысле; после чего журнал приказывает вновь переписать, пришив к нему из прежнего только последний лист, на котором находятся подписи членов.
5) От произвольного распределения занятий одни из чиновников канцелярии Комитета обременены делом, тогда как другие, при большом жаловании, совершенно праздны. Так, чиновник, несущий с 1826 года звание хранителя архива и казначея, занят всегда или перепиской, или другим посторонним делом, а между тем архив и казначейская часть в самом жалком положении. Ордера на выдачу жалованья чиновникам Гежелинский недавно подписал вдруг за несколько лет задними числами, после чего все чиновники за то же время очистили расходные книги своими расписками.
6) Разные требования министров, накопившиеся за год, за два и даже за пять лет, лежат у Гежелинского без всякого ответа и исполнения.
7) Гежелинский, представя государю о необходимости, для успешнейшего хода дел, нанять дом, в котором он мог бы помещаться с некоторыми чиновниками, испросил на это по 15 000 руб. в год; но вместо того нанимает квартиру только для себя и своих родственников за 5000 рублей.
8) Обеспечив себя достаточным состоянием и покровительствуемый необыкновенным счастьем, Гежелинский почитает себя полным властелином всех своих беззаконных действий и, не довольствуясь нанесением зла и притеснениями всякому, имеющему надобность до Комитета, тех просителей, которые на него вопиют, уверяет, что дела их лежат у государя. Сверх того, в особенности представлениям цесаревича Константина Павловича он часто, под прикрытием всего Комитета, дает другое направление или же, задерживая их, наводит великому князю сомнение, что они оставляются государем без внимания. Кроме вышеприведенного примера о Шаганове, доказательством тому может служить другое дело – об уменьшении расходов на земские повинности по Волынской губернии, по которому государь в апреле 1829 года приказал изъявить цесаревичу искреннюю благодарность; но Гежелинский доселе (декабрь 1830 года) сего не исполнил.
9) Подобно сему и по другим делам последовавшие на положения Комитета высочайшие повеления лежат несколько лет без исполнения.
10) Мемория Комитета 10 мая 1830 года до сих пор не поднесена к подписанию членов, и дела, в то заседание выслушанные, лежат без движения, кроме некоторых, выпущенных уже после новыми числами, в особых журналах.
Доносчик заключал свою бумагу так:
«Картина толиких злоупотреблений изображает вашему величеству человека, который столь неслыханно во зло употребляет вашу доверенность! Известно, впрочем, всем, что уже гнев вашего величества постиг Гежелинского: он наказан арестом, но вместе с тем, оставаясь на своем месте, не выпускал даже и на гауптвахте из своих рук дел Комитета. Он страшился, чтобы не поручена была должность его хотя на время другому; страшился, чтобы не потребовали без него отчета в делах Комитета; ибо тогда, если и не могло быть обнаружено все прошедшее зло, прикрытое уже различными изворотами, то, по крайней мере, сделались бы известными все настоящие его злоупотребления и вместе с тем удостоверились бы ваше величество, что производство дел по Комитету не только не потерпело бы без Гежелинского, но напротив, дела приняли бы быстрый ход, сопровождаемый бескорыстием, которым место сие отличалось до вступления Гежелинского в управление делами Комитета.
Но беспримерное счастье Гежелинского, сопровождаемое покровительствами, коими он всегда умел себя окружать, оставило его на поприще прежних его злоупотреблений. Жертвуя, за свою вину, чиновниками канцелярии Комитета, дабы через то избавить себя от беды, и выпустив несколько из старых, давно выслушанных в Комитете дел, обращая всю вину на членов оного в нерешении проектов резолюций, о коих он никогда и не думал им докладывать, прочие старые дела, равно как и все задержанные высочайшие повеления, оставил Гежелинский в прежнем бездейственном положении.
Таковое преступное его противодействие высочайшей власти наводит ужасное изумление! Нельзя не заподозревать, чтобы в поступках его, столь дерзких, не сокрывалась особая цель, к которой он стремится. Долг присяги и чувство верноподданнической преданности к священной особе вашего величества побудили открыть пред вами все сие зло, ибо обязанность верноподданного есть охранять своего государя».
Комитету министров сообщено было об этом доносе только 30 декабря, т. е. уже тогда, когда все распоряжения были сделаны непосредственно самим государем. Открывая в этот день заседание Комитета, председатель его князь Кочубей изъяснил, что государь, «не жалуя безыменных доносов и не удостоивая их даже вообще и прочтения, по вскрытии 21 декабря пакета с таким доносом, усмотрев из первых строк, что дело идет о Гежелинском, и как многократно доходило до высочайшего сведения об упущениях сего чиновника, непосредственно его величеством не только замеченных, но обративших даже особенное монаршее негодование, в собственноручных его величества замечаниях ему изъявленное», то государь обратил внимание на означенный донос и вследствие того велел осмотреть на другой день бумаги в бюро Гежелинского в канцелярии Комитета, на которые донос ссылался. Осмотр этот, произведенный по высочайшему назначению, государственным секретарем Марченко и флигель-адъютантом графом Строгановым (зятем князя Кочубея)[1]1
Ими же 23 декабря осмотрены и запечатаны были и все бумаги на квартире Гежелинского.
[Закрыть], открыл, что главные указания доноса были верны.
Тогда государь, призвав Гежелинского в свой кабинет, показал ему помянутые бумаги, начав с той мемории, где подчищено число, выставлен другой год и переправлен собственноручный высочайший знак. При предъявлении этой мемории Гежелинский, бросаясь на колени пред его величеством, сознался в преступном своем действии. За сим государь показал ему и другие бумаги, по которым он, опять пав на колени, также принес сознание. Рассказав все это, Кочубей продолжал, что государю угодно было велеть посадить Гежелинского в крепость, а действия его отдать на рассмотрение Комитета министров для представления его величеству о тех распоряжениях, какие, в порядке дел сего рода, сделаны быть могут для предания Гежелинского суду по законам. В заключение председатель предложил Комитету и все бумаги, в доносе означенные[2]2
В том числе находилось и несколько побуждений по делу бывшего советника Подольской казенной палаты Соболевского, которое – как сказано в журнале Комитета, «еще в 1826 г. было в производстве по Комитету и на медленность в производстве коего его величество изволил обратить внимание в мемории 1-го ноября 1830-го г., хотя в ней означенное дело было показано поступившим только в апреле 1830-го г.» Мы увидим ниже, что это неправильное показание послужило главным основанием к произведенному над Гежелинским приговору.
[Закрыть].
Журнал, состоявшийся вследствие сего в Комитете 30 декабря 1830 года, любопытен и по содержанию, и по тем мерам, которые Комитет, прикрываясь другими причинами, предлагал к облегчению участи Гежелинского, наконец, и по самому даже образу изложения. Он был весь сочинен самим князем Кочубеем.
«По прочтении и рассмотрении всех вышеупомянутых бумаг, – сказано в этом журнале, – Комитет нашел не только запущение дел, небрежением действительного статского советника Гежелинского допущенное, небрежением, которого не могли исправить ни многократно изъявленный гнев его величества, ни многократно всемилостивейше изъявленное ему снисхождение, – но и чрезмерную дерзость в неправильных представлениях его величеству и в тех мерах, кои принимал он для сокрытия вины своей, решась даже на преступное действие подчистки числа и знака, собственноручно его величеством на мемории сделанного.
По сим обнаруженным обстоятельствам Комитет, признавая Гежелинского виновным, полагает, что он может быть предан суду и подвергнуться ответу по следующим статьям: во-первых, в подчистке, сделанной в мемории 28 июня 1830, причем поврежден и переправлен самый знак, выставленный его величеством в изъявление утверждения положения Комитета; во-вторых, в невыполнении высочайшего повеления, в апреле 1829 года на мемории собственноручно его величеством данного (о благодарности великому князю Константину Павловичу) и в неправильном показании его величеству времени поступления дел в Комитет; в-третьих, в задержании исполнения по делам, Комитету представленным и по коим Комитет постановил заключения свои, так что журналы долговременно не были представляемы к подписанию членов; в-четвертых, в допущении такового же беспорядка в представлении своевременно его величеству мемории по журналам, в Комитете состоявшимся.
Изложив таковое мнение относительно тех действий действительного статского советника Гежелинского, кои могут подлежать суду, Комитет нужным находит его величеству донести: 1) что если его величеству благоугодно будет предать Гежелинского суду, то оный должен быть произведен в Правительствующем Сенате, применяясь к тому, как чиновники высших степеней в министерствах, обер-прокуроры и проч. суду в Сенат подлежат, и 2) что как обозрение действий Гежелинского государственным секретарем Марченко и флигель-адъютантом графом Строгановым не составляет следствия, законом установленного, которое необходимо для судебного производства и составления приговора, то нужно будет учредить следственную комиссию, которая бы по обвинениям, изъясненным выше, произвела дальнейшее исследование и допросы подсудимому.
При таковых заключениях своих Комитет не мог потерять из виду следующих уважений: предание Гежелинского суду, оглашая чрезвычайные упущения и самые злоупотребления его, может произвести невыгодное впечатление насчет всего хода высших правительственных дел, даже и наведет некоторое сомнение на акты, от правительства через Комитет исходившие, высочайше утвержденные и через чиновника сего, по званию его, сообщенные разным местам и лицам к исполнению, а от оных изданные через посредство Правительствующего Сената во всеобщее известие: ибо за достоверность выписок из высочайше утвержденных журналов Комитета министров ручается единственно скрепа управляющего делами. От предположения, что были иногда подлоги, могут вновь возродиться дела, положениями Комитета оконченные. Сверх того, в сем случае представляются и другие неудобства, с нашею формой суда неразлучные, как то: требование дел из Комитета в Сенат, очные ставки и проч., кои полезно для правительства отклонить. Вследствие рассуждений сих Комитет полагает представить на благоусмотрение его императорского величества, что по мнению его, удобнее было бы наказать Гежелинского как чиновника, достаточно в злоупотреблениях изобличенного, порядком мер правительственных. Впрочем, какой бы вид дело Гежелинского ни получило, во всяком случае, по мнению Комитета, должно обратить внимание и на самого доносителя. В бумаге его есть показание, что Гежелинским делаемы были и другие злоупотребления и даже что злоупотребления сии основываемы были на корыстных видах; Комитет не мог открыть оного из всего того, что было им рассмотрено и тем менее иметь способов к раскрытию, что доноситель остался неизвестным. Наконец, нельзя обойти молчанием и того, что, по-видимому, доноситель был столь близок к делам Комитета, что знал совершенно о ходе оных, а потому в непременной обязанности его было тотчас же, как заметил он злоупотребления управлявшего, довести о сем до сведения начальства».








