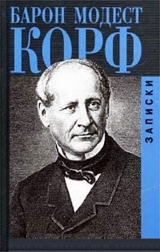
Текст книги "Записки"
Автор книги: Модест Корф
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 47 страниц)
В присутствии государя придворный этикет запрещал аплодировать прежде него; но и вслед за ним, по некоторой робости, аплодировали лишь очень немногие и очень слегка. Вследствие того перед появлением нашей танцовщицы объявлено было присутствовавшим, изустно, семиофициальное повеление хлопать погромче, ибо «императору плохо одному». Разумеется, что этого достаточно было для возбуждения самых громких аплодисментов, и Эльслер заставили даже повторить ее качучу.
* * *
В октябре 1848 года одна из прогулок государя, в 7-м часу после обеда, по царскосельским садам, дала повод к забавному анекдоту. При довольно сильном тумане он вдруг заметил сквозь обыкновенную нашу осеннюю мглу огненный шар, носившийся, казалось, высоко в небесах и ежеминутно менявшийся в цвете. По возвращении во дворец государь тотчас послал фельдъегеря на Пулковскую обсерваторию спросить: замечено ли там это явление и обращено ли на него должное внимание? Ответ был, что ничего не видели и что притом густой туман не позволял вообще никаких наблюдений. Позже, когда придворные собрались на обыкновенный вечер у императрицы, государь рассказал перед всеми о виденном им феномене, и что же оказалось? Гофмаршал цесаревича, Олсуфьев, чистосердечно сознался, что это был воздушный шар из разноцветной бумаги, освещенный изнутри несколькими свечами и пущенный им для забавы своих детей! От тумана он принимал разные фантастические формы и притом представлялся по виду гораздо большим в отдалении.
* * *
Осенью 1848 года государю беспрестанно приходилось быть на похоронах. 9 октября он присутствовал на погребении старого адмирала Моллера, занимавшего некогда пост морского министра, а 11-го почтил опять своим присутствием отпевание тела князя Долгорукого, генерал-адъютанта и начальника штаба генерал-фельдцейхмейстера. Последняя церемония едва не сделалась, косвенно, причиной несчастья. Всходя перед похоронами на лестницу в Зимнем дворце, крепко налощенную, государь поскользнулся и упал на то самое плечо, в котором уже прежде была у него переломлена ключица. Ушиб обошелся, однако, без дальнейших последствий, хотя государь и сказывал, что боль от него была в этот раз гораздо чувствительнее, чем тогда, когда он сломал себе ключицу.
* * *
В первой половине сентября у графа Левашова, после съеденной им дыни, сделался жестокий припадок холеры. Этот припадок постиг его в купленном им незадолго перед тем имении Осиновой роще (за Парголовым); но потом признаки холеры миновали, и больного, хотя он и находился еще в смертельной слабости, сочли возможным перевезти в Петербург.
Между тем наступил срок к возобновлению заседаний Государственного Совета после вакантного времени и, по законам Совета, оно должно было последовать, за болезнью Левашова, под председательством старшего из председателей департаментов. Действительно, дней за пять до понедельника, упавшего в тот год на 20 сентября, разосланы были повестки о назначении на этот день заседания, как вдруг, накануне его, мы получили новые повестки, объявившие, что «об открытии заседаний Совета после вакантного времени имеет последовать особое извещение».
Впоследствии государственный секретарь Бахтин сказывал мне, что это изменение состоялось по особому, им написанному, докладу Левашова, имевшего, впрочем, при отдании приказания о том вид человека, которому на следующий понедельник скорее предстоит смерть, нежели выздоровление, особливо в такой степени, чтобы ехать в Совет.
Государь принял этот доклад с крайним неудовольствием, как вещь, выходившую из общего порядка, и хотя возвратил его с надписью: «Совершенно согласен», – но потому, собственно, как он выразился, чтобы не убить окончательно человека, без того уже, вероятно, обреченного на смерть. Вслед за тем Левашову сделалось гораздо хуже. Наследник цесаревич и сам государь нарочно приезжали из Царского Села с ним проститься, и наконец 23 сентября окончились его страдания. Он умер в полной памяти, но не имев утешения видеть себя настоящим председателем Государственного Совета, что, без сомнения, последовало бы, если б он дожил только до нового года.
Отличительными чертами графа, при усердном и безотчетном исполнении воли царской, были: тиранический деспотизм над всем, от него зависевшим, и, несмотря на очень ограниченную способность к делу, безмерное тщеславие. Государь выразился о нем так: «Душевно жалею о Левашове, потому что видел с его стороны всегда самое строгое и ревностное исполнение моих приказаний». В публике он не пользовался ни особым доверием, ни большим уважением. Кто-то дивился, как он мог подпасть холере при своем постоянно умеренном образе жизни.
– Да, – отвечал один из наших остряков, – надо ему отдать справедливость: он всегда был умерен – и не только в образе жизни, но во всем: в уме, в способностях, в правилах…
Замечательно, как тщеславие Левашова выразилось даже в одном из предсмертных его распоряжений. Он завещал положить себя в гроб – в новом парике, в котором не было бы ни одного седого волоса. «Хочу, – говорил он, – лечь и в землю молодцом». В самом деле, хотя ему следующего 10 октября исполнилось бы 66 лет, он, здоровый, был еще совершенным молодцом, даже со всеми приемами молодого человека, которым вполне соответствовали его фигура и весь наружный вид.
С Левашовым угас последний член того тройственного союза (состоявшего из Васильчикова, Дашкова и его, Левашова), который еще так недавно стоял во главе нашего управления и которому один забавник давал имя фамильного (вместо Государственного) Совета.
При выносе тела из дома в Невскую Лавру присутствовали: государь, цесаревич и великий князь Михаил Павлович, которые и провожали потом гроб верхами до Литейной. На отпевании их не было.
Вопрос о вновь упразднившемся, со смертью графа Левашова, месте разрешился на этот раз гораздо скорее, чем в предшедшем году и притом совсем иначе, нежели предвидела большая часть публики. Вместо, как думали, графа Блудова, председателем Государственного Совета и Комитета министров был назначен 2 ноября военный министр князь Чернышев, с оставлением и в прежнем звании. При этом случае князь рассказал мне об одном, очень примечательном слове, отлично характеризовавшем императора Николая.
– В публике, – сказал он Чернышеву, – думают, что ты мне служишь; ну, пусть себе так и думают, а мы про себя знаем, что оба вместе служим одному общему, высшему монарху – благу России!
* * *
Зимой 1844 года я часто виделся и беседовал с бывшим, в конце двадцатых и в начале тридцатых годов, министром внутренних дел, графом Арсением Андреевичем Закревским. Состояв прежде дежурным генералом Главного штаба, а потом Финляндским генерал-губернатором, он, при назначении его министром, принес с собой в управление, несмотря на недостаток высшего образования, очень много усердия, добросовестности и правдивости и, сверх того, очень энергический характер, доходивший, в незнании угодливости сильным, нередко до строптивости. Восстановив против себя через эту черту всех пользовавшихся властью (в особенности председателя Государственного Совета и Комитета министров, князя Кочубея), Закревский, естественно, не мог долго удержаться на месте. Начало его опале положено было знаменитым проектом закона о состояниях, рассматривавшимся в Государственном Совете в 1830 году.
– Я не только, – рассказывал он мне, – сопротивлялся всеми силами этому нелепому проекту, но и осмелился даже в Совете, в присутствии государя, собиравшегося тогда за границу, сказать, что первым условием для издания нового закона считаю – присутствие его величества в столице.
– Почему же? – спросил государь с весьма раздраженным видом.
– Потому, – отвечал я, – что невозможно предвидеть, какие последствия будет иметь этот государственный переворот, и я, как министр внутренних дел, не могу принять на себя ответственности за сохранение народного спокойствия в отсутствие вашего величества.
Прямого возражения не последовало, и хотя проект был отложен и потом совсем взят назад, однако с тех именно пор государь видимо ко мне охладел, а Кочубеи, мужчины и женщины, во всех поколениях и во всей их родне, еще более на меня озлобились, потому что проект, как вы знаете, был созданием этой ватаги, вместе со Сперанским. Потом, при появлении у нас впервые холеры, государь командировал меня, как вы тоже знаете, вовнутрь России, для местных распоряжений, а позже назначил главным распорядителем по всем мерам против болезни в столице. Здесь, увидясь со мной на другой после несчастных июньских (в 1831 году) происшествий на Сенной, он спросил: чему я приписываю народное волнение?
– Единственно распоряжениям и злоупотреблениям полиции.
– Это что значит?
– То, государь, что полиция силой забирает и тащит в холерные больницы и больных, и здоровых, а потом выпускает только тех, которые отплатятся.
– Что это за вздор, – закричал государь, видимо разгневанный, – Кокошкин[194]194
Обер-полицмейстер, тут же находившийся.
[Закрыть], доволен ли ты своей полицией?
– Доволен, государь.
– Ну и я совершенно тобой доволен.
С этим словом он отвернулся и ушел в другую комнату.
– Тут я еще более убедился, – продолжал Закревский, – что мой час настал: такая очная ставка с подчиненным и такое предпочтение его передо мной ясно доказывали, что мне уже не оставаться министром. Я хотел только докончить некоторые, особо мне данные поручения, а потом откланяться. Между тем дело несколько оттянулось оттого, что государь велел мне ехать в Финляндию[195]195
Закревский, при должности министра внутренних дел, продолжал сохранять и звание Финляндского генерал-губернатора.
[Закрыть], для наблюдения за расположением там умов по случаю революции в Польше. Я остался в Финляндии до известия об окончании польского мятежа и, воротясь в конце ноября (1831 года), в самую минуту отъезда государя из Петербурга, послал просьбу об отставке, застигшую его еще в Царском Селе. Отставка дана мне была тотчас же, без затруднений, без объяснений и даже без личного свидания.
С моей стороны, думаю, что немилости, в которую впал тогда Закревский, наиболее способствовали слишком крутые меры, принятые им во время объезда России по случаю холеры[196]196
Император Александр II написал: «Справедливо, и я то же слышал от батюшки».
[Закрыть].
Помню, что в то время было много неудовольствий и жалоб, и в числе моих бумаг за ту эпоху встречаю следующие строки князя Кочубея:
«Из докладной записки г-на министра внутренних дел вы увидите, что он наконец и сам почувствовал все неудобство мер, прежде им к охранению от холеры предписанных. Я совершенно разделяю мнение Комитета по сему предмету (эта записка была от 4 июля 1831 года, когда Кочубей жил, по случаю холерного карантина, в Царском Селе). Страшно подумать, что по одному Московскому тракту скопилось в карантинах до 12 тыс. душ. Нет добрее и смирнее нашего народа!»
Как бы то ни было, но с самого своего увольнения Закревский, не доискиваясь утраченной милости, не домогаясь вступления снова в службу, при огромном состоянии довольный своим положением, многие годы проводил то в Москве, то в чужих краях, то в Петербурге, где в сороковых годах перестроил и великолепно отделал и убрал дом свой на площади против Исаакиевского собора. Уважаемый за прямоту характера, любимый по русской приветливости и простоте в обращении, радушный хозяин и приятный собеседник по множеству интересных воспоминаний, он жил в большом свете, не гнушаясь, впрочем, и старинными знакомыми.
– Когда же вы впервые свиделись с государем после вашего увольнения? – спросил я однажды у графа.
– Не прежде как через девять лет. Бывав часто в это время в Петербурге, я всегда избегал свидания с ним и с намерением не являлся даже на те частные балы, где ожидали его присутствия. Но однажды мы встретились на вечере у Юсупова, куда он приехал из театра. Заметив меня за партией, он сам подошел, обнял меня и приветствовал несколькими ласковыми вопросами о здоровье, на которые я отвечал, что чувствую себя лучше, чем когда-нибудь. С тех пор мы уже часто стали видеться, но всегда только в публике. Он говорил мне тут обыкновенно несколько милостивых слов, но покушений к сближению не было никогда ни с его, ни с моей стороны.
Вскоре после того граф Закревский начал давать во вновь отделанном своем доме прекрасные балы, на которые являлся весь большой свет и во главе его великий князь Михаил Павлович, а в 1847 году, неожиданно для публики, если не для самого хозяина, приехали и государь с наследником цесаревичем, что повторилось также зимой 1848 года.
В это время князь Щербатов, единожды уже, как я рассказывал, оставивший службу по оскорбленному честолюбию, снова огорчился пожалованием в статс-дамы, к тезоименитству императрицы, графини Левашовой и Мятлевой, которые обе, по званию мужей, стояли ниже его жены, и вследствие того в мае прислал просьбу об увольнении его от звания Московского военного генерал-губернатора. Она была принята, с оставлением его только членом Государственного Совета. Но кто был назначен на его место? Тот самый граф Закревский, который уже за пятнадцать лет прежде занимал пост министра внутренних дел и, казалось, навсегда отказался от службы… Петербургская публика приняла этот выбор с большим одобрением, и никто не сомневался, что Закревский, честный, энергический, богатый русский барин, придется Москве совершенно по плечу; удивлялись только, как сам он, избалованный долговременной свободой жизни и ни в чем не нуждаясь, согласился взять на себя пост, по сравнению ниже его прежнего, и считали это почти за такую же жертву воле государя, как перед тем принятие Воронцовым кавказского места. Вместе с тем Закревскому возвращено было прежнее звание генерал-адъютанта, а 2 ноября того же года он пожалован и в члены Государственного Совета.
* * *
Одновременно с известием об отречении герцога Альтенбургского пришло и другое, в сравнении и без сравнения с первым колоссальное, – о таком же отречении от своей короны австрийского императора Фердинанда, этого бедного юродивого, который, среди тогдашних громадных переворотов, требовавших необыкновенной энергии, ума и характера, сделался, так сказать, невозможным на престоле.
Генерал-адъютант барон Ливен, посланный в Вену с нашими орденами для Виндишгреца и Иеллашича и только что воротившийся с благодарственными от них письмами, ничего не знал о готовившемся, как вдруг в ночь с 26 на 27-е ноября прискакал в Петербург эрцгерцог Вильгельм, с известием о вступлении на австрийский престол 20 ноября (2 декабря), следственно в тот самый день, в который праздновалось восшествие на престол нашего государя, молодого эрцгерцога Франца-Иосифа. Вестник этой перемены остановился в так называемом запасном доме, на Дворцовой набережной, и 27 числа уже присутствовал на большом параде гвардейского корпуса, предназначенном на этот день тогда еще, когда никому не приходило на мысль ожидать приезда эрцгерцога. Привезенное им известие, несмотря на всю его важность, не произвело на нашу публику ни особенного, ни продолжительного впечатления. Она так уже была базирована исполинскими происшествиями того года, что никакое новое событие не казалось ей более ни поразительным, ни неожиданным.
С ответом на миссию эрцгерцога Вильгельма, т. е. с поздравлением нового императора, государь послал в Вену[197]197
Император Александр II исправил: «в Ольмюц, где после венских смут находилась тогда вся императорская семья».
[Закрыть] великого князя Константина Николаевича.
Барон Ливен, о посылке которого в Вену я сейчас упомянул, отвез фельдмаршалу Виндишгрецу орден Св. Апостола Андрея с брильянтами и Бану Иеллашичу орден Св. Владимира 1-й степени. Эти награды пожалованы им были императором Николаем за укрощение революционно-анархических движений в Австрии и за взятие взбунтовавшейся Вены. Отправляя Ливена, государь заметил, что как орденские знаки с брильянтами носятся только в торжественных случаях, то Виндишгрецу нужна для обыкновенных дней простая звезда; вследствие чего велел снять такую с надеванного им в тот день мундира.
– Отдай ее князю, – прибавил он, обращаясь к Ливену, – и скажи ему, что я сам носил на себе эту звезду шесть лет.
Виндишгрец отвечал прекрасным письмом, в котором, благодаря государя, писал, что эта звезда будет обращена им в заветный майорат, долженствующий навсегда сохраняться в старшем поколении его дома. Иеллашич, со своей стороны, принимая от Ливена Владимирский орден, сказал, что это ему доказывает, что Петербург был ближе от Вены, чем Ольмюц. В самом деле, и он, и Виндишгрец получили за свои подвиги австрийские ордена уже гораздо позже наших.
XVIII
1849 год
Доктор Карель – Кончина И. Н. Скобелева – Освящение Конногвардейской церкви – Награды Радецкому, пожалованные императором Николаем – Освящение Московского дворца – Празднование Пасхи в Петербурге и Москве – Заговор Петрашевского – Манифест о венгерских делах – Назначение комплекта в университетах – Поездка государя в Польшу и возвращение – Пребывание наследника цесаревича в Ревеле – Императрица в Ревеле – Графиня Нессельрод
Жена лейб-медика Мандта никак не могла переносить нашего климата и оттого уже издавна вместе с детьми жила не с ним в Петербурге, а во Франкфурте-на-Одере, месте ее родины. В феврале 1849 года, Мандт отпросился в отпуск месяцев на пять, отчасти для свидания с женой, отчасти же для поправления своего расстроенного здоровья. Императору Николаю, при частых его хвораниях и при многолетней привычке и доверенности к своему лейб-медику, глубоко изучившему его натуру и вполне возобладавшему над его воображением, эта разлука была чрезвычайно неприятна.
Мандт, по воззрению своему на медицину и в особенности на начало или корни болезней, мог почитаться творцом своеобразной системы, которая, впрочем, по односторонности ли ее, или же по гениальности, находила очень немногих последователей. Два года сряду он читал в Петербурге публичные клинические лекции, на которые, несмотря на общеизвестный вес его при дворе, являлись, большей частью, лишь одни молодые врачи. Из числа их самое благоволительное внимание преподавателя обратил на себя доктор Конногвардейского полка Карель, родом эстляндец, сын тамошнего крестьянина, попросту Карла, и воспитанник Дерптского университета, с отличным образованием и со скромным, беспритязательным характером.
Мандт называл его в то время (после, при заносчивом самовластии Мандта и при зависти, возбужденной в нем успехами собственного его создания, они сделались врагами) «носитель моей системы» («der Trager meines Systems») и рекомендовал его, на время своего отсутствия, государю, которого Карель и сопровождал потом во всех его поездках, даже и в бытность снова здесь Мандта, считаясь вообще как бы помощником последнего.
В начале этого нового поприща Карель, пока он имел еще время заниматься частной практикой, был и моим домашним врачом, и я часто слышал от него разные подробности из внутренней дворцовой жизни. Вскоре по отъезде Мандта государь сильно простудился на маскараде в Большом театре, и эта простуда сопровождалась обыкновенными его болями в правой половине головы и частой рвотой. Со всем тем, во всю болезнь, продолжавшуюся дней пять, Карель, несмотря на жестокие страдания своего больного, никак не мог уговорить его лечь в постель. Лишенный возможности чем-нибудь заниматься, государь позволял себе ложиться только на диван, в шинели, всегда заменявшей ему халат, и в сапогах, которые, вдобавок, были еще – со шпорами! Карель не мог довольно выразить удивления своего к атлетическому, необычайному сложению его тела.
– Видев его до тех пор, как и все, только в мундире или сюртуке, – рассказывал нам Карель, – я всегда воображал себе, что эта высоко выдавшаяся вперед грудь – дело ваты. Ничего не бывало. Теперь, когда мне пришлось подвергать его перкуссии и аскультации, я убедился, что все это свое, самородное; нельзя себе представить форм изящнее и конструкции более Аполлоно-Геркулесовской!
* * *
В феврале умер Иван Никитич Скобелев, приобретший общую известность и даже некоторую знаменитость своей карьерой, своей львиной некогда храбростью и своими литературными, написанными солдатским языком, произведениями. Дослужась из сдаточных рекрут до полных генералов и александровских кавалеров, он в последнее время жизни был комендантом С.-Петербургской крепости, директором Чесменской военной богадельни, членом Инвалидного комитета[198]198
Александровский комитет о раненых.
[Закрыть] и шефом Рязанского пехотного полка.
«Отец и командир» (так сам он называл всякого встречного и поперечного) давно уже начал хилеть в своем здоровье, но окончательный ему удар нанесла история члена генерал-аудиториата, генерала от инфантерии Белоградского, с которым он всегда был очень дружен. Этого Белоградского, 72-летнего старца, родом из турок, взятого в плен в первой молодости под Белградом, по которому и дали ему фамилию, вдруг уличили в особых вкусах. Вследствие того государь отставил его от службы и велел сослать на покаяние в монастырь. Во время производства следствия о гнусных действиях, в которых он обвинялся, его заключили в Петербургскую крепость, и здесь Скобелев, при первой встрече с ним, так разгорячился от упреков и ругательств, которыми осыпал старого своего друга, что немедленно занемог воспалением в боку.
Одаренный бойким словом и владея живым, хотя малограмотным пером (сочинения его всегда переправлялись другими), старик был человек, по самому происхождению своему, без всякого образования, но очень оригинальный в своих приемах и речах, блиставший типическим русским умом, хлебосол, что называется, добрый малый, и петербургская публика очень его любила. По тону своему и всей личности он принадлежал к числу тех исключительных натур, которым, под предлогом свойственной солдатам откровенности и некоторой дерзости, позволяется говорить и делать многое, чего не вынесли бы от других. Прикрываясь этой суровой простотой, ему нередко удавались разные добрые дела, к чему самый пост коменданта Петербургской крепости представлял широкое поле.
Между множеством примеров вот один, характеризующий как самого Скобелева, так и отношение к нему государя. В 1848 году молодой гвардейский офицер Браккель, только что выпущенный на службу, с гауптвахты, в которой он стоял с караулом, дозволил отлучиться одному арестанту, и хотя последний своевременно возвратился, однако другой, вместе с ним содержавшийся, донес о случившемся, и государь велел посадить Браккеля в каземат. Это дало повод к следующей любопытной переписке:
1) Письмо Скобелева к военному министру от 1 ноября 1848 года: «Заключенный на 6 месяцев в каземат лейб-гвардии Егерского полка Браккель, образуя собой слабого, тщедушного, юного немца, принявший определенное ему наказание с чувством вполне кающегося грешника, все более за нанесение удара родителям, проживающим, по словам его, в Риге, слезами и тоской наводит мне страх. Боже упаси, если ко всему вышеперечисленному присоединится холера и он умрет. Немцы подумают, что его в крепости уморили. Браккель виноват по молодости и неопытности, но он, как вижу, сформирован на благородную стать, с чувствами возвышенными, похвальными, а посему, быть может, и сам я подвергаюсь вашему гневу, но осмеливаюсь просить исходатайствовать ему перевод в место менее грозное – гауптвахту».
2) Собственноручная резолюция государя на этом письме: «Старику Скобелеву я ни в чем не откажу. Надеюсь, что после его солдатского увещания виновному из Браккеля выйдет опять хороший офицер; выпустить и перевести в армейский полк тем же чином».
3) Благодарственное письмо Скобелева его величеству от 4 ноября: «Благотворная резолюция вашего императорского величества на письме моем дала мне повод и сообщила смелость представить вам настоящее положение души и сердца моего.
Клянусь святой верой и честью русского благородного солдата, что если бы вы подарили мне каменную в крепости палату, золотом и серебром набитую, далеко, далеко не порадовали б меня против этой Божественной резолюции, хотя, впрочем, я никогда не знал Браккеля, вовсе не знаком с его родителями и действовал по долгу и обязанностям стража, долженствующего вникать не только в физическое, но и в нравственное состояние преступника; посему, мог ли я вообразить, чтоб из обстоятельства, столь обыкновенного, на седую мою голову упала благодать и утлая жизнь моя снова озарилась счастьем, но ведь это не ново для меня: все ваше царствование – светлый праздник!
Не удивляйтесь, государь, всеусерднейшей просьбе моей: в случае войны употребить меня в дело; мне стыдно умереть под кровлей; ретивое мое должно перестать биться на полях славы и за вас, в пример и науку преемникам: иначе чаша счастья будет неполна».
На подлинном написано рукой военного министра: «Государь император изволил прочитать с удовольствием».
* * *
20 марта, в воскресенье, происходило освящение новой, прекрасной церкви Благовещения в Конногвардейском полку, выстроенной славным нашим Тоном с поразительной быстротой и достойно ставшей в ряде тех многочисленных и изящных храмов, которыми царствование императора Николая украсило Петербург. Два боковые придела освящены были рано утром гвардейскими протоиреями, а освящение главного – обер-священником армии и флота Кутневичем, с гвардейским и придворным духовенством, происходило в 11-м часу, в присутствии государя и всех великих князей. К обедне, уже после ее начала, приехала и императрица с великими княгинями. Государь во время совершения обряда освящения стоял в алтаре, а потом следовал за крестным ходом вокруг церкви. После обедни подходили к кресту, вслед за царской фамилией, все генералы, штаб– и обер-офицеры Конной гвардии, также лица, когда-либо в ней служившие, и, наконец, находившиеся в ней прежде на службе дворцовые гренадеры; в заключение государь подвел императрицу смотреть образа и милостиво разговаривал со многими, в том числе и с престарелым полковым священником. Тона, пожалованного к этому дню в действительные статские советники, он обнял публично, посреди церкви.
Особенное внимание всех обратила на себя великолепная вызолоченная дарохранительница – приношение графа Орлова, бывшего некогда командиром лейб-гвардии Конного полка. Это изящное произведение русских мастеровых, работающих на петербургский английский магазин, изображает в миниатюре ту же самую церковь со всеми ее подробностями.
При освящении присутствовал, между прочими, и обер-квартирмейстер гренадерского корпуса Бруннов, который на другой день умер от холеры!
* * *
Вести о блестящих победах знаменитого старца Радецкого в Италии столько же радовали Петербург, сколько приводили в бешенство анархистов Франции и Германии. Огромное большинство нашей публики, несмотря на все пагубные влияния Запада, вполне одушевлено было священным началом законности, и каждый австрийский победный бюллетень производил у нас самое живое впечатление, как бы победа была одержана нашими войсками. Известие о том славном деле Радецкого, которое имело последствием отречение от престола Сардинского короля Карла-Альберта и постыдное для Сардинии перемирие, пришло сюда в донесении нашего посланника при Венском дворе, графа Медема, 24 марта.
«Ура герою Радецкому, нашему фельдмаршалу!» – написал государь на депеше и послал племянника моего, Мирбаха, дежурного в тот день при нем флигель-адъютанта, с этим известием к австрийскому в то время у нас посланнику, графу Булю, который расплакался, как ребенок. Сверх пожалования титулом русского фельдмаршала, Радецкий тогда же был назначен шефом Белорусского гусарского полка, с присвоением сему последнему его имени, и в распоряжение его послано, для раздачи по его усмотрению, несколько Георгиевских крестов разных степеней. Все это повез к доблестному старцу сын другого нашего фельдмаршала, флигель-адъютант князь Варшавский[199]199
Император Александр II исправил: «Свиты его величества генерал-майор Яфимович».
[Закрыть].
* * *
Великолепный, громадный новый дворец в Московском Кремле был окончен к весне 1849 года, и у императора Николая родилась поэтическая мысль освятить этот новый памятник его царствования в праздник Светлого Воскресенья, дав при том древней столице случай посмотреть на новобрачных и на всю свою семью. Одну минуту думали, что кончина Нидерландского короля, в это время последовавшая и принятая очень близко к сердцу государем, остановит всю поездку; но сделанные уже в больших размерах приготовления и, может быть, еще более, начавшееся огромное стечение в Москву жителей провинций утвердили государя в прежнем намерении.
По значительному числу подъемных средств, требовавшихся для перевозки двора с его принадлежностями, она началась еще с половины марта, и для этого исполинского передвижения были употреблены и почтовые лошади, усиленные нарядом обывательских, и дилижансы, и даже транспортные заведения. Посланный в Москву для предстоявших церемоний, гвардейский отряд отправлен был также на переменных. Члены императорского дома следовали туда один за другим, начав с 20 марта, а государь уехал 25 числа, тотчас после церковного парада в Конногвардейскому полку.
В Петербурге из всего императорского дома остались только великая княгиня Елена Павловна с дочерью и дети цесаревича и великой княгини Марии Николаевны. Хорошее положение дорог от поздней зимы позволило всем отправиться еще в зимних экипажах, разумеется, со взятыми в запас колесами. Сильные ночные морозы, продолжавшиеся отчасти, в тени, и днем, исправляли в санном пути то, что портило в нем весеннее солнце, и на шоссе он (путь) держался еще в превосходном состоянии.
Пасха в 1849 году была 3 апреля, и хотя императорская фамилия находилась в Москве, однако в «Полицейских Ведомостях», а оттуда и во всех газетах, появилась неожиданно следующая статья: «В день Св. Пасхи божественная служба в соборной церкви Зимнего дворца совершена будет точно в том же порядке, как и во время присутствия в столице высочайшего двора».
Сначала это казалось только простым извещением для желающих; но непосредственно за сим последовало другое объявление, уже совершенно обязательное. По всем ведомствам, каждому через его начальство, разослана была следующая повестка: «Государь император при отъезде своем в Москву изволил объявить, что его величеству приятно будет, если лица, имеющие приезд ко двору, соберутся, и в отсутствие высочайшего двора из С.-Петербурга, ко всенощному бдению на предстоящий праздник Св. Пасхи, в церковь Зимнего его величества дворца».
После столь ясного изъявления высочайшей воли, конечно, уже нельзя было колебаться. Между тем, это странное и никогда небывалое в подобном виде торжество произвело на всех нас очень грустное впечатление. Дворец был освещен, по обыкновению, сверху донизу; везде были расставлены, как всегда, лакеи, скороходы, арапы; все кипело многолюдством, в праздничных нарядах, и все, однако же, посреди этого обычного блеска, было безжизненно и мертво, как бы на большом кладбище. Недоставало главного – хозяев, животворящего духа, и единственные в ту минуту представители царской семьи в Зимнем дворце, дети цесаревича, давно уже спали в своих постельках.








