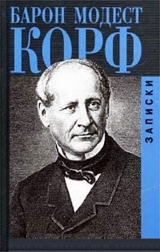
Текст книги "Записки"
Автор книги: Модест Корф
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 47 страниц)
Между тем, после всех сожалений разговор наш с графом Васильчиковым, натурально, направлен был к средствам заменить по возможности эту важную потерю, а оттуда и к укомплектованию вообще Совета, совсем одряхлевшего и развалившегося в своем составе.
Сперанский теперь председателем в департаменте законов, членом в польском департаменте и начальником всех законодательных трудов по II отделению Собственной его величества канцелярии, от которого издан был Свод и где теперь составляются ежегодные его продолжения, а сверх того, особые своды губерний привилегированных – работа столько же важная, сколько и трудная.
Обратясь к Совету, мы признали необходимым сделать хоть какой-нибудь временный распорядок, чтобы не стали совсем текущие дела: ибо за болезнью Сперанского в департаменте законов остаются только два члена, Кушников и Марченко, из которых первый тоже почти умирающий, а в польском – только один, князь Любецкий. Вследствие того, после долгих рассуждений и колебаний, мы придумали сделать двух новых членов Совета: Маврина, о котором и прежде было решено, и графа Гурьева, бывшего Киевского генерал-губернатора (брата графини Нессельрод), человека тяжелого, но блистательного ума, по крайней мере, со сведениями и все лучшего, чем другие возможные кандидаты. С этим усилением мы полагаем Маврина поставить в гражданский департамент, графа Гурьева и князя Карла Ливена (бывшего министра народного просвещения, возвратившегося недавно к нам после пятилетней отлучки) в департамент законов, а в польский департамент командировать временно, до возвращения отсутствующих членов, графа Левашова и адмирала Грейга, оставя их и в тех департаментах, где они теперь. Граф Васильчиков повезет это назначение на усмотрение государя в первый свой доклад.
После того мы перешли к предстоящему замещению Сперанского по председательству в департаменте законов и по законодательным его трудам.
– Надобно же мне и к этому приготовиться, – сказал граф, – потому что несомненно будет речь с государем.
Своим кандидатом на это место он назвал Д. Я. Дашкова, считая, что по своим наклонностям и образу жизни тот совершенно сроден к занятиям такого рода, а должность министра юстиции можно заместить Блудовым.
30 октября. Граф Васильчиков был вчера у государя. Назначение в Совет новых членов отложено до обыкновенного к тому времени, т. е. до 6 декабря. Затем князь Ливен посажен в департамент законов, а в польский департамент командированы временно, с оставлением и в прежних, Грейг и, вместо Левашова, Вилламов. Графа Литту государь никак не согласился уволить от председательства в исаакиевской комиссии.
– Это исторический памятник, – сказал он, – который приходит уже к концу, а старик тут так давно, что совестно бы было лишить его удовольствия и славы положить последний камень.
23 ноября. Киселев рассказывал мне о разговоре, который он имел на днях с государем о Государственном Совете. Государь жаловался, что Совет «очень устарел в личном своем составе». Киселев со своей стороны нашел, что это нисколько не беда; что Совет, по существу своему и по духу нашего правления, должен быть не provocateur, а conservateur, т. е. больше оберегать существующее, нежели допускать какие-либо нововведения, а если и допускать их, то с крайней осмотрительностью в отношении к главным началам и основным идеям монархического правительства; что для этого лучше годятся старики, естественно привязанные к прежнему, нежели молодые люди с живым воображением; что последних надобно сажать в министры и правители, потому что Россия не может ни оставаться в неподвижном состоянии, ни отставать от века, и тогда уже их дело будет выдумывать и созидать, а Совету останется только умерять их жар и свято поддерживать главный фундамент.
Была также речь о печатании вносимых в Совет проектов. Против этой идеи, принятой уже государем по представлению графа Васильчикова, Киселев сильно восстал теперь перед государем: «Тогда, – сказал он, – главная идея сама собой рушится. Велики ли теперь или слабы способности членов Государственного Совета, дальновидны или ограниченны они в своих соображениях – по крайней мере, при образе доклада дел в Совете не может уже быть никаких суфлеров, и все замечания идут прямо от членов. Начните только печатать проекты, и вся личность этих членов исчезнет: вместо них будут читать проекты столоначальники и секретари и другая молодежь, они станут привозить в Совет уже не свои мысли и замечания, а внушенные им новым поколением, которое при всей осторожности и при всех мерах правительства – все-таки напояется идеями Западной Европы. Где же тогда останется опора монархических понятий, которые теперь так свято стерегутся этими, если не всегда даровитыми, то, по крайней мере, старыми и опытными головами?
24 ноября. Граф Васильчиков имел тоже разговор с государем об устаревшем составе Совета и представил это дело с другой стороны, нежели Киселев. Он думает, что молодые члены в Совете не только не вредны, а необходимы; но, чтобы не уронить этого звания и не лишить его цены в глазах людей старых, которых после придется сажать в Совет не столько для пользы дел, сколько из личных уважений, – необходимо в выборе молодежи быть сколько можно осторожнее, – словом, назначать только таких, о которых вперед можно быть уверенным, что публика единогласно одобрит их назначение.
Сперанский не только вне всякой опасности, но совсем уже выздоравливает. Бюллетени прекратились, и думают, что он скоро уже начнет заниматься делами. Слава Богу, что опасения наши были напрасны; но надолго ли это и каковы будут его занятия после такой тяжкой болезни и после потери в его лета такого множества крови?
В архиве Государственного Совета хранится собственноручный рескрипт государя, на имя покойного председателя князя Кочубея, на пяти (почтовых) страницах, который чрезвычайно интересен и сам по себе, и по обстоятельствам дела, предшествовавшим и последовавшим ему.
19 октября 1831 года получено было в Совете представление министра финансов о необходимости по отмененному положению государственного казначейства возвысить в России на 1832 год некоторые казенные сборы, в том числе и таможенные пошлины на некоторые товары, с временной прибавкой на все вообще привозные по 12 1/2 процентов.
Совет был тогда особенно занят проектом нового закона о дворянских выборах, который велено было представить к 6–7 декабря. Но министр финансов, ссылаясь на скорый отъезд свой в Москву (где тогда государь находился), требовал, чтобы указ о возвышении таможенных сборов издан был непременно в ноябре, чтобы, при краткости времени до нового года, успеть сделать нужные по таможням распоряжения. Совет собирался по проекту о выборах 19, 23, 26 и 29 октября, т. е. в 10 дней четыре раза. Несмотря на то, в это же время департамент экономии рассмотрел помянутое представление министра финансов, и 31 октября оно выслушано и в общем собрании, а 7 ноября дело отправлено к государю в Москву, где и подписан 11 ноября указ с приложением таможенной росписи в том самом виде, в каком она одобрена и представлена была Советом. Указ был простой, форменный, а самые правила и распорядок новых сборов помещены были в конце росписи в виде примечаний, и тут, между прочим, о времени действия оной постановлено: «что сбор прибавочных 12 1/2 процентов должен начаться со дня получения в таможнях указа и браться со всех товаров, в таможенном ведомстве без очистки пошлиной еще находящихся и вновь прибывающих».
Указ с росписью, по особому высочайшему повелению, напечатан был в «Московских Ведомостях» 14 ноября, но от Сената здесь, в Петербурге, он опубликован не прежде 20 числа, хотя получен был еще 16-го. Между тем «Московские Ведомости» пришли сюда с эстафетой 17 числа, и, натурально, на другой день обнаружилось среди купцов стремление к очистке товаров в здешней таможне, чтобы избавиться от 12 1/2 процентов, пока в ней не был еще получен указ. 18 числа таможня успела принять необыкновенное количество денег, именно свыше 700 000 руб., и только с наступлением ночи она прекратила по закону свои действия. Но вечером того же дня директор департамента внешней торговли (тогда Бибиков), опасаясь с наступлением следующего дня еще большего стремления к очистке товаров, предписал таможне взимать уже прибавочные проценты, ссылаясь на распоряжение министра финансов в Москве о взимании их процентов с напечатания указа в тамошних ведомостях.
Между тем до государя очень скоро дошел ропот купечества, отозвавшийся во всех классах, на указ 11 ноября, в том отношении, что оным велено взимать прибавочные пошлины с товаров, находившихся уже во время его издания в пакгаузах; вследствие того высочайше повелено было министру финансов представить Государственному Совету «причины, побудившие к этому постановлению», – что он и исполнил не далее, как 2 декабря. Объяснение его было очень обширное, но в сущности он представлял, что первоначальное побуждение к жалобам дано было запоздалым распубликованием указа через Сенат, а касательно самой меры писал, что купец, заплативший за товар более пошлины, во всяком случае выручает свой аванс с публики, а тот, у кого есть товар, очищенный старой пошлиной, имеет даже значительный барыш: следовательно, во всех делах этого рода сталкиваются два интереса: публики и торгующих. Далее он доказывал, что указом 11 ноября охранен интерес публики, и, ссылаясь на примеры прежних тарифов и на невозможность соблюдения, при чрезвычайных финансовых мерах, строгих начал общей уравнительности, замечал, что и с достоинством правительства едва ли совместно внимать в этом случае частным домогательствам и отменять закон, только что изданный, в справедливости которого он остается, впрочем, постоянно убежденным; если же признано будет полезным принять какую-либо меру собственно в отношении тех купцов, которые до 20 ноября продали товары по определенной цене с принятием платежа пошлин на продавца, то это легко может быть сделано частным распоряжением, посредством особого указа на имя его, министра.
В Совете все это, вследствие высочайшей воли, рассмотрено было не далее, как на другой день (3 декабря). Совет начинал журнал свой оправданием в пропуске означенной меры и оправдывался тем: 1) что представление министра получено было в такое время, когда Совет занимался по два и по три раза в неделю со всей внимательностью законом о дворянских выборах; 2) что министр особенно спешил этим делом, требуя издания указа непременно в ноябре; 3) что ни в представлении его, ни в сопровождавших оное соображениях не было упомянуто о распространении надбавочных 12 1/2 процентов на товары, находившиеся уже в таможнях; 4) что расчет министра об усилении доходов по этой части на 1838 год основан был на годовой сложности без причисления единовременного какого-либо сбора с товаров, находившихся уже налицо в таможнях; 5) что по всему этому Совет не обратил особенного внимания на примечания к росписи, где обыкновенно излагается простой распорядок исполнения и некоторые исключения из общих правил, не входящие в состав закона, для того, чтобы маловажностью предметов не затемнять силы истинного указа; но где сверх ожидания оказался предмет, послуживший поводом к настоящим рассуждениям, предмет, по важности своей требовавший и другого изложения, и места не в примечаниях к росписи, а в самом представлении, где помещение оного, без сомнения, заставило бы Совет требовать изъяснения побудительных к такой мере причин и послужило бы, во всяком случае, предметом особенных рассуждений.
Засим, перейдя к самому существу дела, Совет в журнале своем изложил сильные опровержения против доводов министра финансов и заключил тем, что подобные меры, противореча справедливости и самой пользе государства, не должны быть допускаемы и что на этом основании от 12 1/2 процентов надлежит изъять все те товары, которые, до получения указа 11 ноября в таможнях, поступили уже в ведомство оных; о чем и положил поднести к высочайшему подписанию указ такого содержания, чтобы в виде монаршей единственно милости от платежа этих процентов избавлены были все вообще привозные товары, поступившие в таможенное ведомство до дня получения в каждой таможне указа 11 ноября и чтобы тем из хозяев, с которых такие проценты были бы уже взысканы, оные возвратить.
Указ этот подписан 7 декабря, но перед тем, 5 декабря, последовал следующий рескрипт на имя графа Кочубея:
«Граф Виктор Павлович! Вам как председателю Государственного Совета и Комитета министров, не только по этому званию, но и по личным вашим достоинствам облеченному всей моей доверенностью, известно в полной мере обращаемое мной внимание на представления этих мест, учрежденных для совещания о важнейших делах управления и законодательства. Всякое мнение, всякое замечание, клонящееся к охранению справедливости или к пользе общей, я принимаю с живейшим удовольствием, как несомненный, лучший знак верноподданнического ко мне и к престолу моему усердия. Не вправе ли я надеяться, что Государственный Совет, составленный из людей, заслуживших мое особенное благоволение, никогда не ослабнет в усилиях и старании избегать всего, могущего навлечь на него нарекание в неосмотрительности.
К сожалению, я должен отметить случай, в котором это справедливое ожидание не исполнилось.
Указ 11 ноября этого года и приложенная к нему роспись, коими возвышается привозная пошлина на некоторые товары и установляется добавочный таможенный сбор, были рассмотрены в комитете финансов и в департаменте государственной экономии и, наконец, в общем собрании Совета. Ни в котором из этих мест никто из членов не заметил, что по буквальному смыслу ст. 2 примечания II к росписи, добавочный 12 1/2-процентный сбор распространяется и на товары, привезенные раньше обнародования этого указа, но еще не очищенные пошлиной, на основании законом даруемой для сего 6-месячной отсрочки, и что через это постановлению новому дается обратное действие. Никто, конечно, не может подумать, чтобы правительство, известное своим уважением к справедливости и доброй вере, имело намерение постановить что-либо противное присвоенным законами правам и священнейшему из всех праву собственности.
Но не даст ли повод к этому ложному заключению вкравшаяся в приложение к указу 11 ноября ошибка? Она ускользнула и от моего внимания, потому что я был вправе ожидать тщательного рассмотрения проекта Советом. Препровождением оного в Государственный Совет я доказывал, что в этом деле не хотел совершенно доверить одному моему мнению. Эта ошибка должна быть исправлена.
Но не менее того я считаю себя обязанным изъявить через вас всем участвовавшим в суждении этого дела, особенно же заведующим в комитете финансов, возбужденное во мне неосмотрительностью их чувство прискорбия и неудовольствия.
Они сами, как мне известно, с благородной откровенностью признали, что не совершенно вникли в смысл постановления. Отдавая полную справедливость столь похвальному их побуждению, я в нем вижу новое для себя удостоверение, что никогда уже не буду вынужден постановлять на вид Государственному Совету недостаток внимания в каком бы то ни было деле. Члены оного не престанут доказывать усердными трудами, сколь они достойны моего благоволения.
Пребываю к вам благосклонным. Николай».
Рескрипт этот, как сказывал мне неоднократно Д. Н. Блудов, писан был им; но списан собственной рукой государя и в таком виде и хранится в архиве Совета.
Что же Совет? Совет отвечал на это журналом того числа (7 декабря) следующего содержания:
«Государственный Совет, выслушав с благоговением высочайшую волю, положил: изъяснить его императорскому величеству глубокое прискорбие свое и вместе с тем повергнуть к священным стопам его величества чувства живейшей признательности за милостивые выражения, в которых его величеству угодно было справедливое неудовольствие свое Государственному Совету изъявить».
2 декабря. 28 ноября был бал у сенатора Бутурлина, а вчера, 1 декабря, у графа Левашова – балы званые, блестящие и богатые, как и все балы нашей знати. Трудно выдумать тут что-нибудь новое; но у графа Левашова есть нечто чудесное, принадлежащее, впрочем, не столько к балу, сколько к дому: это огромная, бесконечная оранжерея, примыкающая к бальным залам, с усыпанными красным песком дорожками, освещенная тысячью кинкеток, которых огонь отражается на апельсинных и лимонных деревьях. Кому надоест шум и жара бала, тот может искать тут отдыха и уединения и, когда на дворе трещит мороз, наслаждаться всеми прелестями цветущего лета. Новость нынешней зимы состоит еще в том, что на всех званых вечерах все кавалеры являются опять в белых галстуках.
5 декабря. Вчера было торжественное обручение герцога Лейхтенбергского с великой княжной Марией Николаевной в Эрмитажной церкви. По тесноте этой крошечной временной церкви в нее введены были до церемонии только члены Государственного Совета и дипломатический корпус. Двор, предшествовавший царской фамилии, провели только через церковь в другую залу, а прочих никого и в церковь не пустили.
Церемония была столько же великолепная, сколько и трогательная. Обручение совершал «ветхий деньми» и силами петербургский митрополит Серафим, а в молебне благодарственном участвовали четыре митрополита, два архиерея и придворное духовенство – все в богатейших ризах. Герцог был в нашем генеральском мундире с Андреевской лентой; государь в казачьем мундире; малютки Константин и Николай в мундирах: первый – морском, а последний – уланском; младший Михаил – в русской рубашке. Государь сам поставил новообручаемых на устроенное посреди церкви возвышение, а императрица разменяла им кольца. После обручения начались целования между членами императорского дома, при которых трудно было удержаться от слез. Особенно удивительно было целование обеих сестер, Марии и Ольги Николаевен, которые не могли одна от другой оторваться. После церемонии был у великой княжны общий baisemain, при котором герцог находился возле нее и принимал поклоны.
В то же время прочтен был в Сенате манифест. Вечером вся царская фамилия была в театре, и не в обыкновенной своей ложе, а в парадной, где публика приняла ее с восторженными рукоплесканиями, криком «ура!» и национальным гимном. Чтобы сделать из этой заметки формальную газетную статью, надобно прибавить, что город был иллюминован и – против обыкновения – местами недурно.
18 декабря. Вчера, 17 декабря, минул год со времени бедственного пожара Зимнего дворца. Как теперь возобновление его идет исполинскими шагами, то государю захотелось отпраздновать этот день особенным образом.
Пожар начался, как известно, с Фельдмаршальской залы, и вследствие того приказано было, чтобы к 17-му числу эта зала непременно возобновлена была в прежнем своем виде. Воля царская сильна в России, и все поспело ко времени: зала воскресла опять, как была тому назад год; недостает только люстр и окончательной политуры на стенах. Вчера собралась туда вся царская фамилия с маленькой свитой, строительная комиссия и конногвардейцы, которые прошлого года в этот самый роковой день были тут в карауле под предводительством того же самого офицера (моего племянника Мирбаха). Государь, приветствовав их, сказал:
– Прошлого года, ребята, вы в этот самый день были первыми свидетелями начавшегося здесь пожара; мне хотелось, чтобы вы же были и первыми свидетелями возобновления этой залы в нашем дворце.
Потом был, в присутствии царской фамилии, благодарственный молебен с коленопреклонением. К Святой неделе, которая будет очень рано (26 марта), все важнейшие части дворца будут отделаны, и мы будем праздновать Пасху в возобновленной его большой церкви.
Дверь Сперанского открылась. Я тотчас этим воспользовался и сегодня был у него. Здоровье его совсем восстановилось, кроме большой слабости и совсем пропавшего голоса, который однако со временем, вероятно, тоже воротится. Я не нашел, чтобы он и в лице много переменился. Свидание наше было самое дружеское, даже трогательное, и мы оба поплакали. Я так давно с ним знаком, так обязан ему за благорасположение, которым он всегда меня отличает, так привык отдавать справедливость великим его качествам и столько считаю его необходимым для России при жалостном нашем безлюдии, что искренне обрадовался, увидев его опять возвращенным нам.
Я сказал, что явился к нему без большой надежды быть допущенным по отказу, который на днях получил его статс-секретарь Балугьянский.
– Совсем другое дело, – отвечал он, – с Балугьянским не связывает нас ничего, кроме отношений службы, и мне не об чем было бы говорить с ним, кроме дел, которыми мне еще запрещено заниматься, а вас я принимаю как друга, которого мне давно уже хотелось обнять.
Вчера был у него государь и сидел с полчаса; старик рассказывает это всем с видимым чувством и радостью. Даже старый его полушвейцар и полукамердинер, который при нем уже более 20 лет, не мог не похвастать мне при выходе этим визитом.
– Государь-батюшка сидел у нас с полчаса, и Михаил Михайлович так уж этим был доволен, так доволен, что глядя на него, и я не мог нарадоваться.








