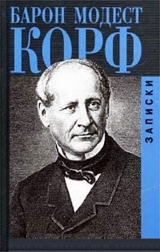
Текст книги "Записки"
Автор книги: Модест Корф
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 47 страниц)
Заметно было, впрочем, из его слов, что он в эту поездку остался чрезвычайно доволен тремя вещами: 1) осмотренными им войсками; 2) новым Московско-Бобруйским шоссе, которому, как он тут же отозвался, «никогда подобного не видывал, а лучшего, конечно, никогда и не увидит», 3) весьма уже далеко подвинувшимся в то время постоянным мостом через Днепр у Киева.
Обед шел чрезвычайно скоро; государь кушал очень мало, а за ним спешили или отказывались и другие; после же стола тотчас подали кофе, а за ним, почти в ту же минуту, без всяких дальнейших разговоров, последовал и прощальный поклон.
Поездка эта, как я слышал после от имевших случай часто видеть государя, если и утомила его более обыкновенного телесно, то чрезвычайно оживила его дух, в котором, в последнее перед нею время, замечали какую-то особенную мрачность, или, что называется, черный номер. Проявление этого дурного расположения духа преимущественно обнаруживалось всегда, когда шло дело о заграничных отпусках, в разрешении которых, кроме значительного возвышения цен за паспорт (250 руб. для здоровых и 100 руб. для больных), он снова сделался в это время строже и разборчивее, чем когда либо.
Одному богатому, неслужащему курляндцу, сродни мне, который просился к водам с больною семьею, было объявлено, что он, вместо чужих краев, может ехать к отечественным водам. Такие примеры, как и простые отказы, повторялись беспрестанно.
Но ни над кем дело не разразилось так плачевно, как над сыном бывшего некогда обер-шталмейстера князя Долгорукова, служившим в Государственной канцелярии и просившимся за границу на год по здоровью, не только расстроенному, но и совершенно разрушенному. На представлении о том государь, к испугу высшего петербургского общества, написал: «Уволить от службы».
* * *
Восхищение государя от Брест-Литовского шоссе, изъявлениям которого я был свидетелем, не осталось без последствий, можно сказать совершенно необычайных и беспримерных. Это шоссе, со всеми к нему принадлежностями, строил по подряду отставной поручик Вонлярлярский, человек очень хороший, очень умный и гениальный спекулятор, в совершенстве исполнивший в этом случае свою контрактную обязанность, но взявшийся за дело, как и всякий подрядчик, все же имея в виду извлечь для себя выгоды. Вдруг, приказом 25 сентября, он «за примерно-превосходное и совестное исполнение взятой на себя обязанности», был пожалован из отставных поручиков – прямо в статские советники, с назначением состоять при 1-м отделении Собственной его величества канцелярии для особых поручений!
* * *
12 октября совершилось пятидесятилетие службы нашего министра финансов. Это число пришлось в пятницу, всегдашний день его личного доклада; но государь, в нежной предупредительности, велел ему на этот раз явиться к себе, вместо пятницы, в четверг. Едва Вронченко вошел в кабинет, как государь, взяв со стола приготовленные заранее знаки Андреевского ордена, сам их на него возложил и потом прочел ему написанный собственноручно проект грамоты на эту милость.
Вронченко, почти в беспамятстве от такого счастья, припал к его ногам и умолял отдать ему этот черновой проект как драгоценнейшую для него награду; но государь не согласился, говоря, что проект отошлется в 1-е отделение Собственной канцелярии, для заготовления по нем настоящей грамоты.
В городе нельзя было обраться толков и пересудов о новом андреевском кавалере; но едва ли они имели основание. Важнейшее, неожиданнейшее, невероятнейшее, так сказать решительнейшее в карьере Вронченко было – назначение его управлять министерством финансов; все же прочес, как скоро труды и личность его были угодны государю, долженствовало следовать за этим само собою.
* * *
Еще зимою с 1850 на 1851 год учрежден был особый Комитет, под председательством наследника цесаревича, для рассмотрения вопроса: быть или не быть железной дороге из Петербурга в Варшаву. Этот Комитет решил дело, преимущественно основавшись на мнении графа Гурьева, тем, чтобы окончательное рассмотрение его отложить на год со времени открытия Московской дороги, дабы удостовериться из опыта, какие доходы будет приносить сия последняя. Но в пребывание свое в Москве осенью 1851 года государь перевершил этот вопрос, велев приступить к построению Варшавской дороги немедленно и в возможной скорости, не столько для тех целей, для которых обыкновенно сооружаются железные дороги, сколько из видов стратегических.
– В случае внезапной войны, – говорил он, – при теперешней общей сети железных дорог в Европе, Варшава, а оттуда и весь наш запад могут быть наводнены неприятельскими войсками прежде, чем наши успеют дойти из Петербурга до Луги.
Вместе с тем решено было новую дорогу строить на счет казны, посредством займа. Прямого публичного извещения о сем, впрочем, в то время не последовало, но явилось, некоторым образом, косвенное, в приказе 8 октября, которым объявлялось особенное монаршее благоволение товарищу главноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями, генералу Герстфельду, за «отличное и вполне удовлетворительное исполнение возложенного на него поручения по изысканиям к сооружению С.-Петербурго-Варшавской железной дороги».
* * *
Смерть короля Ганноверского, этого энергического до упорства старичка, который один в минувшие страшные годы умел отстоять монархизм в Германии, не осталась у нас без некоторого сочувствия, хотя, впрочем, по его летам, она не могла быть неожиданною. Известие о ней пришло сюда в одну из ноябрьских суббот, когда на воскресенье уже был назначен спектакль в Царском Селе, где имел еще свое пребывание императорский дом. Вследствие того спектакль отменили, но только вполовину, т. е. вместо представления в постоянном театре, устроенном в одной из зал старого дворца, актеры играли в Александровском, где вместо декораций были поставлены простые ширмы.
В этот день давалась новая, не игранная еще тогда на петербургских театрах, русская пьеска, вроде французских «Провербов», под заглавием «Чему быть, тому не миновать». Эта умная, милая болтовня принадлежала также перу сочинителя «Белой Камелии», т. е. брату моей жены. Государь чрезвычайно остался ею доволен и несколько раз принимался хвалить (впрочем, заочно) своего редактора «Инвалида», должность, которую занимал в то время мой шурин.
* * *
Большие собрания в петербургском высшем обществе в течение зимы 1851 года были чрезвычайно редки. При всех препонах, полагавшихся заграничным поездкам, главная часть нашего большого света находилась тогда в Париже, и вместо того, чтобы принимать здесь, распределила между собою вечера там. Посреди политического шума, борьбы партий и ожидавшихся беспокойств граф Воронцов-Дашков, графиня Разумовская, князь Радзивилл, Рибопьер и другие учредили свои приемные дни в запрещенном Париже, как бы у себя дома, в нашем мирном Петербурге!
* * *
26 ноября, в Георгиев день, ровно через четыре года после присяги великого князя Константина Николаевича, принес такую же – с тем же торжеством и по тому же церемониалу – великий князь Николай Николаевич. Случилось только две разницы в окружавших обстоятельствах: во-первых, Константин Николаевич во время своей присяги был уже женихом и даже сама невеста его уже находилась в Петербурге, а для Николая Николаевича будущее его в сем отношении оставалось еще покрытым совершенною неизвестностью; во-вторых, я тогда уже более месяца преподавал Константину Николаевичу законоведение, а брат его еще не приступал ни к каким занятиям по этой части. Накануне этого дня пришли сюда первые телеграфические вести о новом перевороте в Париже, приблизившем Наполеона «le petit», маленького, как его тогда у нас называли, к роли Наполеона «le grand», великого.
* * *
Разные преобразования, предпринятые в Публичной библиотеке со времени вступления моего в управление ею, повели за собою, между прочим, и составление для ее посетителей новых правил. Проект их я отвез в начале декабря к князю Волконскому. Бедный старичок в то время уже около месяца имел ногтоеду на ноге и не выезжал, даже не мог ходить, сколько от боли, столько и от невозможности обуваться. Эти страдания не мешали ему, однако ж, работать и оканчивать дела с обыкновенною деятельностью и быстротою, и вся разница состояла в том, что государь, вместо приема его и выслушивания его докладов у себя, сам к нему приходил[258]258
Князь жил во дворце, близ старого Эрмитажа, и особый подъезд, с которого вела к нему лестница, назывался, частно и официально, «подъездом князя Волконского».
[Закрыть]. При таком докладе вручен был Волконским и мой проект. На другой день государь встретил меня с моим сыном в Большой Морской.
– Здорово, Корф, – сказал он, остановясь и указывая на моего мальчика, – что, который номер? А все ли у тебя благополучно? Читал я твое Положение для посетителей; все очень хорошо, только не надо пускать в библиотеку кадет. Что им там читать при элементарном их образовании? Нужные по степени их книги есть и в собственных корпусных библиотеках. Нижним чинам тем более нечего там делать. Студенты – дело другое: это прямая их обязанность и назначение. Переделай же, пожалуйста, статью в этом смысле.
* * *
Под конец царствования императора Николая, частью от болезненного состояния императрицы, частью же от увеличившегося в нем самом с летами нерасположения к представительности, то, что называется при нашем дворе большими выходами, т. е. церемониальные шествия в придворный собор, бывавшие в прежнее время раз двенадцать и более в году, становились постепенно все реже и назначались, напоследок, кроме каких-нибудь особенных придворных церемоний (крестин, бракосочетаний и проч.) уже только в Пасху, в Рождество и в праздник Богоявления. Так и 6 декабря 1851 года, в день тезоименитства государя, все ограничилось одним лишь выходом в малую дворцовую церковь, в которую приглашалась всегда военная свита, а из числа прочих особ являлись без зова только некоторые из членов Государственного Совета и из других приближенных. После обедни государь, сказав несколько слов старшим членам Совета, обошел быстро остальных и, остановясь передо мною, стоявшим одним из последних, протянул мне руку и сказал:
– А я к тебе опять с челобитною: за двух последних, понимаешь? Надеюсь, что ты, из дружбы ко мне, и в этот раз не откажешь. – И он пошел так скоро далее, что я мог только поклониться, не успев ничего выговорить.
Между тем, мне нетрудно было понять, к чему относились эти мимолетные слова, так как еще накануне управлявший воспитанием великих князей Николая и Михаила Николаевичей генерал-адъютант Философов предварил меня об отзыве государя, что и им уже пора бы начать свои занятия по законоведению и что он сам меня о том попросит. Вследствие того, возвратясь домой, я написал записку, в которой, изъявив благоговейную готовность сделаться, по силам, достойным вновь явленного мне знака монаршего доверия, испрашивал разрешение, должны ли занятия с великими князьями иметь то же содержание и тот же объем, какие предначертаны были его величеством для бесед моих с старшим их братом?
Записка эта возвратилась со следующею надписью: «Душевно благодарю; желаю, чтоб занятия ваши были совершенно наподобие бывших с Константином Николаевичем, хотя предваряю, что младшие братья не столь еще приготовлены, как был он».
* * *
Великие князья Николай и Михаил Николаевичи были воспитаны и ведены, как и все дети императора Николая, в самой патриархальной простоте. Половина их в Зимнем дворце, в конце известного большого коридора, возле самой маленькой передней, всего из трех комнат: залы, которая была вместе бильярдною, гостиною и даже столовою (для завтраков, потому что обедали великие князья вместе с августейшими своими родителями); спальни, где стояли почти рядом, имея какую-нибудь сажень между собою, головами к стене, две низенькие и узенькие походные кровати, и где на диване постоянно спал при них многие годы помощник Философова, дальний мой родственник, теперь генерал-адъютант, барон Корф; наконец учебной, где вдоль всех стен размещена была библиотека. Большою залою, примыкавшею к учебной и посреди которой стояла огромная модель корабля[259]259
В этой зале прежде, при императоре Александре I и в первые годы царствования его преемника, собирался Государственный Совет, переведенный впоследствии в Эрмитаж.
[Закрыть], они располагали только в случае чрезвычайных и более многочисленных приемов. Когда начались мои занятия с ними, я при одной из наших бесед чувствовал себя не совсем здоровым и жаловался на лихорадочный озноб.
– Советую вам, – сказал Михаил Николаевич, – напиться на ночь горячего чаю и хорошенько укрыться шинелью.
Этот совет укрыться шинелью содержал в себе целую историю их спартанского воспитания!
* * *
22 декабря за столом у государя присутствовали, сверх цесаревича и его супруги и двух младших братьев, генерал-адъютант граф Пален, обер-шенк граф Виельгорский и я.
– Ну, – сказал государь, подойдя перед обедом ко мне первому, – я, кажется, испытываю твое терпение до конца (намек на новых моих учеников); но за то, уже вперед, огромное тебе спасибо.
За несколько дней перед сим цесаревич и супруга его осчастливили своим посещением обновленную мною Публичную библиотеку и остались всем очень довольны. Как только сели за стол, государь сказал:
– Я слышу от детей, что ты сделал из библиотеки просто чудеса, и кругом виноват, что еще не побывал у тебя; но если б ты знал, как в конце года я завален… Постараюсь, впрочем, скоро исправить свою вину[260]260
Государь действительно удостоил библиотеку своим посещением 13 декабря 1852 года.
[Закрыть]. Виноват еще и в том, что отнял у тебя твои хорошенькие рукописи, с которыми свиделся, впрочем, в Эрмитаже, как с старыми знакомыми: представь, что они мне памятны, почти совестно сказать, еще с 1805 года, когда их привез Дубровский! Правда, что в тогдашние мои лета они немного доставляли мне удовольствия… Зато я велел передать тебе из Эрмитажа разные другие рукописи и пропасть книг. Надо же нам, наконец, согласиться в цели. Эрмитажная библиотека есть, в моем понятии, семейная, и потому в ней должно быть то, что может понадобиться мне или моей семье; все прочее, вся латынь, все ученое следует в Публичную библиотеку, где будет гораздо полезнее. При том оба заведения состоят теперь в одном главном ведомстве, и все нужное Эрмитажу можно будет тотчас получать из библиотеки.
Далее государь говорил еще о торфяном ее отоплении и прибавил, что запах от него заносится даже в Караванную; хвалил мысль мою иметь во внутренних лестницах деревянные ступени, потому что, в случае пожара, их можно тотчас отломать, а железные так накаляются, что становятся хуже деревянных; рассуждал, тоже с похвалою, о произведенном нами перемещении всех печей в подвалы, о вновь устроенных вертящихся витринах и проч.; словом, изъяснялся обо всех сделанных у нас улучшениях, как бы сам их осматривал, очевидно по рассказам его сыновей. Но когда я упомянул, что во всем этом гораздо более заслуги со стороны моего помощника князя Одоевского с архитектором Собольщиковым, которыми все главное сделано во время заграничной моей поездки, то он замял мои слова и, как бы не расслышав их, переменил предмет разговора. Было также говорено об известной московской коллекции старопечатных книг Карабанова, именно около этого времени перешедшей, после смерти ее владельца, в руки правительства, и об еще более известном московском же «Древлехранилище» Погодина, о котором в особенности цесаревна отзывалась с чрезвычайным уважением.
– Уполномочиваю тебя, – сказал мне государь, – если Погодин расположится продать свое собрание, при жизни или после смерти, войти с ним в условия для его приобретения в казну. Всегда желательнее, для самого сбережения таких коллекций, чтобы они оставались в руках правительства, а не частных людей[261]261
После многих переговоров собрание Погодина было куплено осенью 1852 года, за 150 тыс. руб. серебром.
[Закрыть].
– И однако, – заметила цесаревна, – если бы частный человек не подумал собрать и подобрать эти редкости, они были бы потеряны для науки.
– Это верно, – отвечал государь, – но какова обыкновенно участь этих коллекций? После смерти того, кто собрал их с большими расходами, невежественные или алчные наследники стараются во что бы то ни стало от них отделаться и кончают тем, что коллекция умаляется, если худшее не случается, как со знаменитою коллекциею графа Пушкина, сгоревшей в 1812 году.
Я благодарил за великолепный портрет императрицы Екатерины II работы современного ей художника Левицкого, присланный библиотеке в подарок от государя, и сказал, что он поставлен в Ларинской зале, где производит бесподобный эффект, составляя, однако ж, маленький анахронизм, потому что и Ларинская зала и вся эта часть библиотеки построена при нынешнем государе, которого портрет находится в отделении рукописей.
– Этому легко пособить, – возразил, усмехнувшись, государь, – мою рожу выкинуть, а на ее место поставить портрет Екатерины.
– Позвольте протестовать против этого, государь, – отвечал я, – ваш портрет стоит между знаменитыми трофеями ваших побед: рукописями Ахалцихскими, Ардебильскими и проч. и не может тут никому уступить своего места!
Из числа разговоров, не относившихся до библиотеки, интереснейшие за этим обедом были следующие:
1) Государь спросил у императрицы:
– Прочла ты уже письмо Фрица? Он дошел до того, что говорит, будто до конца будущего года Луи-Наполеон сделается нашим товарищем. Я позволю себе сомневаться в этом. Пусть он сделается чем он хочет, самим великим Муфтием, если это ему нравится, но что касается до титула императора или короля, я не думаю, чтобы он был настолько неосторожен, чтобы посягал на него… Я еще заметил одну вещь в письме Фрица: он утверждает, что Луи-Наполеон, чрез свое поведение, был причиною смерти своей матери; но я никогда не слышал об этом. – И государь обратился с вопросом о том к графу Палену как долго находившемуся нашим посланником в Париже; но и тот отвечал, что никогда ничего подобного не слыхивал[262]262
Здесь – одна очень примечательная вещь. На другой день, встретясь с графом Бенкендорфом (племянником шефа жандармов и наследником его графского титула), приехавшим сюда из Берлина, где он состоял в то время военным нашим агентом и, вместе, домашним, так сказать, посредником между обоими царственными домами, я рассказал ему об этом разговоре. «Как, – сказал он, – никто не заметил, что король прусский в своем письме нисколько не думал о настоящей матери Луи-Наполеона и что он выражался иносказательно, желая сказать, что президент республики, будучи ее сыном, нарушил и ограничил конституцию». Действительно, это никому не пришло на мысль.
[Закрыть].
2) Была речь о замене в Англии министерства Пальмерстона министерством Гренвилля; но государь, несмотря на известное его нерасположение к первому, не выразил тут никакого мнения и сделал только Палену несколько вопросов о прежней карьере Гренвилля.
3) Спросив меня, видел ли я новую драму Кукольника «Денщик», государь очень ее хвалил. Когда же цесаревич заметил, что в ней есть хорошие стихи, но, как драматическое целое, она лишена жизни, длинна и скучна (что было и общим мнением публики), государь согласился, что пьеса слишком растянута.
4) На вопрос императрицы, поедет ли государь в тот вечер в театр, он отвечал, что еще не знает, удосужится ли, потому что должен писать фельдмаршалу (князю Варшавскому).
– Бедный фельдмаршал, – продолжал государь, – мало того, что он сам все хворает и хворают также и умирают его дети; вот теперь сгорел еще его Гомель (имение князя в Могилевской губернии) со всем, что было у него там собрано.
5) Вследствие какого-то обмена репликами с сидевшею возле государя цесаревною, которого я не расслышал, он перечислил всех жен преступников 14 декабря, которые, при ссылке их мужей в Сибирь, добровольно за ними последовали, и прибавил, что, во всяком случае, «это был знак преданности, достойный уважения, тем более, что так часто видим противное».
Во время стола прибежали дети цесаревича и с ними маленький Николай Константинович, которого, вместе с его сестрою, перевезли на время отсутствия их родителей (они проводили ту зиму в Венеции), в Зимний дворец, под крылышко к доброй бабушке, и поместили там, в бывших комнатах великой княгини Ольги Николаевны.
За обедом у императрицы сделался обыкновенный ее припадок биения сердца, и она принуждена была удалиться, что, однако ж, не помешало ей принять нас после стола, лежа на диване, у которого сели государь и все мы.
– Идете вы сегодня к детям? Я хочу сказать, к большим детям: Николаю и Михаилу?
Я отвечал, что это не мой день и что буду у них завтра.
– Постарайтесь сделать из них не юрисконсультов, но людей, знающих настоящие интересы их отечества, – сказала императрица.
(На этом публикация «Записок» в «Русской Старине» прерывается, а в 1904 году журнал печатает отрывки из «Дневника»)
Из Дневника
1838 год
Автобиографическая заметка – Лица, содействовавшие возвышению М. А. Корфа по службе – Заметки и характеристики С. Ф. Маврина, Виттенгейма, барона А. Я. Бюллера, Н. П. Дубенского, М. Я. Балугьянского, Е. Ф. Канкрина, М. М. Сперанского, князя В. П. Кочубея – Внимание государя к Корфу – Переход его в Государственный Совет – Аудиенция в кабинете государя – Акты, касающиеся вступления на престол императора Николая I – Составление Свода законов – Проект о преобразовании С.-Петербургской полиции – Раут у графини Разумовской – Кончина униатского митрополита Булгака и архимандрита Фотия – Чтение лекций наследнику – Великий князь Михаил Павлович и его мнения о М. М. Сперанском – Канкрин и вообще о государственных учреждениях – Кончина председателя Государственного Совета графа Новосильцева – Отъезд их величеств за границу – Кончина Родофиникина – Свидание императора Николая со шведским королем – А. П. Ермолов и М. И. Платов – Князь Лобанов-Ростовский – Граф Васильчиков и назначение его председателем Государственного Совета – Граф Литта – Болезнь М. М. Сперанского и его характеристика, сделанная М. А. Корфом – Возвышение таможенных пошлин на товары – Рескрипт императора Николая графу В. Е. Кочубею – Бал у графа Левашова – Обручение великой княгини Марии Николаевны с герцогом Лейхтенбергским – Возобновление Зимнего дворца
15 февраля. Каким образом сделал я свою, можно сказать, государственную, и во всяком случае блистательную карьеру? Это для меня самого вопрос неразрешимый.
Достоинства в службе могут быть многоразличны, но для достижения высших должностей, а еще более, чтобы в них поддержаться, нужна общая совокупность всех этих достоинств. Познания мои ограничиваются тем, что могло быть приобретено при окончании курса, хотя и в первом тогда заведении нашем, Царскосельском лицее, – но на 17-м году от роду. Чтение и последующие почти беспрерывные занятия несколько дополнили это; но глубоких познаний я не имею ни по одной части. Воображение мое очень слабо; ум довольно деятельный, но вовсе нетрансцендентальный: особенно нет у меня presence d’esprit – присутствия духа, столь важного во всех почти случаях жизни, а природная застенчивость, хотя скрываемая и подавляемая, отнимает всю возможность где-нибудь блеснуть или премировать, что, при известной дерзости, так часто удастся и людям посредственным.
Настоящей и особенно сильной протекции у меня тоже никогда не было. Батюшка был сенатором, когда это еще более значило, чем теперь; но болезни и уединенный образ жизни удалили его от всяких связей и от всякого влияния. Одно только место и одну только почесть получил я по прямому ходатайству покровителей: место переводчика в министерстве юстиции в 1818 году дано мне было по просьбе бывшего в связи с тогдашним министром, князем Лобановым-Ростовским, барона Андрея Яковлевича Бюллера; почесть – звание камер-юнкера – пожаловано мне в 1823 году по предстательству покойной герцогини Виртембергской, которую просил о том некто Шепинг (Эрнст), курляндец, пользовавшийся особенным ее расположением. Затем в том же 1823 году я был назначен начальником отделения в департаменте податей и сборов, вероятно, потому, что меня издавна рекомендовал с хорошей стороны тогдашнему директору Дубенскому Семен Филиппович Маврин; говорю «вероятно», потому что при самом открытии вакансии обо мне между ними речи не было. Наконец, назначение мое в 1831 году управляющим делами Комитета министров, или, по крайней мере, побуждение к этому, могу отчасти приписать всегдашним добрым обо мне отзывам перед тогдашним председателем князем Кочубеем родного его племянника Александра Васильевича Кочубея; других связей у меня никогда не было; все мои начальники любили и отличали меня.
Начав службу в половине 1817 года, хотя и в чине титулярного советника, но с обязанностей простого писца, и притом на 17-м году от роду, я через шесть лет (в 1823 году) был уже начальником отделения, а меньше чем через четырнадцать (в начале 1831 года) управляющим делами Комитета министров, камергером и в трех орденах; в 1832 году пожалован действительным статским советником, а в 1834 году статс-секретарем и с того же года, то есть с небольшим после 16 лет службы и 34 лет от роду, назначен в должность государственного секретаря – должность, которую занимал некогда Сперанский в апогее своего величия и из которой все мои предшественники переходили прямо в члены Государственного Совета. Теперь не минуло еще 21 года моей службы, нет мне еще 38 лет от роду, а я при этой должности, при звании статс-секретаря, состою уже более года в чине тайного советника и имею две звезды, пройдя все постепенности орденов. И как все это сделалось, без особенных достоинств и без связей? Повторяю опять, что этот вопрос для меня неразрешим.
16 февраля. Я часто составляю мысленно в голове своей список тем лицам, которым считаю себя обязанным, а теперь хочется записать их и здесь.
Первое место в этом ряду после моих родителей занимает Семен Филиппович Маврин. Нежная любовь и попечение обо мне с самого детства, бесчисленные одолжения, которых цена теперь только вполне мне понятна, радушная готовность к ходатайству за меня везде и всегда, когда представлялся к тому случай, наконец, его привязанность и неограниченное доверие – все это вместе стяжало ему священные права на мою благодарность – чувство, которое не угаснет во мне и к его детям. Примеры такой бескорыстной истинно родительской любви в человеке постороннем едва ли даже и встречаются.
Отто Виттенгейм – кроме ласкового внимания ко мне, когда я еще был почти ребенком, а он подвигался уже быстрыми шагами на поприще службы, и многих дружественных одолжений – ревностно способствовал мне в переводе курляндских статутов, работе, которою начались мои успехи. Имея тогда очень мало времени свободного, он с настоящим самоотвержением посвящал целые дни на самый добросовестный просмотр моих трудов, и ни тогда, ни после не напомнил мне, ни самыми даже отдаленными намеками, о своих одолжениях.
Барону Андрею Яковлевичу Бюллеру я обязан получением первого моего штатного места – переводчика в общей канцелярии министерства юстиции, на которое в то время (в 1818 году) было очень много сильно покровительствуемых кандидатов.
Ходатайству Эрнста Шепинга у покойной герцогини Виртембергской я обязан пожалованием меня в камер-юнкеры, – что тогда (в 1823 году) было несравненно труднее и важнее теперешнего.
Мне не было еще 23 лет, и я занимал маловажное место переводчика в министерстве юстиции, как вдруг – не знаю до сих пор, как это сделалось – Николай Порфирьевич Дубенский предложил мне место начальника отделения в департаменте податей и сборов, которым он тогда управлял. Переход был быстрый и внезапный, который вдруг поставил меня на одну из высших ступеней в министерском устройстве, познакомил и сблизил с графом Канкриным, дал возможность чем-нибудь отличиться, открыть путь к наградам. Потом, во все трехлетнее служение мое под его начальством, он осыпал меня всегда ласками, отличал меня перед товарищами и пользовался всяким случаем делать мне добро; отзывами своими обо мне он много содействовал установлению моей репутации. Теперь он в несчастии, и я почел бы за высокое наслаждение при изменившихся обстоятельствах быть ему в чем-нибудь полезным.
Михаил Андреевич Балугьянский любил и любит меня как сына. Его отзывы на мой счет подкрепили и утвердили то, что начал Дубенский, и в этом наиболее считаю я себя ему обязанным. И теперь дружба этого почтенного старца мне драгоценна, хотя мы редко видимся.
Отношения мои к графу Канкрину, к М. М. Сперанскому и к покойному князю Кочубею были всегда хорошими отношениями подчиненного к умным начальникам. Все три, а особенно два последние, исчерпывали до дна весь запас моего усердия и небольших способностей, но зато и щедро награждали мои труды. Канкрину и Сперанскому я наиболее обязан за то доброе обо мне мнение, которое они внушили государю. Князь Кочубей утвердил его.
17 февраля. Я вступил в так называемый большой свет уже поздно. Родители мои имели свой особенный ограниченный круг знакомства: здоровье батюшки и наклонность матушки к уединенной жизни удаляли их от всяких новых связей. И прежде Лицея и после выпуска оттуда, живя в родительском доме, я, естественно, держался того же круга и очень помню, что в невинности моей не подозревал даже, чтобы существовал еще какой-нибудь отдельный высший круг, отверзтый только своим и закрытый для профанов.
Два или три бала зимою во дворце, на которых я был тоже по службе; один или два обеда в крепости у тогдашнего коменданта Сукина, старинного знакомца моих родителей; три или четыре семейных праздника, рождений и именин у моих или у меня, где обедало несколько коротких друзей и после обеда изредка танцевали, – вот каковы были тогдашние мои рассеяния.
Эти воспоминания более всего относятся к периоду с 1827 по 1831 год. Я был уже тогда женат и жил в Коломне, у самой церкви Покрова на площади.
С 1831 года, то есть со времени перехода моего в Комитет министров, многое переменилось. Я переехал ближе к Зимнему дворцу, в большую и дорогую квартиру, стал выезжать в большой свет, который сделался уже моим светом.
Словом, мои привычки и образ жизни совершенно изменились: я вступил уже более или менее на чреду d’un grand seigneur.
Государь издавна меня считает заносчивым; теперь, может быть, меньше прежнего, но все еще это мнение не совсем в нем истребилось. Когда, в исходе 1834 года, меня предлагали в государственные секретари, он отозвался, что подумает еще об этом, но прибавил:
– Корфа надобно держать в руках: он заносчив.
Это мнение обо мне часто заставляло меня скорбеть. Отчего же родилось такое мнение государя? Теперь, повторяя свои действия до того времени, когда оно мне сделалось известным (в 1835 году), вижу, что от причин довольно естественных; вижу, что многое в моих поступках могло показаться ему заносчивостью. Они были плод или неосторожности, или неопытности, или побуждений всегда чистых, но не всегда довольно обдуманных. Но не могу скрыть от самого себя, что государю они могли казаться не тем, что были, а тем, чем представлялись.
Я имел счастье сделаться лично известным государю чрез работы во II отделении Собственной канцелярии по законодательной части, на которые он обращал тогда самое заботливое внимание. Я первый раз представлялся государю в июле 1827 года на Елагином острову; с того времени, после самого благосклонного приема, он не переставал меня осыпать ласками и самыми милостивыми приветствиями.
Осенью 1833 года случилось, что князь Кочубей, живя в Царском Селе, продержал у себя несколько долее срока посланный к его подписанию журнал Комитета, а оттого и я опоздал представлением его государю. По этому случаю князь Кочубей писал мне из Царского Села 13 октября:








