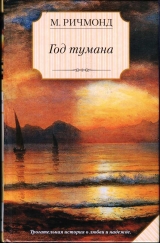
Текст книги "Год тумана"
Автор книги: Мишель Ричмонд
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)
Глава 56
День двести четырнадцатый. Подъезжаю к спортивному магазину «Динс фогги». Гуфи стоит за прилавком и приветствует меня радостным жестом.
– А вот и ты!
– Есть какие-нибудь новости? – указываю на два портрета, висящих над прилавком.
– Нет. Извини.
– У меня к тебе вопрос. – Кладу на стол перед ней листок бумаги. На нем, насколько позволили мне ограниченные художественные способности, нарисована лягушка, которую я видела на доске для серфинга.
Гуфи расправляет листок обеими руками. Ногти у серфингистки короткие, ухоженные, на правой руке – три серебряных кольца, одно с топазом, другое в виде миниатюрной цепочки, а третье похоже на обручальное.
– Что это?
– Видела такой рисунок на доске. На его доске.
– Что-то знакомое… – Девушка оборачивается к двери, ведущей в дальнее помещение. – Эй, Люк!
Оттуда выходит мужчина. Лысый, чуть за сорок, мускулистый, с пивным брюшком, выпирающим из-под футболки.
– Ну? – сонно спрашивает пузан.
– Моя знакомая говорит, что видела этот рисунок на чьей-то доске. Он тебе знаком?
– Конечно. Это фирменный знак Билли Розботтома.
– А, точно, – говорит Тина. – Я слышала о его досках, хотя сама никогда их не видела.
– И неудивительно.
– Кто такой Билли Розботтом?
– Точнее, кто он был такой, – поправляет Люк. – Владелец огромного магазина в Пизмо. Настоящий художник. Делал доски только из эквадорской бальзы и презирал пенополиуретан. Такие доски мало у кого есть, и стоит каждая целое состояние. Жаль беднягу Билли.
– Жаль?
– Погиб в авиакатастрофе в прошлом году. Летел из Майами в Панаму, на переговоры с какими-то воротилами. Билли хотел приобрести лицензию. А может, наоборот, ему повезло и он отправился на тот свет прежде, чем увидел свою фирму в чужих руках.
– Какое уж тут везение, – говорю.
– Зависит от точки зрения. Для серфингистов – да, настоящая драма. Когда Билли погиб, его сестра решила на время закрыть магазин, потому как не знала, что с ним делать, и ночью он сгорел дотла. Двадцать досок к чертям.
– Вы знаете хотя бы одного клиента Билли?
– Конечно. Один тип, нейрохирург, из Пасифик-Хейс.
Указываю на рисунок, висящий над прилавком, где изображен парень из «фольксвагена».
– Этот, случайно, не похож на него?
– Нет, – говорит Люк. – Он типичный добропорядочный гражданин.
– Могу поспрашивать, если хочешь, – предлагает Тина. – Слушай, ты никуда не торопишься прямо сейчас?
– В общем, нет.
– Тогда, может, пойдем в «Бэшфул» завтракать? Помнишь, я рассказывала тебе про их спецпредложение?
– А пойдем!
Бредем сквозь туман. Тишину нарушает лишь одинокий рейсовый автобус, в котором сидит единственный пассажир. Оглядываюсь и возвращаюсь на несколько ступенек, чтобы взглянуть на океан и серый пляж, еле видные в конце улицы.
– Этот город просто убивает меня, – говорю. – Я прожила здесь почти всю взрослую жизнь, и все-таки он угнетает.
– Понимаю. – Тина тоже оборачивается. С минуту мы стоим и смотрим вниз. Со стороны пляжа ползет туман – белая масса, которая накатывается на нас. Над головами кружит чайка.
– Читала Армистеда Мопина[9]9
Армистед Джонс Мопин (р. 1944) – американский писатель, автор цикла романов «Городские повести», действие которых происходит в Сан-Франциско.
[Закрыть]? – спрашивает Тина.
– Да, что-то читала.
– В «Барбари-лейн» он цитирует строчку из Оскара Уайльда: «Странно, но всех пропавших без вести, по слухам, рано или поздно видят в Сан-Франциско». Мопин выкинул самые лучшие слова: «Сан-Франциско – замечательный город, в нем сосредоточены соблазны целого света».
– Да, похоже на то.
– Сан-Франциско затягивает, – говорит Тина. – Вся проблема в этом. Ты остаешься здесь потому, что не можешь представить себе жизни где-то в другом месте. Потом, в один прекрасный день, осознаешь – прошло пять лет, а ничего еще не достигнуто.
– Тебе всего двадцать четыре. И время еще есть.
– Не так уж много. Две недели назад исполнилось двадцать пять.
– Поздравляю. Двадцать пять – отличный возраст.
Вспоминаю, что у самой в эти годы впереди был сплошной туман и недостаток ясности казался благом. Столько вариантов, столько направлений. Впрочем, подобного варианта и такого направления я себе даже не представляла.
В закусочной Тина садится за дальний столик.
– Закажи спецпредложение номер два, – советует моя новая знакомая. – Яичница, поджарка, бекон или сосиска, тост и кофе. Спецпредложение номер один – это всего-навсего оладьи, ничего особенного.
Завороженно наблюдаю за тем, как она ест: Гуфи полностью погружена в процесс поглощения пищи, как будто завтрак – самое значительное событие дня. Девушка доедает поджарку и кладет на тост два кусочка бекона.
– Не подумала насчет занятий серфингом?
– Я выросла на Юге. Холодная вода не по мне.
– На тебе же будет гидрокостюм. И вообще привыкнешь.
– А как насчет колледжа? – меняю тему. – Еще не раздумала поступать?
– Учиться на Гавайях слишком дорого.
– Университет в Сан-Франциско ничем не хуже, и плата за обучение вполне приемлемая.
– Как бы я ни любила этот город, мне все-таки хочется повидать и другие края. А ты где училась?
– В Теннесси.
– На Юге, наверное, интересно. Я там никогда не была. – Тина доедает яичницу. – А у тебя есть родственники?
– Сестра, в Северной Каролине. Мама умерла пять лет назад. С отцом вижусь редко. Он живет в Германии.
– А мой папаша нас бросил, когда мне было десять лет. Маму потеряла в двенадцать. Сменила несколько приемных семей, но сейчас, в общем, с ними не общаюсь.
– Очень жаль…
– Ничего страшного. Рано или поздно, типа, привыкаешь. Хорошо, когда много друзей, но родственники – это совсем другое. Наверное, классно иметь сестру.
– Да. Очень здорово иметь кого-то, с кем у тебя общее прошлое.
Официантка приносит счет и прерывает нас.
– Ну, пока, – говорит Тина, когда мы выходим.
– Спасибо за помощь.
Одновременно тянемся друг к другу: Гуфи хочет обнять меня на прощание, а я – поцеловать ее в щеку, так что в итоге неловко сталкиваемся.
– Не сторонись людей, – говорит она.
Глава 57
В течение следующих двух недель погружаюсь в работу. Свадьба в клубе «Олимпик», юбилей директора фирмы, открытие ресторана в Редвуд-Сити. Наблюдать за чужой жизнью через видоискатель очень приятно, это создает эффект кино – ты входишь в темный зрительный зал и погружаешься в чьи-то проблемы, видишь мир иными глазами. Когда атмосфера между родителями накалялась, мать обычно нагружала сумку шоколадными батончиками и пакетиками с соком, значительно облегчала отцовский бумажник и приказывала нам с Аннабель садиться в машину. Мы ехали в кинотеатр на бульваре Аэропорт, брали огромные порции поп-корна и смотрели фильм за фильмом. Нам было все равно, что в кинозале вечно пахнет мочой, что фильмы старые, а поп-корн – залежалый. Если постараться, можно было представить себе, будто происходящее на экране куда реальнее нашей жизни, и тогда все беды отступали. На это и похожа работа фотографа; укрывшись за объективом, я могу ненадолго забыть о содеянном и о цене такого забытья, пусть даже на пару минут.
Несколько раз в неделю Нелл приходит ко мне ужинать; мы сидим за столом на кухне и разговариваем. Однажды, за мытьем посуды, она признается, что помирилась с сыном лишь незадолго до печального исхода – в те месяцы, когда сидела у его кровати, давала пить через соломинку, меняла простыни и смотрела, как парень угасает.
– Не смогу простить саму себя, когда не желала смириться с тем, что мой сын – гей, – говорит она. – Знаю наверняка только одно: никто на свете не научит тебя быть матерью.
Соседка протягивает кофейную кружку, которую нужно сполоснуть. Кружка зеленая, с красными горошинами по краю. Подарок на день рождения от Эммы. Я присутствовала при том, как маленькая художница лично раскрашивала эту кружку в магазине на Двадцать четвертой улице.
– Может быть, в самом деле пора, – говорит Нелл.
– В каком смысле «пора»?
– Пора налаживать жизнь с Джейком. Вы любите друг друга, и до того, как все это случилось, были так счастливы вместе. Ты однажды сказала мне, что, наверное, нет другого человека, который настолько тебе подходит. Неужели готова от всего отказаться?
– Нет, конечно. Но Джейк заставляет выбирать между собой и Эммой.
Нелл кладет руки мне на плечи:
– В какой-то момент придется задуматься о себе и своей жизни. Я знаю, Эмма для тебя жива, но, возможно, ты ошибаешься.
Освобождаюсь из ее объятий и домываю посуду.
– Я думала, вы на моей стороне.
– Да, на твоей. И Джейк тоже. Ты нужна ему, Эбби.
– Ей нужнее.
Когда Нелл уходит, надеваю куртку и шарф, дохожу до остановки, жду автобус и сажусь на заднее сиденье.
Автобус останавливается и снова трогается с места, медленно пробираясь по городским улицам. И все это время ищу.
Потом звоню Джейку. Уже около полуночи, завтра обычный рабочий день.
– Я знаю, ты дома, – наговариваю на автоответчик. – Пожалуйста, возьми трубку.
Представляю, как он сидит за столом, с кружкой кофе, проверяет контрольные и старается не обращать внимания на телефон.
– Позвони мне, – говорю. – Я не лягу допоздна.
Уже собираюсь повесить трубку, но потом снова подношу ее к губам.
– Очень жаль, что все так вышло. Господи, ты даже не представляешь себе, как мне жаль.
Глава 58
Понедельник, день двести двадцать второй. Нелл убедила поехать с ней на художественную выставку.
– Не могу, – сказала я вчера.
С трудом представляла себе эту поездку. Отправиться в картинную галерею, как будто все в порядке?!
– Выставка называется «Память», – заметила Нелл. Я насторожилась. – Художника зовут Франко Маньяни. Он в мельчайших подробностях изображает Понтито – деревню, где родился. Вся суть в том, что парень не был в родных краях с 1958 года. Поселился в Сан-Франциско в шестидесятых, а потом переболел какой-то странной болезнью, после чего ему начала с пугающей яркостью сниться родная деревня. До болезни Франко вообще не рисовал, но сны оказались такие подробные, что Маньяни в конце концов взялся за кисть.
– И как он это делает?
– Рисует, воображая, будто снова в деревне. Поворачивает голову в разные стороны, словно идет по улице. Видит внутренним оком все, что рисует, – дома, церковь, булочную. Его память подобна кинопленке.
Сейчас еще рано, и в музее мало народу. Картины Маньяни расположены вперемежку с черно-белыми фотографиями Понтито, сделанными в 1987 году. Сходство пугающее, картины настолько детализированы, что их трудно отличить от снимков.
Однако есть и странности. Некоторые сцены, например, показаны как будто с разных точек обзора. На других здания кажутся слишком большими, словно сквозь призму восприятия маленького ребенка. Ступеньки церкви, где Маньяни некогда прислуживал в алтаре, куда шире, чем на фотографии, а дорожка, ведущая к дому, в котором художник провел детство, гораздо длиннее, чем на самом деле. На картине, изображающей дедушкин дом, видна клумба, которой нет на фотографии, сделанной с того же самого места. Понтито предстает как бы в идеализированном виде.
На одной из подписей нахожу высказывание самого Маньяни: «Память – это конструктивный процесс, который не только воспроизводит, но и фильтрует, изменяет и интерпретирует прошлое».
Выставка всего лишь подтверждает то, что я и так знаю: памяти доверять нельзя. Она находится под сильным влиянием наших желаний и эмоций. Думает ли Эмма, куда бы ее ни занесло, о доме? Помнит ли свой адрес, номер телефона, дерево в саду? Удерживает ли в памяти узкую дорожку, ведущую к входной двери? Если найду Эмму – когда найду, – вспомнит ли малышка меня?
Глава 59
День двести двадцать девятый. Голос Гуфи в телефонной трубке. Она запыхалась.
– Немедленно приезжай сюда.
– Что?!
– Тут один парень говорит, будто видел доску Розботтома на Ошен-Бич.
– Не выпускай его из виду.
По пути в «Динс фогги» превышаю допустимый лимит скорости на двадцать миль. Гуфи стоит в дверях магазина вместе с двумя мужчинами, которые улыбаются и говорят «привет» – не просто вежливо, но и дружелюбно.
– Это Эбби, – объявляет Тина. – А это Дэррин и Грег.
У Дэррина левая рука в гипсе. Ему за сорок, чисто выбрит; типичная внешность врача, могущего себе позволить жилье на Пасифик-Хейс, а вместо этого осевшего в Сансет, чтобы быть поближе к пляжу. Грег приземист и мускулист, лет тридцать, длинные бакенбарды и нос крючком. Этот человек явно видал виды – учась в старшей школе, я находила таких парней весьма привлекательными.
– Кто из вас видел доску Розботтома на пляже? – спрашиваю.
Грег приподнимает руку, в глаза бросается специальный браслет на запястье. Господи, наш отчаюга под наблюдением полиции.
– Я видел.
– Когда?
– Шесть или семь месяцев назад.
– Правильно, – ощущаю внезапный прилив энергии. – Именно в июле это и произошло. Вы уверены, что видели доску именно работы Розботтома?
– Абсолютно уверен. День был холодный, на пляже почти никого. Я бродил по песку, ждал, пока распогодится, и тут ко мне подошел этот мужик. Спросил, есть ли удобные места южнее. Сразу заметил, какая у него здоровенная доска – двенадцать футов, а потом увидел лягушку. Глазам своим не поверил – фирменный знак Розботтома! Доска из натуральной бальзы, невероятной красоты.
– Какого цвета?
– Красная.
– Парень, а ты уверен? Точно не подделка? – спрашивает Дэррин.
– Я сначала тоже засомневался. – Грег смотрит на меня. – В мире существует всего штук тридцать таких досок, и потому не так-то много шансов увидеть одну из них. Но на ней вдобавок красовалась личная подпись Розботтома. С маленькой «р» и завитушкой на «м». Шикарная штука.
– Как выглядел этот человек?
– Светловолосый, лет тридцати. Может быть, сорока. Не знаю.
Поворачиваюсь к Тине:
– Ты показывала им рисунки?
Кивает – показывала.
– Может, и он, – говорит Грег, – но, честное слово, не уверен. Люди, знаете ли, приходят и уходят. Всех местных знаю, а остальные со временем как-то сливаются…
– Не спросили у него, откуда он?
Серфингист замолкает и задумывается, теребя браслет.
– Нет. Но блондин сказал, что собирается махнуть к друзьям в Тико.
– Куда?
– В Коста-Рику, – объясняет Гуфи.
– Ну да, – добавляет Грег. – Сказал, будто хочет опробовать доску старины Розботтома на Золотом берегу.
– Так называют Коста-Рику из-за желтого песка, – объясняет Тина.
Вспоминаю наклейку на бампере и букву «Т». Одно не пойму – память или воображение услужливо восстановили все слово целиком: «Тико»?
– Что-нибудь еще сказал? – не сдаюсь. – Может быть, обмолвился о семье?
– Нет. Самый обычный парень, ничего особенного.
– Не уточнил, куда именно едет?
– Все, что знаю, сестренка.
Дэррин постукивает костяшками пальцев по своему лубку.
– Полагаю, ваш блондин где-нибудь на Сентрал-Пасифик. Там самые удобные места для катания на длинных досках. Три года назад я целое лето прожил в Плайя-Эрмоса. В тех краях всегда полно серфингистов-американцев.
– Точно, – отзывается Грег. – Если Господь Бог пошлет мне доску Розботтома, сдохну, но испытаю ее в Бока-Барранка. Или в Тамариндо. Эрмоса – отличное место, самое сердце Сентрал-Пасифик. Если остановишься там, всегда будешь в гуще событий. – Складывает руки на груди и говорит: – Удачи.
– Спасибо.
– Да ради Бога. – Грег перехватывает мой взгляд, направленный на браслет. – И вообще, первым серфингистом был Иисус Христос. Говорят, он ходил по воде. Я все же думаю, что не ходил, а катался по волнам на доске.
Смеюсь, искренне смеюсь, преисполнившись надежды, и словно от переизбытка кислорода начинает кружиться голова. Впервые за долгое время я вижу свет впереди. Может быть, это тупик. А может быть, нет.
– Пообедаем вместе? – спрашивает Тина.
– Извини, не сегодня. Пойду собирать вещи.
– Я неплохо потрудилась, а?
– Ты просто молодец. В следующий раз «спецпредложение номер два» за мой счет.
Направляясь домой, начинаю подпевать радио. Наконец-то обозначилась цель: Коста-Рика. Я сдвинулась с мертвой точки. Не нужно больше сидеть и ждать. Хватит безуспешно обыскивать одни и те же улицы. Может быть, я иду не в том направлении, но все-таки есть шанс докопаться до истины.
Думаю о Коста-Рике. Мне всегда хотелось туда попасть. Рамон провел там месяц, когда учился в колледже, и часто рассказывал, как там красиво. Бродить по тропическому лесу – это все равно что исследовать другую планету. «Там все по-другому, – говорил он. – Деревья, цветы, насекомые. А цвета просто потрясающие». Визит в Коста-Рику находился в списке из ста «целей», которые я надеялась «закрыть» до того, как стукнет тридцать. Примерно после двадцати восьми время как будто внезапно ускорилось, месяцы и годы начали мелькать с пугающей быстротой; оглядываясь, вижу это отчетливо. Мои работы свидетельство тому – тысячи фотопленок, настоящие миниатюрные хроники, лица и места, которые, если расставить их в должном порядке, могут поведать историю жизни Эбби Мейсон. И в конце каждого года, подводя итоги, становилось понятно – многие пункты остались невыполненными.
А потом появились Джейк и Эмма, и я вновь обрела смысл жизни. До того дня на Ошен-Бич, когда все вдруг остановилось. Больше никаких фотографий, никакого движения истории. Какой-то жуткий тупик.
Прихожу к Джейку, не предупредив заранее. В доме пахнет яичницей с беконом – его излюбленное блюдо на ужин. Болфаур сидит на кухне и проверяет сочинения.
– Хочешь есть? – между делом спрашивает он, как будто в «Ла Кумбре» не произошло ничего особенного.
– Нет, спасибо.
Сажусь. Джейк нуждается в услугах парикмахера, небрит и все-таки выглядит неплохо. Передо мной вновь, как и в день нашего знакомства, обманчиво небрежный мужчина, который на самом деле все держит под контролем. Но одновременно Джейк изменился. Стал старше. Утратил изрядную долю уверенности. И создается впечатление – чувствует себя слегка не в своей тарелке. Это видно по тому, как он сидит, опустив плечи, как держит ручку – вяло, словно против воли.
– Какая тема? – киваю на стопку сочинений.
– Диалоги Платона. Как примирить отрицание Сократом знания с его смелыми поступками и неординарными утверждениями в области этики.
– И ученикам все понятно?
– Ты удивишься… – Он роется в бумагах, а затем останавливается, как будто внезапно забывает о предмете своих поисков. На столе стоит нетронутая тарелка с яичницей.
– Я еду в Коста-Рику, – говорю.
– Что?
– Это связано с доской Билли Розботтома. Очень много шансов на то, что парочка из желтого «фольксвагена» сейчас в Коста-Рике или по крайней мере недавно там была.
Прежде чем Джейк успевает ответить, передаю свой разговор с Тиной и ее знакомыми. Джейк сидит, скрестив руки на груди, и молча слушает. Когда заканчиваю, встает и подходит к раковине, как будто там нашлось какое-то важное дело. Но Болфаур просто стоит там, спиной ко мне, и рассматривает грязные тарелки.
– Зачем ты это делаешь?
– Должна. Клеймо Розботтома – последняя деталь, которую я смогла вспомнить. Последняя зацепка, которую еще не отследила. Нужно довести дело до конца.
– Какой-то тип – возможно, пьяный или обкуренный – сказал тебе, что видел у кого-то доску с изображением лягушки, и ты готова все бросить и мчаться в Центральную Америку?
– Парень вовсе не был ни пьяным, ни обкуренным и описал ее в подробностях.
– Ну хорошо, предположим, это действительно тот самый человек из «фольксвагена». Но прошло уже много времени. Если в тот день на пляже действительно был он и если действительно уехал в Коста-Рику, шансы отыскать его там невелики.
– Может быть, ты прав. Но если блондин и в самом деле похититель, то вряд ли рвется назад в Штаты. Возможно, наша парочка хочет переждать, исчезнуть из виду. А если тот серфингист достаточно богат для покупки редкой и дорогой доски работы Розботтома, ему как пить дать захочется испробовать ее на самых знаменитых пляжах.
– Слишком много «если». Вспомни слова Шербурна в первый же день. Из 797 500 пропавших детей только 115 удерживались живыми в течение длительного времени. Посчитай сколько процентов.
– Дело не в процентах, – говорю. – И ничего общего с кубиком Рубика здесь тоже нет. Цифры вообще ничего не значат.
– Хотел бы я, чтоб это было так, но ты ошибаешься, Эбби. Не можешь смириться с гибелью Эммы, и поэтому подгоняешь факты, какие удается найти, под теорию.
– А разве это сильно отличается от того, что делаешь ты? Вбил себе в голову, будто Эмма мертва, и поэтому, наоборот, игнорируешь очевидное!
– Оставь все как есть, Эбби.
– Почему бы тебе не поехать со мной?
– В Коста-Рику?
– Да.
Он оборачивается.
– Каждое утро мне кажется, что я не переживу еще одни сутки без Эммы. Но заупокойная служба сделала свое дело, это мне помогло. Теперь я живу дальше, а Эмма больше не страдает. Ты знаешь, о чем я думал каждый день и каждую ночь до того, как нашли ее туфельку? Ты знаешь, какие ужасы себе рисовал?
– Знаю. Я рисовала себе те же самые ужасы. И рисую до сих пор – вот в чем беда.
Джейк вздрагивает словно от удара, но мне уже трудно отступить. На кону слишком многое.
– Если есть хоть один шанс найти ее живой, – говорю, – разве мы можем сидеть здесь сложа руки? Я в состоянии жить лишь потому, что без устали представляю себе, как все будет, когда она к нам вернется. Представляю, как Эмма меня увидит, куда мы поедем, гадаю, насколько девочка изменится.
Джейк прикусывает губу. Его очки покрыты маленькими пятнышками, как будто их давно не протирали.
– Я люблю тебя, Эбби. И все время любил. Но самым серьезным образом предлагаю сделать выбор. Отправляйся в это безумное путешествие – или же давай попробуем жить дальше, вдвоем.
– Почему ты называешь это выбором?
Болфаур отворачивается и начинает разгружать посудомоечную машину. Одну за другой убирает тарелки в шкаф.
Подхожу к нему.
– Помочь?
Джейк говорит, не глядя на меня:
– У меня много дел. Тебе лучше уехать.
– Пожалуйста, не надо. Нужно всего лишь немного времени. Я – все та же Эбби, на которой ты хотел жениться.
– Ошибаешься. Мы оба изменились.
Он прав. Знаю, что прав.
Направляясь домой и вдыхая холодный морской воздух, врывающийся сквозь опущенные стекла, чувствую на плечах всю тяжесть предстоящего выбора. Я вспоминаю, как в день первого свидания, едва вернувшись домой, позвонила Аннабель и в течение часа говорила о Джейке. Рассвет нового дня встретила, сидя на кушетке, глядя в окно и мечтая о совместном будущем с мужчиной, с которым познакомилась не далее чем накануне. Он тоже не остался равнодушным, я знала это, и просто не верила своему счастью. До сих пор отчетливо помню, как в восемь утра зазвонил телефон, и, не успев еще взять трубку, я поняла – это Джейк.
– Не разбудил? – спросил он.
– Нет. Я вообще не ложилась.
– Какое совпадение! Может быть, встретимся вечером?
– Конечно.
По моим тогдашним ощущениям, все встало на свои места.








