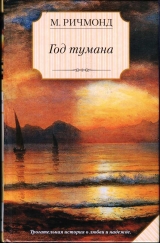
Текст книги "Год тумана"
Автор книги: Мишель Ричмонд
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 26 страниц)
Мишель Ричмонд
Год тумана
Бонни и Джону
Шкальный фотоаппарат снабжен простым пластмассовым или стеклянным видоискателем и не обладает специальной системой фокусировки. Видоискатель расположен непосредственно над или рядом с линзами; он демонстрирует, как приблизительно будет выглядеть снимок в итоге (в ходе проявки или распечатки может выявиться вполне объяснимое искажение, связанное с тем, что кадр, «схваченный» через видоискатель, иногда отличается от того, что действительно запечатлела пленка).
Генри Горенштайн. Черно-белая фотография
Свет памяти – точнее, свет, отбрасываемый памятью на вещи и события, – самый неверный из всех возможных…
Эжен Ионеско. Настоящее в прошедшем
Глава 1
Вот правда, вот что я знаю: прохладным июльским утром, держась за руки, мы шли по пляжу Ошен-Бич, Сан-Франциско. Над пляжем и водой лежал плотный белый туман – вездесущая пелена, густая настолько, что видимость ограничивалась лишь несколькими шагами.
Эмма искала морских ежей. Иногда их вымывает на берег десятками – больших и маленьких, блестящих, но сегодня на песке валялись только обломки и девочку ждало разочарование. Этот ребенок во всем требует совершенства: ракушки должны быть целыми, учебники – чистыми, отцовская шевелюра – аккуратно подстриженной, до воротничка.
Я задумалась о волосах Джейка – мягких темных космах, – когда Эмма потянула меня за руку:
– Быстрее.
– Зачем?
– Волны могут их смыть.
Хотя мы до сих пор терпели неудачу, юная натуралистка верила, что впереди ждут целые россыпи великолепных морских ежей.
– Может быть, лучше пойдем в кафе? Я проголодалась.
– А я нет. – И попыталась высвободить руку. Да, отец избаловал дочь, но у меня не повернулся бы язык упрекнуть его. И морскому ежу стало бы понятно: девочка росла без матери, и Джейк пытался возместить эту утрату.
– Пусти. – Эмма необыкновенно сильно отдернула руку.
Я наклонилась, взглянула ей в лицо, но малышка не отвела решительных зеленых глаз. Ребенок и взрослый человек – выше, сильнее, умнее, но в этом поединке воли капризница неизменно побеждала.
– Ты ведь не будешь убегать далеко?
– Не буду. – Эмма улыбнулась – поняла, что добилась своего.
– Найди мне хорошего морского ежа.
– Самого большого. – Она широко раскинула руки и, напевая песенку, услышанную по радио несколько минут назад, поскакала вперед – маленькая шестилетняя тайна, изумительная копия собственного отца.
Рядом с ней меня обуревали одновременно радость и страх – через три месяца я выйду замуж за ее отца, а мы еще не объяснили девочке, что все вместе заживем под одной крышей. Буду готовить ей завтрак и возить в балетную школу, как это делала ее мать. Точнее, как это должна была делать ее мать.
– Ты отлично подходишь Эмме, – твердил Джейк. – И станешь для нее лучшей матерью, чем моя бывшая.
И каждый раз мне думалось: «Как знать? Почему ты так уверен?»
Я наблюдала за Эммой, радостно мчавшейся прочь от меня, – желтое ведерко, синие матерчатые туфельки, черный хвостик, трепетный на ветру, – и гадала: что делать? Как стать матерью для этого человечка – иногда колючего, точно морской еж?
Хорошая композиция, нужно успеть – я поднесла фотоаппарат к глазам, уверенная, что сейчас мой неугомонный ураган превратится в размытое черно-белое пятно размером шесть на шесть дюймов. Непоседа двигалась быстро, слишком быстро, а света, увы, недоставало. Покрутила колесико видоискателя, щелкнула, снова приблизила, и когда сделала последний снимок, девочка уже почти скрылась из виду.
Глава 2
Моя ошибка, моя величайшая оплошность. Внимание, так некстати, привлекло пятно в тумане. Сначала показалось, что это брошенная вещь – возможно, детская сорочка или крошечное одеяльце. Фотоаппарат навела инстинктивно, не думая, просто такова моя работа – я фотограф, запечатлеваю на пленку то, что вижу. Когда подошла ближе, разглядела покрытую пушком голову, выгнутую дугой спину и черные точки на белом мехе. Маленькое тельце занесло песком, а плавники по бокам слабо дергались.
Сама не знаю почему опустилась на колени рядом с детенышем тюленя, потянулась к нему и почти коснулась, когда что-то меня остановило. Влажные черные глаза все это время оставались открыты, но не моргали, колючие усы, похожие на веер, и длинные ресницы (по три над каждым глазом) шевелились от ветра. А потом взору открылась глубокая рана на брюхе, присыпанная песком, и меня затопил внезапный прилив материнского чувства. Сколько времени провела над мертвым детенышем? Полминуты? Минуту? Больше?
Проворный песчаный краб бежал к погибшему тюленю, и память услужливо вытащила из далекого прошлого яркую картинку – этими крошечными созданиями всегда кишел пляж в заливе Шорес во времена моего детства. Сестра Аннабель обычно сажала бедняг в банку и удивленно разглядывала розовые брюшки, в то время как пленники пытались выбраться, упираясь ножками в стекло. Детство, детство… Краб выбросил небольшой фонтанчик песка и исчез; прошло еще секунд десять.
Переехав сюда с яркого и знойного Юга, я со временем полюбила туман за его таинственность, за то, как он приглушает звуки, за то, что внезапно обрывается, а не рассеивается, и опаловая белесость тут же, без явного перехода, резко уступает место синеве. Выходя на свет из тумана, человек будто всплывает на поверхность, а двигаясь в обратном направлении, словно погружается в загадочную, сказочную бездну.
Неподалеку от пляжа по шоссе степенно плыла вереница машин, возглавляемая катафалком. В последний раз довелось присутствовать на мрачной церемонии, когда хоронили одного знакомого, которому не было еще и тридцати; сломал шею, сорвавшись со скалы. В общем, даже не друг; не могу сказать, что хорошо его знала, но за две недели до случившегося мы весело поболтали на вечеринке, оттого и показалось уместным прийти на похороны. На воспоминание об этом ушло еще пять секунд.
Все вокруг затянула прохладная кисейная пелена, сориентироваться и определить расстояние сделалось невозможно. Я побрела прочь от безжизненного звереныша, крепко сжимая в руках фотоаппарат и все представляя, какой замечательный получится снимок: угольно-черная головка Эммы на фоне холодной белизны пляжа.
Не получилось избавиться от мысли о мертвом тюлене и о том, как объяснить это ребенку. Наверное, матери интуитивно чувствуют, как делать те или иные вещи, а мне предстоит испытание, одно из многих; в ту минуту я думала не только о малышке. Быстрее, быстрее. Интересно, девчушка видела тюленя? Хорошо бы, если так – именно сегодня, именно со мной. Пусть бы даже испугалась – более подходящего момента, чтобы осторожно приступить к исполнению обязанностей мачехи, и не найти.
Не знаю, когда именно мне стало понятно – что-то не так. Шла и шла, а Эммы все не было видно. Я даже руки простерла, как будто пыталась раздвинуть туман, хотя вся нелепость этого жеста была очевидна.
– Эмма!
Паника пришла не сразу, я сопротивлялась около минуты. Сначала ощутила нечто вроде головокружения – примерно то же самое испытывала в детстве, когда стояла по колени в теплой воде Мексиканского залива и подставляла лицо жаркому солнцу Алабамы, чувствуя, как волны вымывают песок из-под ног. Ты лишаешься опоры постепенно, а потом как-то враз теряешь равновесие и падаешь в набежавшую волну, набирая полный рот соленой воды и широко распахивая глаза.
– Эмма!
Из прошлого накатило ощущение зыби под ногами, и оставаться на месте сделалось невмоготу; я побежала – сначала вперед, потом назад, по собственным следам. Озорница, наверное, прячется, мелькнула спасительная мысль. В нескольких метрах от мертвого тюленя, сплошь покрытая граффити, пестрела бетонная стена. Мысленно я представляла себе, как Эмма, затаившись в укрытии, хихикает. Картинка получилась настолько четкой и правдоподобной, что я почти поверила, будто так оно и есть. Но каково же было мое разочарование, когда за стеной девочки не оказалось. Страх, жуткий липкий страх угнездился где-то внутри, меня буквально швырнуло на колени и вырвало на песок.
Недалеко от расписанной «бетонки» местополагались общественные уборные. Подбегая к ним, я ощутила приступ ужаса – знала, что поиски ничего не дадут. Пересекла двухполосное скоростное шоссе и заглянула в женский туалет, темный и пустой. Обошла здание кругом и осторожно скользнула в мужской. Окна из тонированного стекла, свет очень тусклый, мрачно, невзрачно. Почти теряя сознание от недобрых предчувствий, порылась в мусорном баке в поисках детской одежды или обуви, потом встала на четвереньки и посмотрела за писсуарами, задерживая дыхание от жуткой вони. Ничего.
На обратном пути меня всю трясло, пальцы онемели, в горле пересохло. Я вскарабкалась на верхушку дюны, огляделась вокруг, но во всем мире, наверное, не осталось ничего, кроме непроницаемой белой дымки тумана и невыразительного глухого гула автомобилей на шоссе. Какое-то время я стояла неподвижно, а потом сказала вслух:
– Думай. И не паникуй.
Снова вперед, в бесплотную жемчужную завесу – еще полмили по пляжу; холм, с Клифф-Хаусом на вершине; развалины Сутро-Басс; кафе Луиса. Справа начинается длинная пешеходная дорожка, которая упирается в шоссе; за ним расстилается парк Голден-Гейт; позади на много миль тянется пляж, а слева шумит холодный серый океан. Как будто находишься в самом сердце вытканного туманом лабиринта с невидимыми стенами и неисчислимым количеством распутий. Ребенок пропал на пляже. Куда Эмма могла деться?
Глава 3
Снова и снова буду возвращаться к этому дню и сохраню записную книжку, в которую заносила все детали. Там останутся наспех сделанные наброски, чертежи моих перемещений, страница за страницей, на которых пыталась вернуться в прошлое. Будто память – вещь надежная, события не стираются из нее так же быстро и безвозвратно, словно карандашные строчки в блокноте под ластиком. Скажу себе, что где-то там, погребенный в замысловатых катакомбах моего сознания, есть ключ к разгадке – нечто крошечное и затерянное. То, что приведет к Эмме.
Все захотят узнать, в какую именно секунду я поняла, что девочка пропала. Все захотят узнать, не видела ли на пляже кого-нибудь подозрительного, не слышала ли чего-нибудь до или после того, как малышка исчезла. Все – полиция, репортеры, Джейк – станут опять задавать одни и те же вопросы и с надеждой заглядывать мне в глаза, как будто от этого что-то вспомню и простым усилием воли сложится головоломка, в которой недостает фрагментов.
Вот что скажу им, вот что знаю наверняка: мы гуляли по пляжу с Эммой, было холодно, лежал густой туман. Она выпустила мою руку и побежала вперед. Я остановилась, чтобы сфотографировать мертвого тюленя, потом отвернулась в сторону шоссе, а когда посмотрела вперед, кроха пропала.
Единственный человек, которому расскажу всю историю целиком, – моя сестра Аннабель. Только она поймет, как можно потратить десять секунд на краба и пять – на похоронную процессию. Только она поймет, отчего мне так хотелось, чтобы Эмма увидела мертвого тюленя; в ту секунду, когда она исчезла, я строила планы, как бы завоевать ее маленькое сердце. При разговоре с остальными буду тщательно подбирать слова, отделяя важные детали от ничего не значащих подробностей. Они услышат похожую версию, но другую: мы с девочкой гуляли по пляжу. Я отвернулась на несколько секунд, а когда посмотрела вперед, девочка исчезла.
Это похоже на серию фотографий. Вот стою в самом центре лабиринта, не в силах разглядеть, какие дорожки заканчиваются тупиком, а какая, единственная из всех, ведет к потерянному ребенку. Знаю, что должна полагаться на собственную память, которая непременно выручит, знаю, что у меня только один шанс.
История, которую расскажу, определит направление поисков. Если я ошибусь, в финале неизбежно произойдет крушение надежд; если нет – подсказка выведет полицию к ребенку. Нужно ли говорить о почтальоне на парковке, о мотоцикле, о человеке в оранжевом «шевроле», о желтом «фольксвагене»? Или же тюлень, катафалк, бетонная стена и волны куда важнее? Как отделить значительное от незначительного? Один промах, одна ошибка в отборе деталей – и все рассыплется.
Глава 4
Площадь круга равняется пи-эр квадрат.
Время – континуум, который тянется вперед и назад до бесконечности. Это помню еще со времен ученичества.
В девятом классе школы наш учитель, мистер Томас Суэйз, неизменно бодрый и довольно подозрительный тип, по слухам, защитивший докторскую степень каким-то чудом, нарисовал мелком на доске огромный круг. По внешней его стороне и на прямой линии, проведенной из центра, он написал несколько цифр и формул. Его бицепсы так и играли под рукавами белой футболки. «Радиус, диаметр, окружность», – отчеканил он, и великолепно поставленный голос проник в мои сладкие отроческие грезы. Мистер Суэйз обернулся к классу и, глядя прямо на меня, покатал между ладонями ослепительно белый мелок.
Сквозь длинную вереницу окон в комнату лился солнечный свет, воспламеняя медно-рыжие волосы сидевшей впереди девочки; от нее пахло жевательной резинкой. Моя рука лежала на крышке парты прямо в солнечной лужице; на большом пальце запеклась капелька крови – я обкусала ноготь до мяса. В голове ровным фоном стоял сводящий с ума гул. Мистер Суэйз отвернулся к доске. В заднем кармане его синих джинсов лежало что-то круглое.
– А самое главное – это площадь, – изрек он.
Мои колени сами собой раздвинулись, и по бедрам на пластмассовое сиденье щекотливо скатились капельки пота.
За несколько лет до этого, еще в третьем классе, миссис Монк, передвигая стрелки огромных картонных часов, объясняла, что такое время. Секунды подобны песчинкам, упрощала она, минуты – камушкам, а часы – это кирпичи, из которых состоит прошедшее, настоящее и будущее. Она говорила о днях, годах, десятилетиях и веках, о грядущем тысячелетии, которое все мы встретим взрослыми. Потом широко развела большие руки и прошептала: «Эпоха». В маленьком классе, где кондиционер отчаянно боролся с апрельской жарой, миссис Монк, «Учитель года-1977», наставляла нас, улыбалась и неимоверно потела.
Я сидела за деревянной партой, смотрела на огромный круг со стрелками и плакала. Миссис Монк подошла ко мне и коснулась теплыми, влажными пальцами моей шеи.
– Эбби, в чем дело?
Я уткнулась в ее рыхлый, мягкий живот, зарылась лицом в складки трикотажа и призналась:
– Не понимаю, что такое «время».
Меня смутили не часы сами по себе, не «полвторого» и «без четверти», а скорее, сама суть времени. И отчего-то не находилось нужных слов, чтобы объяснить это нашей учительнице.
Что смущало еще сильнее, так это длинные промежутки между отходом ко сну и пробуждением – темные часы, когда сознание пускалось в опасные и увлекательные путешествия. Во времени можно заблудиться, ужасное и прекрасное может длиться там бесконечно, хотя когда наступало утро, мама неизменно выглядела как и прежде, и Аннабель не старела, и папа вставал, надевал костюм и шел на работу, словно ничто не изменилось. Все казалось, словно живу в ином мире, нежели они, что моя семья спит, пока я странствую. Чувствовала на душе груз ответственности, как будто от меня одной зависело благополучие всей семьи.
Голос миссис Монк остался в памяти и после того, как я научилась узнавать время, но ровный, неостановимый ход времени беспокоил по-прежнему. Сидя на уроке мистера Суэйза и разглядывая тусклые хромированные часы над доской, Эбби – девочка, не понимающая сути времени, – мечтала о том, чтобы стрелки остановились и день длился и длился.
– Так как мы вычисляем площадь круга? – спросил доктор Суэйз.
Представляю себе маленький круг, в который заключено тельце ребенка. Девочка стоит на пляже и тянется за морским ежом, а из тумана возникает высокая фигура и рука незнакомца затыкает малышке рот. С каждым шагом человека из ниоткуда круг все расширяется, с каждой секундой площадь растет.
Где ребенок? Чтобы получить ответ, надо решить безумное уравнение: пи-эр квадрат.
Глава 5
Комната маленькая, с жесткими пластмассовыми стульями и бетонным полом. В углу – этакий странный штрих, помещенный сюда, возможно, секретаршей или чьей-то заботливой женой: мозаичный столик с красивой лампой. Там что-то щелкает и гудит, когда под светоотражательный колпак залетает мотылек. Массивные металлические часы отсчитывают секунды. Джейк томится в другой комнате, за закрытой дверью, пристегнутый к какому-то хитроумному аппарату. Человек, сидящий за монитором, задает вопросы и следит за сердечным ритмом «клиента» в поиске неких скрытых мотивов или тщательно завуалированной лжи.
– Сначала следует проверить семью, – распорядился детектив Шербурн. – В девяти случаях из десяти это мать, или отец, или сразу оба, – говорил он, наблюдая за мной, будто ждал, что вздрогну. Глупо.
– Я не ее мать, – ответила. – Даже не мачеха. Пока что. Родная мать собрала вещи и ушла три года назад. Ее ищете?
– Мы учитываем все.
Часы тикают, круг расширяется, и когда-нибудь наступит моя очередь.
Куда взгляд ни кинь, везде полицейские, поодиночке или группами. Бодрятся кофе из пластмассовых стаканчиков, переминаются с ноги на ногу, тихо разговаривают, обмениваются шутками. Один стоит, положив руку на пистолет; ладонь касается металла нежно, как будто оружие – продолжение тела. Вчера Джейк примчался домой из Юрики, куда уехал на выходные к другу. Ночь мы провели в полицейском участке, заполняя бумаги, отвечая на вопросы и припоминая подробности. Сейчас восемь утра. Прошло двадцать два часа. Кто ищет Эмму, пока я сижу здесь и жду?
Не секрет, что чем дольше не могут найти ребенка, тем труднее это становится сделать. Опасность возрастает с каждой секундой. Время – лучший друг похитителя и самый страшный враг семьи. С каждой минутой преступник уходит все дальше в неизвестном направлении, и площадь, которую предстоит прочесать, увеличивается.
Вчера вечером Шербурн приехал на Ошен-Бич через десять минут после моего звонка и немедленно взялся за дело. Сейчас восседает за столом, в светло-голубой рубашке и нелепом разноцветном галстуке, который ему, видимо, подарили и тем самым обязали носить. Представляю сыщика дома – и посреди домашнего хаоса он готов хвататься за работу. Представляю себе счастливую жену и пару опрятных ребятишек, и вообще… в этом человеке есть что-то умиротворяющее. Шербурн, широколобый, с безукоризненной прической и синими глазами, напоминает Фрэнка Синатру и даже двигается с тем же старомодным изяществом.
Ловлю его взгляд. Он поднимает руку с растопыренными пальцами и беззвучно произносит: «Пять минут». Детектив тянется за кофе, подносит чашку к губам и отпивает немного. Проходит еще шесть секунд. Предположим, Эмма в машине, которая движется со скоростью около ста километров в час. За шесть секунд она проедет чуть более ста шестидесяти метров. Возведем последние в квадрат и помножим на число пи. За то время, которое понадобилось Шербурну, чтобы глотнуть кофе, район поисков расширился более чем на восемьсот тысяч квадратных метров. Если каждый глоточек стоит нам восемьсот тысяч квадратных метров и если из чашки можно отхлебнуть около ста раз – остается лишь гадать о том, какой величины сделается этот круг, едва Шербурн допьет. И сколько чашек понадобится, чтобы площадь поисков достигла площади земного шара.
Прикидываю возможности человеческого тела – похититель взял Эмму за руку? А может быть, понес? Если да, какова длина его шага? Сколько метров проходит в минуту? И как далеко способен уйти пешком? Сколько шагов было до его машины? Если наша «колючка» сопротивлялась – насколько это снизило его скорость? Остановится ли незнакомец, когда ребенок проголодается?
Воображаю себе автомобиль, стоящий у придорожного кафе. В маленькой забегаловке сидит маленькая девочка. Завтракает. Возможно, похититель захочет расположить к себе шестилетку, поэтому Эмме достанутся сладкие блинчики, сверх всякой меры залитые сиропом, и, может быть, даже шоколадное молоко. Догадается ли она не спешить, чтобы оттянуть отъезд? «Не торопись, – мысленно посылаю телепатический импульс через пространство. – Тщательно прожевывай каждый кусочек». Вспоминаю песенку, звучавшую в летнем лагере в Каролине, где оборвалась моя карьера герлскаута: «Жуй, жуй, не спеши – и наешься от души». Сидя в кафе, эти двое остановили время – окружность перестала расширяться.
Впрочем, версия с похищением не единственная. Полиция уже начинается склоняться к версии о том, что Эмма утонула.
Вчера, вскоре после прибытия патрульных, появился и катер береговой охраны. Я стояла на берегу, отвечала на вопросы и наблюдала, как он рассекает ледяную воду. Над пляжем иногда подолгу зависал оранжевый вертолет, слегка наклонившись носом к воде; громкий шум лопастей отчего-то напомнил мне фильмы о Вьетнаме. Спустя несколько часов, когда стемнело, катер уплыл, вертолет улетел. Океан стал зловещим, темно-синим, поднялся ветер и разорвал туман. Едва лицо и шею закололи песчинки, я вспомнила, что на Эмме один лишь свитер, недостаточно теплый для такой погоды. И хоть убей, не помнила, надела ли она носки.
Потом приехал Джейк. Не помню, в какой момент это случилось – долго-долго его не было, а потом вдруг появился. Огни патрульных машин озаряли темный пляж синим и алым, от костра по ветру сильно тянуло креозотом. К машинам подвели группу серфингистов в черных гидрокостюмах, блестящих и скользких, как тюлени, и полиция принялась их допрашивать.
Наконец к нам подошел сотрудник из береговой охраны. Его униформа казалась тщательно выглаженной, хотя человек весь день работал.
– В темноте мы бессильны. Возобновим поиски рано утром.
– Если она утонула – каковы шансы? – спросил Джейк.
Спасатель опустил глаза и зарыл мысок ботинка в песок.
– Трудно сказать, зависит от силы прилива. Иногда тело выбрасывает на сушу, иногда нет.
– Эмма боится воды. – Я взглянула на Джейка за поддержкой. – Она бы ни за что туда не полезла.
Шербурн занимался кем-то другим, но вдруг повернулся ко мне. Страницы его записной книжки трепетали на ветру.
Терпеливо объяснила, что недавно Эмма ходила на день рождения к девочке по имени Мелисса. Детишки с визгом перебрасывались мячом в бассейне, тогда как наше сокровище сидело, скрестив ноги, в шезлонге и мучило божью коровку, упавшую прямо в стакан.
– Ребенок отказался войти в воду. – У меня закружилась голова – пропажа в голубом купальнике словно наяву предстала передо мной. Тогда кроха искоса поглядывала на сверкающую водную гладь бассейна и слегка ерзала, как будто вот-вот должна собраться с духом и присоединиться к остальным. Так и не решилась. В машине, по пути домой, когда я спросила, хорошо ли повеселились, Эмма закинула худые ножки на переднюю панель и сказала: «Не люблю Мелиссу».
Шербурн с сожалением взглянул на меня – дескать, это еще ничего не доказывает, но судя по тому, как склонил голову и положил руку Джейку на плечо, детектив очень хотел, чтобы правда осталась за мной.
– Эмма – умная девочка. – Мною овладело отчаяние. – Если бы я хоть на секунду могла себе представить, что она подойдет к воде, ни за что бы ее не отпустила.
Джейк отвернулся и посмотрел на океан; несчастный отец где-то в глубине души всерьез над этим задумался. Его рациональный ум сейчас поглощен мимолетной, но отчетливой мыслью: Эмма могла утонуть.
– У меня у самого двое детей, – буркнул Шербурн. – Сделаю все, что смогу.
…Джейк возникает на пороге, с опущенной головой. Касаюсь его плеча, когда встречаемся посреди комнаты, – он вздрагивает словно от удара и поднимает на меня глаза, красные и опухшие. С очевидным усилием он протягивает руку, стискивает мои пальцы и тут же выпускает.
«Как ты могла? – Первое, что он спросил, когда узнал о случившемся. – Господи, Эбби, как ты могла?»
Мы говорили тогда по телефону; голос Джейка дрожал, и теперь, глядя на его лицо, я понимала – бедняга с трудом сдерживается, чтобы не сказать это еще и еще раз. Думаю: «Действительно, как я могла?» Чувство вины становится физическим ощущением. Постоянная тошнотворная боль…
Следователь стоит на пороге, руки на поясе, улыбается лучезарно, совсем как добрый сосед.
– Норм Дубус. – Его рукопожатие крепко, даже слишком. – Готовы?
Комната пустая, белая, очень теплая. Под окном гудит электрообогреватель, его спирали накалены докрасна. Пахнет потом и жженым кофе. Норм закрывает дверь и указывает на стул. Опутывает меня проводами и датчиками, велит сесть прямо и прислониться к спинке стула, так чтобы ступни твердо стояли на полу.
– Расслабьтесь. Всего несколько вопросов.
На столе перед ним лежит блокнот, а рядом стоит какой-то золотистый аппарат с иголкой. Норм нажимает на кнопку, аппарат начинает жужжать, а игла движется и чертит на бумаге четыре ровные синие линии. Первые вопросы очень простые.
Вас зовут Эбигейл Мейсон?
Родились в Алабаме?
Окончили Университет Теннесси?
Сейчас живете в Сан-Франциско, штат Калифорния?
Следователь записывает ответы в блокнот, изучает ломаные линии, делает пометки. Затем характер вопросов меняется.
Вы с Джейком ссорились в последнее время?
Есть ли у вас дети?
Вы хотите детей?
Когда-нибудь ссорились с Эммой?
У Норма настоящая шевелюра, черная, блестящая, над ушами несколько седых прядей, на лбу маленькие лиловые пятнышки. А еще от него пахнет зелеными яблоками, и, должно быть, всего пару дней назад он покрасил волосы. Может быть, даже сегодня утром.
С начала процедуры прошло полчаса.
Вы когда-нибудь наказывали Эмму?
Знаете, где она?
Как-нибудь связаны с ее исчезновением?
Вы потеряли терпение?
Утопили ее?
Убили ее?
Когда все заканчивается, у меня сдают нервы. Норм протягивает платок и наклоняется, чтобы отстегнуть провода. Запах яблочного шампуня становится еще ощутимее.
– Эмма любит яблоки, – говорю неожиданно для самой себя.
Следователь приподнимает бровь, рассеянно улыбается, и мне слышится какая-то нелепая мелодия – что-то вроде песенки, которую учат в детском саду: «С «я» начинается яблоко, с «я» начинается ясень…»
– Мы закончили, – сообщает Норм. – Можете идти. – И добавляет, уже мягче: – Это всего лишь необходимая процедура. Через нее все проходят.
– Понимаю.
На улице, перед полицейским участком, стоят журналистка и оператор Седьмого канала. Джейк смотрит прямо в камеру и говорит в протянутый микрофон:
– Если Эмма у вас – пожалуйста, отпустите ее. Оставьте где-нибудь в людном месте и уйдите. Никто даже не узнает вашего имени.
Журналистка сует микрофон мне под нос. Ее лицо блестит от макияжа, точно пластмассовое; губы очерчены чуть выше их естественной линии.
– Каким образом вы связаны с пропавшей девочкой?
– Невеста ее отца.
Журналистка втискивается между мной и Джейком:
– Приготовления к свадьбе продолжаются?
– Я хочу найти свою дочь, – угрюмо бросает он.
Телекукла задает Джейку еще несколько вопросов, даже не удосуживаясь выслушать ответы.
– Как вы себя чувствуете? Где мать Эммы? Как думаете, кто мог похитить девочку?
Этой до зарезу нужен красивый кадр: внезапный взрыв горя, сенсационное заявление, упоминание о злом соседе или сумасшедшем дядюшке – все, что может заинтересовать аудиторию.
Джейк отвечает на вопросы с профессиональным хладнокровием, он прекрасно подготовлен к таким неожиданностям, стойкий калифорниец, который никогда не теряет контроля над ситуацией. Ни разу не выказывает нетерпения, не начинает плакать. Прапрапрадедушка был золотоискателем, отец – звездой футбольного поля, и его имя по-прежнему мелькает на спортивной страничке газет. Отец был невероятно талантливым человеком, умер от алкоголизма, когда ему едва перевалило за сорок. Джейк и сам играл в футбол в школе – кстати сказать, у него неплохо получалось, – но после смерти отца окончательно завязал со спортом. И все-таки в нем по-прежнему сохранилось что-то от центрфорварда – добродушная уверенность, которая неизменно располагает окружающих.
Наблюдая за Джейком, я понимаю, что телезрителям он понравится. Публика просто восхитится его спокойной сдержанностью; густой, волнистой шевелюрой, всегда в легком беспорядке; полной нижней губой, которую он прикусывает, раздумывая над ответом; очками в тонкой оправе, придающими ему облик интеллектуала. Понравится мальчишеская улыбка, ямочки на щеках и то, как здоровяк опускает взгляд, когда слышит комплимент в свой адрес. Представила себе, как люди сидят у телевизоров, смотрят на нас и оценивают – сама так делала в лучшие времена.
Подъезжаем к дому, и там нас караулит еще один репортер. Джейк уделяет ему немного времени и вновь обращается к похитителю с просьбой вернуть Эмму целой и невредимой. Войдя в дом, задергиваем занавески и стоим в темной гостиной – молча, не касаясь друг друга. Просто стоим опустив руки, лицом к лицу. По комнате разбросаны детские вещи – на кофейном столике лежит волшебная палочка, обернутая блестящей фольгой; в корзинке у лестницы – кухонная прихватка, сшитая в подарок учительнице; под диваном – красные балетки, в которых непоседа любила ходить дома.
Прижимаюсь к груди Джейка и обвиваю его руками. Так нам всегда было очень уютно; он обнимал меня, и я чувствовала себя под надежной защитой. Всегда обнимал, а теперь – нет. Всего лишь хлопает по плечу – трижды, словно на похоронах.
– Прости меня, – говорю. Слов нет, куда-то разбежались.
Он безвольно роняет руку.
– Это не твоя…
Не может сказать, что это не моя вина. Не может сказать, что прощает. Потому что это моя вина и потому что не прощает.
Он размыкает кольцо моих рук, идет наверх, в спальню Эммы, и закрывает за собой дверь. Скрипят пружины кровати; слышу глухие рыдания. Я вспоминаю кровать Эммы – желтое стеганое одеяло в белый цветочек, маленькие подушки, под которые она так любила прятать всякую всячину – карандаши, кукольные платья, монетки. Проходит несколько минут, прежде чем Джейк выходит из комнаты. Слышу тяжелые шаги, щелчок дверного замка и шум воды в ванной.
Лесли Грей с Седьмого канала подает грязную новость следующим образом: «Шестилетняя жительница Сан-Франциско, внучка легендарного футболиста Джима Болфаура, вчера исчезла на пляже Ошен-Бич. Хотя отец девочки и его невеста не считаются подозреваемыми, нам сообщили, что обоим тем не менее пришлось пройти тест на детекторе лжи. Местные власти пытаются определить местонахождение матери девочки. Полиция опасается, что ребенок мог утонуть».
На экране появляется изображение Эммы, школьная фотография. Неровно подстриженная челка, голубая беретка, спереди недостает зуба. Вспоминаю день, когда был сделан этот снимок. Я помогла надеть беретку как положено, и Эмма вдруг отчаянно захотела челку, завитую щипцами. Чтобы не обжечь кожу, я положила руку ей на лоб – так же, как это делала моя мать. Эмма начала болтать о каком-то Сэме, что отравил школьную канарейку, и я поняла, что начинаю ей нравиться.








