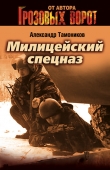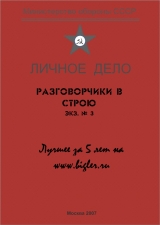
Текст книги "Разговорчики в строю № 3. Лучшее за 5 лет."
Автор книги: Михаил Крюков
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 53 страниц)
Ветеран СГВ Трудности перевода
Обсуждение историй про военных переводчиков и особенности синхронного перевода на разные дикие языки навеяло мне одну байку, рассказанную лет двадцать назад одним моим знакомым. Он, как выпускник ВИИЯ, [126]126
ВИИЯ – Военный институт иностранных языков.
[Закрыть]получив лейтенантские погоны, поехал в Алжир служить тем самым военным переводчиком. С французским языком.
Однажды проходил какой-то очень важный приём, на котором присутствовали наши, алжирцы и французы. Возможно, что были и другие братья по оружию, но это не важно. Важно то, что наш герой был приставлен к некоему нашему генералу, дабы ему всю эту вражью речь переводить на русский, а генеральский бред, соответственно, на французский.
Сначала генерал был довольно вменяем, говорил много, переводчик успешно переводил. Потом лампасник милостиво отпустил лейтенанта поесть-попить, попутно заметив, что говорить он боле не намерен, а намерен принять на грудь. Чем наш герой и воспользовался, успев употребить немало вкусных спиртных напитков.
И вот когда приятное алкогольное тепло уже изрядно распространилось по телу, лейтенант обнаружил своего генерала, требующего переводчика к себе. Дабы совместно произнести тост. Это был кошмар, ибо генерал говорить внятно уже не мог, да и переводчик внятно переводить тоже. «А ведь выдерут-то меня! – пронеслось в голове, – скажут, что не справился!»
Решение в отравленном алкоголем мозгу появилось неожиданное, но верное. Точнее, это был заранее спланированный экспромт, подготовленный ещё в институте. Там будущих переводчиков кто-то умный заставлял наизусть заучить несколько длинных хороших тостов на вражьем языке, причём заучить до автоматического состояния. Мол, пригодится, когда попадёте в «ситуацию».
И вот, генерал несёт пургу, русские благопристойно молчат, а переводчик, слегка покачиваясь, вдохновенно на языке Мольера и Руссо на полном автопилоте произносит упоительно красивый тост, прерываемый иногда вежливыми аплодисментами франкоговорящей аудитории.
Наконец, тост закончился, переводчик сорвал шквал оваций, и, уходя в алкогольную нирвану, запомнил почему-то ошалевшие глаза алжирцев и гогочущие рожи французов.
Объяснение феномена случилось наутро, когда кто-то из знакомых французов пересказал ему вчерашнее выступление. «Тост был прекрасный, mon chere, но какого такого пуркуа ты постоянно обращался к аудитории «Дорогие вьетнамские друзья!»?
Utburd Как это было
Он родился в 1919 году, в Бахмаро. Революция ещё гуляла по Грузии, но уже выдыхалась. Он рос как обычный бичико [127]127
Бичико – (груз.) – мальчишка.
[Закрыть]в семье, корни которой восходили к смутному 15 веку, когда основатель рода Георгий, последний раз посмотрев на сожжённую деревню и вырубленные турками виноградники, без лишних раздумий взял оружие, собрал уцелевших и ушёл в горы. Его потомки буднично партизанили и резали турок вплоть до того момента, как с севера пришли русские и своими штыками вышибли оттоманов с Кавказа. Тогда семьи спустились с гор, вновь посадили виноградники. Мужчины рода всегда помнили о прошлом, поэтому воинскую службу царю принимали как должное.
Верный памяти крови, он не мыслил себя невоенным. В 16 лет, сбежав из дома, на перекладных доехал до Ленинграда, где, добавив себе два года, поступил в танковое училище. С лейтенантскими кубарями вошёл в Финскую, хотя, что бы, казалось, ему, грузину, до той Финляндии? С мясом, с кровью вырывал у финнов куски нашейтерритории. Не рефлексируя, зная, что надо.
Потом – обморожение, госпиталь. В 41-м – курсы повышения квалификации, уже после начала войны в Воронеже, переброска в Москву, на новенькой 34-ке ещё с 76-мм пушкой – на парад 7 ноября, и маршем – на немца, который уже почти добрался до сердца страны. Танки жили тогда гораздо дольше экипажей, но ему везло, везло, наверное, из-за безбашенности какой-то. Толком даже без ранений прошёл год, тяжёлый, в мазуте, соляре, пороховых газах, которые не выветривались из танка, с постоянным матом, «шени деда мовтхан, мама дзагли!», с редким отдыхом. Везение закончилось, немецкий подкалиберный снаряд прошил танк, и кусками обшивки ему снесло полчелюсти, контузило дико; он, срывая ногти, смог открыть люк и выволочь на себе раненого, но живого механика. Немного везения у него все-таки осталось – его подобрали свои.
Она была с Дальнего Востока, дочь цыгана и забайкальской казачки. Отца, работавшего рабкором, перевели в Москву, неожиданная удача! Столица! Они поселились в центре, в коммуналке. Школа, кино, каток, замуж за одноклассника, красавца Славку, и – война. Эвакуация, прыгающие руки мужа, собирающего чемоданы, мама остаётся, отец ушёл в ополчение, но у мужа какая-то болезнь (при папе-враче), на фронт не берут. Теплушки, Новосибирск, там – ты подлец, страна в опасности, а в ответ – дура, жить хочется! Развод, курсы санинструкторов, и со сформированными сибирскими полками – обратно в Москву. «Всё, гвардеец, в пути изведай, холод, голод, смертельный риск, и героем вернись с победой в славный город Новосибирск…» И ей тоже везёт: девчонка, хрупкая, таскает на себе здоровых сибиряков – дочка, брось меня! – в снегу, крови, по трупам, под пулями – родненький, ну потерпи! – только бы до своих, до врачей дотянуть… Лимит везения кончился, в окопе их оставалось человек 10-15 от роты, а немцы прут, понимаешь: либо ты, либо тебя, и: «За Сталина, бля! Вперёд!» И девчонка, 20 лет, из забитого трупами окопа, хрен его знает с каким оружием в руках, что-то подобрала, наверное, понимая, что если не они здесь – тогда все, этих тварей уже никто не остановит, перелезает через бруствер и ловит лицом, грудью осколки от миномётной мины. Видимо, чуть-чуть везения оставалось и у неё – осталась жива и подобрали её тоже наши.
Они познакомились в челюстно-лицевом госпитале. 40 пластических операций у неё, чуть больше – у него. Её больше на фронт не брали, он пробил все-таки себе направление, упорный был. «Конечно, встретимся, вот война кончится, вот победим, мы ведь обязательно победим!» В шесть часов вечера после войны…
Все-таки они были везучие. Он дошёл до Силезии, был ещё ранен, войну закончил капитаном. После Победы приехал. Она дождалась его, хотя писем почти не было, верила и ждала. В 46-м они поженились. За год до свадьбы вернулся её отец, живой, единожды за всю войну раненый в ягодицу – он вполоборота поднимал людей в атаку. Он часто потом подкалывал дочь и зятя – мол, фигли вы, дурни, мордой вперёд на врага пёрли? У них родились две дочки. Ждали третьего ребёнка, он хотел мальчика, верил, что на грузинской земле она родит именно сына. Рожала она в Кутаиси; тогда майор Советских войск мог позволить себе отправить жену рожать на Кавказ. Мальчик не родился. Родилась моя мама.
Бывший Мент Штабной и «Лезгинка»
Штабных не любит никто. Нет, наверное, сами штабные и их родственники любят. Но те, чью деятельность они (не родственники, а штабные) проверяют, направляют и усиливают, нежностью к работникам штаба не лучатся. Антагонизм сей родился не вчера; ещё поручик Ржевский в незабвенном фильме заявил: «Опять штабной? Прислали б водки лучше!»
В 1996 году начальником ГУВД Санкт-Петербурга стал Анатолий Васильевич Пониделко, друг и однокашник министра внутренних дел Куликова, отставной пенсионер славных внутренних войск. У руля питерской милиции этот товарищ простоял полтора года, заслужив у подчинённых ласковые прозвища «вредитель» (за свою деятельность), «горбатый» (за особенности осанки) и «Тампакс» (за указание женщинам-сотрудникам иметь указанный предмет в «тревожном» чемоданчике). При нем-то и расцвела пышным цветом деятельность штаба ГУВД, который высочайше повелевалось считать Самым Главным Подразделением. Уголовный розыск, следствие, участковые инспекторы, служба БЭП, ППС [128]128
БЭП – борьба с экономическими преступлениями, ППС – патрульно-постовая служба.
[Закрыть]и ГАИ, как выяснилось, представляли собой сборище никчёмных людишек, которые лишь благодаря беззаветному подвижничеству штаба хоть как-то оправдывали своё существование. Забросив все текущие дела, милиция писала планы на день, неделю, месяц, квартал и год, ходила с песнями на строевых смотрах и сдавала проверки. Штаб торжествовал и упивался всевластием.
Летом 1997 года я, сидя в кабинете, допрашивал вора, попавшегося при неудачной попытке смыться из «выставленной» им квартиры. Жулик был интересный, ранее неоднократно гостивший у «хозяина», и то, что эпизод, на котором он спалился, в его биографии явно не единственный, сомнения не вызывало. Как это ни удивительно, как раз с такими легче устанавливается необходимый психологический контакт, без которого допрос превращается в тупое записывание отмазок задержанного. Но в тот раз с этим самым контактом было в порядке, злодей начинал колоться ещё на несколько аналогичных подвигов в районе, и я с тоской думал, что сегодня домой добраться уже не судьба – его нужно будет везти проверять показания на месте, а это значит – искать транспорт, конвой, понятых, затем несколько часов кататься по обворованным квартирам, писать, фотографировать и прочее, и прочее, и прочее.
Тут-то и распахнулась без стука дверь в кабинет, и на пороге возник он. С первого взгляда стало ясно – штабной. Шитая фуражка-аэродром едва не цеплялась за притолоку дверного проёма. О стрелки на брюках можно было точить карандаши. Вышитые три маленькие звёздочки на каждом погоне свидетельствовали о том, что их владелец гордо несёт по жизни специальное звание старшего лейтенанта милиции. На выглаженном кителе сверкал ромбик Академии МВД. В начищенных ботинках отражалось его смуглое, гладко выбритое лицо.
Я, будучи следователем, капитаном юстиции, форму держал в шкафу и надевал её на День милиции, ну и изредка в случае каких-нибудь служебных бедствий, а в тот день, как обычно был в «гражданке».
– Штаб ГУВД, старший лейтенант милиции Мирзоев! – с лёгким акцентом «лица кавказской национальности» отрекомендовался вошедший. – Прошу предъявить жетон, служебное удостоверение и оружие. Затем к осмотру ящики стола и сейф.
– Будьте добры, подождите в коридоре, – попросил я его. – У меня проводится следственное действие, я веду допрос и прерывать его из-за проверки не могу.
– Вы что, не поняли?! Штаб ГУВД! Немедленно предъявите жетон, удостоверение, оружие, ящики стола и сейф к осмотру! – и глаза у него засверкали, и голос на тон повыше стал.
Задержанный с интересом смотрел на происходящее, ему это как бесплатная комедия перед долгой дорогой. Меня же, честно говоря, бесцеремонность этого хлыща заела. Обычно в таких случаях я, чтобы не тратить время, показывал все, что требовалось, лишь бы отстали. Но, не желая в глазах вора выглядеть не следователем, а пешкой, решил пойти на принцип.
– Удостоверение на право проверки, пожалуйста, и ваше служебное удостоверение предъявите, – сказал я проверяющему.
С брезгливой миной, закатив глаза, тот полез во внутренний карман кителя.
Порывшись там секунд 30, полез в другой. Потом стал шарить по наружным боковым карманам. Затем – в карманах рубашки и брюк. После этого, в ускоренном темпе проделал все манипуляции ещё и ещё. Я, поняв в чем дело, с интересом смотрел на него. Задержанный, тоже догадавшись, хихикнул.
– Нету… – с тоской произнёс старлей. – Я его, наверное, в куртке оставил. Ладно, не нужно ничего от вас, – и он развернулся к двери.
– Э нет, стоять! – я забежал и преградил ему дорогу к двери. – Сядьте-ка вот тут на стульчик и посидите, пока мы разберёмся! Вы, может быть, чеченский боевик, откуда мне знать, а? Или разведчик азербайджанский?
Несколько минут старший лейтенант бухтел и грозился всевозможными карами, но прорваться к двери, будучи значительно меньше меня габаритами, не смог и плюхнулся на стул. Задержанный уже откровенно ржал в голос. Я стукнул кулаком в стенку, и из соседнего кабинета пришёл дознаватель Коля Величко. Я попросил его постеречь старлея и жулика. Меланхоличный и вечно невозмутимый Коля не удивился и застыл у двери, а я ссыпался по лестнице в дежурную часть. Оперативный спел мне грустную песню про подлеца-проверяющего из Штаба, исписавшего недостатками половину своего гроссбуха. После того, как я поведал ему про отсутствие у «ковыряющего» документов, в глазах дежурного появились злорадство и хищный блеск, и он позвонил начальнику отдела, который, сидя в кабинете, уже представлял, что ему скажет на утреннем совещании руководство РУВД по результатам проверки. Начальник отдела забрал штабиста из моего кабинета и увёл к себе. Там они созвонились с руководством проверяющего и договорились: мы молчим про отсутствие документов проверяющего, они докладывают о замечательной организации службы и хорошем порядке у нас в отделе.
На следующее утро, вернувшись с совещания, начальник отдела зашёл ко мне и поведал, как руководство РУВД топало ногами на другие отделы, где проверка выявила кучу недостатков. Наш же отдел проверяющие отметили за организацию и несение службы на должном уровне, а особенно – за высокую бдительность сотрудников!
Начальник отдела презентовал мне бутылку «Лезгинки», которую в тот же вечер мы с ним и распили.
Rembat По следам рассказа о разведчиках.
Как это трогательно: не убить врага, а подарить ему жизнь, да ещё и с позорными для того подробностями. Вот только насколько чаще другие истории на войне происходили…
Не байка, правда натуральная, такая, что правдивей некуда. Никаких эмоций, просто, чтоб расставить акценты по поводу внезапной встречи с врагом на войне.
Сентябрь 41-го. От батальона военно-морских строителей осталось 14 человек. 12 матросов, старшина и зампотех, военинженер 3-го ранга (капитан). Бредут в сторону Ленинграда из-под Ижор. Окружение. Не диверсанты, а стройбат. На 14 человек – браунинг у командира, одна ( одна) винтовка-трёхлинеечка с десятком патронов и с пяток ножей. Даже лопат с собой не несут. Разведка? А на хрена, и так ясно: вокруг – немцы.
Но все-таки надо иногда почётче знать, где именно. Человек пять ползли и озирались.
В какой-то момент стройбатовцы-разведчики недоозирались. Вышли на полянку, не успели завалиться отдохнуть – три немецких солдатика выходят на ту же полянку, винтовочки за спиной. И идут прямо к ним, ничего не боясь. Унтер-офицер немножко по-русски говорил. Не, никаких «хенде-хохов». О, говорит, рус! Матросен? Плен – давай! Пойдём-пойдём. Плен – хорошо. Война – конец. Господин официер – в официерский лагерь (тут унтер с некоторым сомнением посмотрел на семитский профиль советского офицера, но решил пока не обострять). Лагерь – хорошо. Сигареты! Мыло дадут!
Похоже, именно это мыло и решило их судьбу. Старшина возмутился:
– Не, ну нихрена себе! Товарищ командир, да за кого они нас принимают?
– Давай, ребята, – сказал угрюмо командир.
Немцы от изумления даже не сопротивлялись. Их повалили, крепко испинали, отобрали винтовки, связали ремнями. Командир по-немецки свободно говорил, диплом переводчика до войны имел. Допросил их, выяснил, что остальные немцы – километрах в двух. А дальше? А что дальше… Группе надо к Ленинграду прорываться. Не тащить же немцев с собой. Отпустить – через сколько времени их всех перестреляют? Полчаса, час?
Значит, эти немцы здесь, на полянке, и останутся. Расстрелять? Во-первых, патронов, даже с учётом трофейныx, мало до слёз. Во-вторых, шум ну совсем не нужен.
– Режь!
Легко сказать… Не диверсанты они, не урки какие. Строители, хоть и в тельниках. Ни один из них ещё человека даже из огнестрельного оружия никогда… Но своя-то жизнь дороже. Жребий кинули.
Одному немцу повезло – как-то удачно его старшина ножом ткнул. Сразу умер. Двое других тяжело умирали. Одного из них минут десять никак не мог матросик к богу отпустить. Руки у матросика дрожат, слезы из глаз – градом. Он потом месяц по ночам кричал. Остальные всё боялись, что немцев он накличет. Пронесло.
Вышли они к своим. Всей группой, потеряв только одного матроса. В ноябре вышли. Неву форсировали. Это они знали, что к своим плывут. А свои откуда знают, кого там черт несёт вплавь через ледяную Неву? Вот того матроса своя пуля и достала. Остальные – живы.
P.S. Я как-то спросил своего деда, инженер-полковника в отставке:
– Дед, а ты лично на войне хоть одного немца убил?
Дед (шесть орденов, 19 медалей) поморщился. Он всю жизнь строил, от дзотов и береговых батарей до многоэтажных домов и театров; вот об этом он любил рассказывать.
– В одного как-то из пистолета попал. Убил, ранил – не знаю. Что я, проверял, что ли? Того немца я и не запомнил. А вот приказ мне однажды пришлось отдавать страшный…
Замполит Сага о Лётчике-Герое
Виталий Дмитрич был не только популярным приключателем, но и весьма склонным к различного рода экстремальным мероприятиям гражданином. Одно время он прыгал с парашютом, но вскоре нашёл себе новую игрушку – Чкаловский аэроклуб, где и приступил к освоению неба посредством деревянного фанероплана с полотняными крыльями. Точно можно сказать, что этот фанероплан бомбил ещё немецкие позиции, хотя знатоки спорили, какие именно – времён Второй или Первой мировой войн. Тем не менее, Виталий Дмитрич в сопровождении лётчика-инструктора потихоньку поднимался в воздух, двигал рычагом и педалями, осваивал премудрости рысканья, крена и тангажа. Надо сказать, что он вполне успешно освоил сей чудо-пепелац и даже очень полюбил катать на нем пассажиров, избранных для жертвоприношения богам воздушного океана. Пассажиры приземлялись зелёненькие, и считалось везением не покушать перед бесплатным полётом.
Справедливости ради необходимо сказать, что катания эти закончились после того, как на должность пассажира был назначен заместитель Виталия Дмитрича, главный инженер автоотдела фирмы Борис. Прибыв в сопровождении Виталия Дмитрича на аэродром в Тушине, Борис о чем-то перекинулся парой слов с инструкторами и с обречённым видом полез на пассажирское место. Пассажирским местом в аэроплане считалось заднее, в учебных полётах там летал инструктор; Виталий Дмитрич успешно поднял свою этажерку в воздух и убыл в назначенный квадрат для производства фигур высшего пилотажа. Однако внезапно он понял, что самолёт не слушается управления, а потеребив ручки-педальки, с ужасом осознал, что пассажир успешно перехватил инструкторское управление, и теперь всё находится в его руках… Фанероплан же начал совершать в небе невиданные эволюции, и, продемонстрировав исключительную пилотажную технику и определённую воздушно-гусарскую лихость, приземлился на лётном поле, выгрузив зелёненького Виталия Дмитрича, который, к счастью, не покушал перед вылетом. Чуть позже выяснилось, что в своей прошлой жизни Борис был лётчиком-истребителем первого класса и перед вылетом просто показал инструкторам свои документы.
Srt Спасённый
Учения были в самом разгаре.
Андрей уже второй час сидел, стараясь сохранить равновесие, на маленьком, сколоченном из досок плотике ровно посредине пруда, и ждал, когда вертолёт прилетит его спасать. Было жарко. Солнце припекало, и выданные для более достоверного изображения рыбака рыбацкие штаны – резиновые, по грудь, с приклеенными сапогами и двумя лямочками – стали изнутри скользкими от пота. Спасение должно было состояться довольно скоро. Уже побегали с носилками через густые клубы дыма «мишки Гамми» – жертвы, вынужденные на жарком солнышке носиться в напяленном второпях защитном костюме полной изоляции – резиновом гондоне с окошком и клапаном выпуска выдыхаемого воздуха. Клапан по традиции срабатывал кое-как; после первой минуты пребывания человека внутри костюм ощутимо надувался и мешал ходить. Сидеть, лежать и ползать он мешал тоже. Напряжения добавлял лежавший на носилках и изображавший пострадавшего коллега. Его шёпот «Только не навернитесь, только не навернитесь» был слышен даже через маску дыхательного «Ауэра». Нести старались аккуратно.
Андрей наблюдал все это, в душе радуясь тому, что при распределении ролей отхватил самое спокойное место. Вода, свежий воздух, а главное – кругом никого. Сиди себе, покуривай, да жди вертолёта. Дел по его прибытию тоже немного. Во-первых, дождаться, когда спустят трос. Во-вторых, от троса вовремя увернуться, чтобы не треснуло накопившимся на вертушке статическим электричеством, а всё оно ушло в воду через специальный линек-громоотвод. В-третьих ,накинуть пристёгнутую к тросу беседку-«косынку» и расслабиться. Все остальное должен был сделать вертолёт, а именно – спасти несчастного рыбака (Андрея) с льдины (плотика), пронести его, висящего на тросе, мимо трибуны наблюдателей и уволочь подальше от полигона, к лагерю, где парни, не задействованные в показухе, уже заканчивали нарезать закуску.
А вдали уже стрекотала родная «бОшка». Андрей приподнялся, насколько позволил пляшущий плотик, и начал, вяло махая руками, изображать терпящего бедствие рыбака. Настал его звёздный час. Машина с высунувшимся из двери выпускающим зависла, покачалась вправо-влево, снизилась. Из чрева её показался и медленно поплыл вниз конец троса с болтающейся на нем «косынкой». Когда «громоотвод» коснулся воды, Андрей подтянул трос, нацепил беседку, и дал выпускающему знак «поднимай!». Вертолёт аккуратно приподнялся, ноги потерпевшего в последний раз пихнули опостылевший плотик. И тут, неизвестно почему, неизвестно как, и главное – непонятно для чего «бОшка» резко снизилась на метр-полтора. Андрюха погрузился в воду. Выпускающий, увидев это, что-то сказал по переговорному устройству, и вертушка, протащив спасаемого по воде метров пять, снова начала подниматься. Вместе с ней поднимался Андрей. А за ним на глазах у заметно оживившейся трибуны, опасно раскачиваясь на постепенно растягивающихся лямках, поднимались наполненные водой и тиной до отказа и невероятно от этого раздувшиеся рыбацкие штаны.