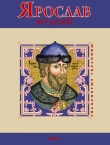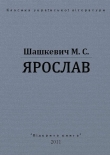Текст книги "Золотое на чёрном. Ярослав Осмомысл"
Автор книги: Михаил Казовский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 33 страниц)
Путешествие внучки и правнука Чарга длилось больше месяца. Доскакав из Энея до черноморского порта Амастриды, около недели провели в ожидании попутного корабля. Плыть на запад, к Константинополю, побоялись и отправились на восток, в сторону Синопа, от которого при хорошей погоде – около трёх дней и ночей на север до Таврического (Крымского) города Херсонеса. На другом корабле добрались к Белгородской крепости и на третьем – вверх по Днестру, до тысменицких лесов… Планов на будущее не строили. Настенька желала встретиться с сыном и молить Осмомысла разрешить ей остаться с Олегом, на любых правах, даже горничной. Ростислав же хотел (ну, во всяком случае, на словах) возвратиться под крыло Давыда Смоленского и служить в его войске; но сначала собирался увидеть, как решится судьба двоюродной тётки: если Насте не удастся осесть рядом с сыном, взять с собою в Смоленск.
Не найдя коней, шли пешком через лес около пятнадцати вёрст. На одной из тропок чуть ли не в упор, нос к носу, налетели на мишку – средней величины и паршивости; испугавшись друг друга, разбежались в разные стороны, а потом долго хохотали, сидя на пеньке. Отдыхали в охотничьем домике, жарили подстреленных Чаргобаем зайцев, запивали простой ключевой водой из лесного ручья. К городку вышли вечером. Заплатив караульным на воротах за вход, устремились к бывшему дому Настеньки – княжеским хоромам. Озадачив привратников, стали ждать разрешения войти. Появился Тимофей – всё такой же, не от мира сего, с волосами, как раньше, «под горшок» и с лицом состарившегося отрока. Удивлённо воскликнул:
– Батюшки светы! Вы откель такие?
– Из Царя-града, вестимо. Переночевать пустишь?
– Заходите, не жалко.
Настя с трепетом поднималась по лестнице. Ей казалось, что сейчас не выдержит, упадёт без чувств. Вздрагивала от звука любых шагов: может быть, Олежка? И увидела его, появившегося на другой стороне сеней, – худощавого и высокого для одиннадцатилетнего мальчика, смугловатого, кареглазого. Он смотрел настороженно, спрашивал безмолвно: ты ли это? У неё потоком хлынули слёзы горло задрожало, и произнесённая фраза вышла клочковатая, куцая:
– Здравствуй, сыночка… Не узнал меня?
Паренёк моргал и не двигался, глядя на красивую чернобровую тётеньку, плачущую навзрыд; наконец до него дошло, и слетевший с его уст вопрос получился тоже коротким:
– Маменька? Неужто? – И не выдержал, бросился к ней в объятия. Повторял всё время: – Отчего ты долго не ехала? Я соскучился за тобою – страсть!
– Не могла, ну никак не могла, любимый, – отвечала женщина. – Ведь была я за тридевять земель. Хорошо, что теперь примчалась.
– Хорошо вельми.
Он не отходил от неё и, заглядывая в лицо, умилительно улыбался:
– Ты такая дивная. Никого нет тебя прекрасней.
– Да и ты у меня уродился славный. Тятенька-то ездит, навещает тебя?
– Реже, чем хотелось бы. Чаще присылает подарки. Отчего вы не вместе и живете порознь?
– Так нельзя же, Олеженька, коли у него супруга-княгиня, Ольга Юрьевна. Быть женатым сразу на двух не позволил Господь.
– Но ведь я – Осмомыслов сын всамделишный?
– Ну, само собою.
– Разве ж можно быть сыном не от жены?
– Получается, можно.
– И от этого я не княжич, как брат Володимерко?
– Да, поэтому.
Лоб гармошкой собрав, что-то вспоминал. А потом спросил:
– Что такое «бастардус»?
Настя покраснела и попробовала уйти от ответа:
– Это нехорошее слово, заморское. Лучше его не произносить.
– Нет, а как истолковать?
– Да на что тебе? Где ты слышал?
– Про меня так вельможи бают. Стало быть, не любят?
– Болтуны, охальники. Плюнь на них.
– Отчего ты боишься изъяснить?
– Не боюсь нимало. Изъясню, изволь. Так латинцы называют отпрысков короля или императора, появившихся не в его семье, а на стороне.
– А-а, ублюдков?
Рассердившись, внучка Чарга проговорила:
– Как тебе не стыдно ругаться? Вот не ожидала! Мальчик не смутился, а печально определил:
– Значит, я бастардус. Потому-то меня и держат в лесах, а не в Галиче.
– Ну и что? – Мать ладонью распушила его волосы. – Чем в Тысменице плохо?
Он сказал задумчиво:
– Да не знаю. Вроде бы ни в чём не нуждаюсь. С Тимофейкой мы живём душа в душу. Но внутри червячок сосёт: для чего я не княжич, а какой-то бастардус?
– Значит, так Господь захотел. Испытание, ниспосланное с Небес. Чтобы ты, пострадав, сделался духовней и чище. Сын кивнул:
– Понимаю, маменька. Надо не роптать, а терпеть. Ибо ничего случайного нет и на всё воля Божья.
Так они прожили два чудесных дня – в разговорах, прогулках, трапезах, и Олегов Трезорка следовал за ними по пятам неизменно, тявкал радостно, хоть и был уже в собачьих летах, приближаясь к восьми годам. А на третьи сутки прискакала кавалькада из Галича: князь, его подручные и охранники. Осмомысл взбежал на крыльцо, почерневший от пыли, нервный, увидав Настеньку, выкрикнул со злостью:
– Как ты смела воротиться назад? Убирайся прочь к своему Андронику! Лучше уходи добровольно, или я спущу на тебя борзых.
У неё подогнулись колени, и, упав к ногам Ярослава, Женщина взмолилась:
– Пощади, батюшка, мой свет… не казни, прости! За вое легкомыслие я уже наказана – смертью малой дочери и скитаниями по свету… Разреши остаться в Тысменице при Олежке, родной моей кровиночке!..
Но её бывший покровитель рассердился ещё сильнее:
– Слушать не желаю! Об одном прошу: не вводи в искус и не вынуждай вышвыривать тебя силою. Собирайся живо!
Тут вперёд вышел Чаргобай. Он за время отсутствия в Галиче очень возмужал, превратившись в зрелого, кряжистого витязя, перенявшего от Берладника бычью шею и крепкие ноги. Твёрдо и весомо проговорил:
– Не замай, Ярославе, или дело будешь иметь со мною. Осмомысл рассмеялся едко:
– Я? С тобою? Не было печали мараться! Не встревай, племяш. А не то свистну верным гридям, и они тебя затопчут копытами лошадей.
– Пусть попробуют. Прежде чем затопчут, уложу их с десяток, как пить дать! – И со звоном выхватил из ножен короткий меч.
Князь немедленно кликнул молодцов из отряда Гаврилки Василича: те, стуча сапогами, побежали по ступеням крыльца и, держа сабли наголо, окружили хозяина, только ожидая сигнала к схватке.
– Стойте! – вдруг раздался тонкий мальчишеский голос. – Я не дам тронуть маменьку и троюродного братца! – И Олег встал посередине, между двух враждебных сторон. – Прежде чем изрубите их, вам придётся изрубить и меня!
Галицкий правитель вроде бы проснулся и тряхнул головой. Произнёс на тон ниже, чем раньше:
– Сынка, отойди. Дети не мешаются в распри взрослых. Но парнишка ответил дерзко:
– Мне плевать на других детей! Я – бастардус, и закон мне не писан. Отступить меня никто не заставит. Лучше сам решай: коли маменьку выставишь за двери, я поеду с нею. Потому что она меня не стесняется. Потому что жить один в Тысменице доле не желаю!
Подивившись на эти речи, повелитель взмахнул рукой, и дружинники опустили сабли, хоть и продолжали толпиться за его спиной полукругом. Меч упрятал в ножны и Чаргобай.
– Будь, Олеже, по-твоему, – примирительно сообщил родитель. – Разрешаю Микитичне оставаться. Но не во дворце: у кого-нибудь из простых горожан. А тебе, Ростиславе, места тут не сыщется. Отправляйся подобру-поздорову, покуда цел.
Тот пробормотал:
– Уж не задержусь. Наши главные встречи впереди.
Осмомысл провёл в Тысменице до утра, лично проследил, как уехал наследник Берладника, и дождался доклада Тимофея, что Настасья временно разместилась в доме у попа. Пожелав отобедать, пригласил за стол сына. Тот явился мрачный, глаз не смел поднять. Попросил прощения за вчерашнюю выходку, но оправдываться не стал, лишь сопел угрюмо. Князь ему сказал:
– Ничего, не трусь, я уж не сержусь. Более того: я тобой доволен. Ты себя повёл, как и подобает настоящему княжичу.
Мальчик покраснел и ответил:
– Благодарен, отче, за сии лестные слова. Но, увы, я напомню, что не княжич есмь, но презренный бастардус.
– Был бастардусом, да теперь не будешь. Новый епископ Галича, что приехал из Царя-града вместо отошедшего в мир иной преподобного Кузьмы, обещал узаконить твоё рождение. Станешь ровней Володимерке.
Личико парнишки просияло от счастья. Он, упав на колени, с жаром поцеловал отцу руку. И, подняв глаза, восхищённо спросил:
– Коли так, я смогу, как и он, унаследовать престол в Галиче?
Улыбнувшись, Ярослав усадил его по правую руку от себя, начал потчевать, а потом заметил:
– Можешь унаследовать ранее, чем он. Тот опешил, даже бросил есть:
– Не уразумею… Володимерко ведь старший из нас?
– Старший, да нелепый. Ты мне больше по сердцу.
– Ой, да это ж страх – взять и управлять целым княжеством! Вон меня Трезорка и тот слушаться не любит.
Осмомысл с улыбкой проговорил:
– Не беда, научишься. И потом, я пока помирать не решил. Лет ещё пятнадцать протяну как-нибудь. Ты и повзрослеешь.
– Ну, тогда я спокоен, тятенька.
Глядя на него, Ярослав подумал: «Как похож на Настю! Та же смуглая кожа и коричневые глаза. Нос точь-в-точь ея. Маленькие ноздри… А она стала только краше. Нет уже того юного создания, нежного и хрупкого, что любил я всем сердцем; но она, как хорошее вино, сделалась с годами более изысканной, впечатляющей… Этот удивительный взгляд, мягкий голос… Слёзы – будто скатный жемчуг… – Он вздохнул. – Но она предала меня. Наши чувства, нашего сына… Убежала с Андроником, как гулящая девка. А теперь приползла, точно пёс побитый. Поделом же ей! Справедливость есть. – Пригубив вина, сам себя спросил: – Неужели прощу? – Сам себе ответил: – По-христиански обязан. Ну, а если не по уму, а по сердцу? – Сам собой возмутился: – Стыдно различать! Сердце и должно жить по-христиански. Коли я зовусь православным! – Окончательно сделал вывод: – Стало быть, прощу. Но любови меж нами быть уже не может. Рушить снова семью, озлоблять бояр? Упаси Господь! Никогда не стану. Буду восхищаться ею издалека. Да падёт на меня проклятие Вседержителя, коли отступлюсь!» И смотрел на сына, как он ест и пьёт, с теплотой и радостью.
Ах, напрасно зарекался отец Олега! Ибо сказано: не клянись, чтоб не нарушать клятвы, а нарушив, жди неотвратимой небесной кары. Бедный Ярослав!..
3
Ольга Юрьевна посетила Осмомысла в расстроенных чувствах, с покрасневшей шеей и покрытой бисеринками пота верхней губой. «Боже, вот уродина! – промелькнуло в голове князя. – Этот нос, как репа, в точечках-угрях… эти щёки дряблые… Господи, а пузо! Словно на сносях… Лучше не глядеть». – И уткнулся в книгу. Долгорукая сразу поняла его мысли, прошипела гневно:
– Уж смотреть не хочешь! Ну, понятное дело, где нам до прельстительной потаскушки! Всё забыл: прошлые обиды, вероломство, подлость – полетел к зазнобе голову сломя. Честь, супругу побоку! Полюбовница – свет в окошке!
Он ответил, не повернув головы:
– Что ты мелешь, глупая? У меня там сын. Должен был узнать, разобраться. Оградить его, коли нужно…
– Ну и разобрался? Оградил дитятю?
– Ростиславку выслал к свиньям собачьим. Вот ведь негодяй! Руку поднял на меня, на князя!
– А ея тоже выслал? Галицкий владыка сухо произнёс:
– Выслал. Из дворца…
– «Из дворца до крыльца»! Где ж она теперь?
– В доме у тысменицкого попа.
У княгини болью исказилось лицо:
– Всё с тобой мне яснее ясного. Снова здорово… Муж заволновался:
– Прекрати! Молчи! «Ясно ей» – видали! Что ты разумеешь – куцым своим умишком, не способным заглянуть в душу? Как тебе вдолбить? Только время тратить!
Женщина присела на лавку – грузная, нескладная. Маленькие слёзки, выкатясь из глаз, задрожали на её коротких ресницах. И она их утёрла пальцем, толстым и кургузым. Жалобно сказала:
– Грех так говорить, Ярославе. Я ли не любила тебя? Я ли не люблю до сих пор? Да, конечно, ссорились, разъезжались, говорили гадости. Зубы точили друг на друга. Но потом одумались, помирились, съехались. Дочек выдали за хороших людей… И опять сначала? – Вынула платок, вытерла под носом. – Если я ревную, стало быть, люблю. – Повздыхав, добавила: – Хоть грызёмся часто, но давно срослись. Порознь не можем. Не руби по живому-то.
Отшвырнув книгу, Осмомысл поднялся, подошёл к окну. Коротко ответил:
– Я не собираюсь рубить. Всё идёт по-старому.
– Мне-то видно, что нет.
– Всё идёт по-старому! – повторил он с нажимом. – Никаких Настасий больше не будет.
– Утешаешь? Обманываешь?
– Я сказал – не будет! Это решено.
– Уж хотелось бы верить. А не то слух пошёл – ты Настасьича пожелал узаконить… – Мягко так ввернула. Да испуганно осеклась, не договорив: обернувшись, князь прожёг её недовольным взглядом. Прорычал, как тигр:
– Пожелал, и что? Станешь возражать? Женщина промямлила:
– Так ведь больно нехорошо, право слово. Для чего тебе? Мало ли единственного наследника?
– Пьяницу, гуляку? Шалопая и олуха? Не прочетшего и десятка книг? Знающего только псарню с крольчатником?
Ольга защитила Владимира:
– Он ещё исправится и возьмётся за ум.
– Вот тогда и получит княжество. А пока что замена не помешает.
Тут в княгине тоже взыграла гордость. Встала и сказала упрямо, словно и не плакала, не скулила униженно:
– Этому не быть.
– То есть как – не быть? – поразился он. – Кто мне помешает? Уж не ты ли?
– Я. – И уставилась на него – жёстко, хищно.
– Да каким же образом?
– Хоть каким. Упрошу владыку Кирилла не потворствовать сему. Челобитную отпишу в Киев к митрополиту. А понадобится – к самому патриарху в Царь-град! Я костьми лягу, но Настасьича в княжичи не пущу!
Осмомысл скрестил руки на груди. Отозвался холодно:
– Ты считаешь, что я допущу твои козни? Долгорукая усмехнулась:
– Если только бросишь меня в острог. Но не думаю, чтобы ты решился.
Князь проговорил:
– Нет, в острог не брошу. Но прогнать – и тебя, и Владимирку с его попадьёй – с Галицкой земли запросто могу.
– Не посмеешь. Побоишься позорища.
– Вот увидишь, курица. Только пальцем пошевели, только рот раскрой супротив намерений моих – полетишь как пробка из бутылки. Вместе со своим недоноском!
Тяжело дыша, Юрьевна пошла к двери. Проворчала через плечо:
– Ты ещё припомнишь это мгновение. И особенно – слово «недоносок». Ох, не в добрый час ты его сказал!
– Не стращай же ты, кикимора болотная!
– Сам лешак и упырь!
В общем, разругались. Князь в Тысменицу больше не совал носа, но указ о признании Олега собственным сыном издал, получил благословение от епископа Кирилла и отправил грамоту с нарочным в Киев к митрополиту. И как раз накатило Рождество, Святки и Крещение. Ольга и Матрёна отправились помолиться в женский Благовещенский монастырь, что вёрстах в тридцати от Галета (ныне украинский город Монастыриска), а оставшийся в одиночестве Ярослав всё не мог решить – ехать на охоту или пропустить. В принципе хотел, Всей душой стремился, но, с другой стороны, очень опасался молвы: дескать, под предлогом охоты поскакал навестить Настасью. Да и если до конца откровенно, сам боялся её увидеть – и не устоять, вновь польститься. А ещё зашёл Кснятин Серославич и подлил в огонь масла:
– Лучше отложи, батюшка, мой свет, лесованье, не серди боляр. Многие и так не довольны распоряжением твоим по Настасьичу. Говорят: виданное ли дело – узаконивать побочных детей! Сроду такого не было. И размолвка ваша с княгиней тоже всем известна. Поостерегись.
– Ишь чего! – возмутился тот. – Будут мне указывать, как себя вести! Вновь зашевелились? Я их приструню. Мой отец жаловал вельмож-то не больно, да и от меня пусть не ждут милостей. Завтра уезжаю в Тысменицу.
– Говорят, объявился Вонифатьич… – неожиданно признался печатник.
– Где? Когда? – ахнул Осмомысл.
– Вроде в Болшеве. Володимер же вроде его не принял. Может быть, и врут.
– Врут, что объявился или что не принял?
– Не имею понятия, – взор отвёл подручный. Князь прошёлся по клети, потерев пальцами виски. Начал рассуждать:
– Уж не сын ли Берладника свистнул ему? Феодор сидел у Давыдки Смоленского, ничего не предпринимая. А теперь – пожалуйста, запах жареного учуял. Мерзость. Тать. Баламутить боляр не дам! – Замер посреди горницы. – А княгиня? Точно ли поехала на восток? Или же на север, тоже в Болшев?
– Исключать нельзя.
– Вот что, милый Кснятинушка: разошли дозорных. Пусть разведают всё до мелочей. А потом доложишь.
– Будет сделано, батюшка, мой свет.
Посидев один, Ярослав послал за Олексой Прокудьичем, занимавшим в последние годы место дворского – управляющего княжескими делами, ведавшего казной и судебными приговорами; после Серославича – первое лицо. Тот пришёл взволнованный, и седой хохолок на его лысой голове то и дело подпрыгивал, поднимаясь вопросительным знаком.
– Слышал, Феодор объявился в Болшеве? – обратился к нему владыка.
– Как не слышать! Володимер-княжич его не принял, но потом имел тайное свидание в роще за рекой.
– Ух, паскуда!
– И княгиню-матушку примечали в городе, но встречалась ли она с Вонифатьичем – бог весть.
– Да наверняка.
– Делать-то что будем?
Осмомысл подошёл к старому приятелю, взял его за плечи:
– Ты-то сам не ропщешь, что хочу Настасьича сделать княжичем? Кснятин одобряет через силу: на словах не против, но в душе, вижу, недоволен.
У вельможи покраснели надбровные дуги, часто заморгали глаза:
– Батюшка, мой свет, я ж как верный пёс… ты же знаешь… что бы ты ни сделал, за тебя жизнь отдам. И Миколка тож. И другие детки. Мы тебе преданы всем сердцем.
– Знаю, дорогой. И благодарю. Коли Серославич слабину даст, сделаю тебя ещё и печатником.
Охнув, собеседник замотал головой:
– Лучше бы не надо. Он гордец известный. Прикипел к печати. Сросся с нею. Добровольно ея не выдаст.
– И не на таких находил управу. Есть, кому отнять.
– Смута выйдет. Ежели Кснятин столкуется с Феодорой, быть большой беде.
– Ты уверен, что они уже не сносились? Не теперь, но раньше? Кое-кто мне на ушко молвил: в том походе на Киев, вместе с княжичем, был подкуплен Давыдкой и Вонифатьичем; по подложной грамоте развернул войска. Я сего не забыл…
Лысина Олексы заблестела от пота. Он достал платок и, кряхтя, утёрся. Нерешительно произнёс:
– Но не пойман – не вор.
– Надо, чтоб они себя проявили. И тогда накрыть!
– Как? Наставь, вразуми.
– Очень просто. Вроде бы ничтоже сумняшеся я поеду в Тысменицу на охоту. Это даст им повод развернуться открыто. Ты за мной пришлёшь своего Миколку. Я вернусь внезапно и бестрепетной дланью вырву скверну с корнем.
– Ну, а как не успеешь и они верх возьмут?
– От Избыгнева Ивачича и тебя зависит. Коль не подкачаете – сдюжим.
– Страшно, княже!
– Да давно ль ты сделался трепетным таким? Помнится, что был витязем отважным.
– Я с годами остепенился.
– Так тряхни стариной. Не в бирюльки играем, чай. В нашей обчей игре ставка – Галич. Одолеют они – никому спуску не дадут, и тебе – заодно со мною.
– Знамо дело. У меня противников среди галипких боляр – пруд пруди.
– И друзей немало, в том числе и половцы – Вобугревичи, Улашевичи, Чаргова да Бостеева чадь. Новый епископ Кирилл. Нет, покуда нас больше.
– Дай-то Бог, дай-то Бог.
Покидая город, князь подумал: «Вдруг затея не выйдет и не я, а враги победят меня? Может быть, вернуться, не обострять, ведь ещё не поздно?» Но под ложечкой всё сосало: «Настя, Настя, Настя…» – и махнул рукой, положившись всецело на волю случая.
4
Осмомысл и ведать не ведал, сколь серьёзно накаляется обстановка. Кснятин, разумеется, вёл двойную игру, до поры до времени угождая «и нашим и вашим»: рассказал о возникновении Феодора, дабы, в случае чего, козырнуть своей преданностью князю, но одновременно помогал и той стороне, сообщая о продвижениях и намерениях Ярослава. Вонифатьич шастал по окрестным усадьбам, подговаривая бояр, подбивая их поддерживать Владимира-Якова и княгиню, оскорблённых отцом и мужем-распутником, нехристем, спутавшимся с ведьмой и желающим посадить на трон незаконного сына, половца, ублюдка. Многие внимали сочувственно.
В то же самое время Чаргобай объезжал северных соседей – Луцк и Владимир-Волынский. Там у Осмомысла тоже накопилось недругов достаточно. После смерти Мстислава Изяславича во Владимире правил его наследник – Святослав Мстиславич. Он поссорился с галицким владыкой из-за четырёх спорных городов, в том числе и довольно крупного Бужска. А Берладников сын обещал: если Яков заступит место отца, он вернёт Бужск с окрестностями Волыни.
В Луцке проживал дядя Святослава – Ярослав Изяславич. Сам он к тёзке из Галича относился нейтрально, но его подручный – Святополк Юрьевич – люто ненавидел и желал Осмомыслу смерти. А причиной была давняя история приключившаяся девять лет назад.
Святополк тоже был одним из потомков Ярослава Мудрого, а точнее – правнуком князя Святополка II, правившего в Киеве в 1093-1113 годах. Но затем их клан уступил место более удачливым братьям и дядьям – Мономаху и Долгорукому. Правнук Святополк, князь-изгой, переменно служил разным повелителям на Руси, и в начале 60-х появился в Галиче. Неказистый, маленький, с глубоко посаженными крохотными глазками, он производил отвратное впечатление; но за ним закрепилась слава ловкого наездника и рубаки, а такие воины на дороге не валяются. Взяв его на службу, Ярослав произвёл князя в воеводы и поставил под начало Избыгнева Ивачича. Вместе они ходили на половцев, и благодаря стремительному прорыву конницы Святополка степняки под Мунаревом бросились в рассыпную, что в итоге и решило исход кампании, полный разгром кочевников и пленение их вождей.
И в других, не таких заметных, но немаловажных походах молодой вояка проявлял доблесть и сноровку. Вскоре он женился на княжне из Луцка, и она родила ему четверых детей (мальчика и тройняшек-девочек). Фаворит Осмомысла, князь имел один из лучших домов, где любил пировать и поил гостей с тем же пылом, что и воевал, приводя их в состояние совершенного изумления, отчего они падали под стол и пускали лужи. А ещё неизменно ездил с покровителем на охоту и участвовал в травле зверя ревностнее всех.
Но потом приключилась ссора.
По весне 1164 года Днестр вышел из берегов настолько, что селения до великих Быковых болот были напрочь смыты или затоплены. Ярослав отправил дружину Святополка выручать людей. Тот сопротивлялся, ехать не хотел, говорил, не его это дело: саблей махать – пожалуйста, на врага ходить – за милую душу, но младенцев вылавливать из воды да тащить поклажи купеческих караванов – не обучен, не умеет, не снизойдёт. Галицкий правитель вспылил и едва не побил строптивца: мол, и слушать ничего не желаю, есть приказ, и его надо исполнять. Воевода обиделся (он в душе считал, что ничем не ниже по происхождению своего владыки или даже выше, ведь у Осмомысла – мать-половчанка, а в его крови иноземных примесей нет), но поехал. Разумеется, действовал без особого рвения и не спас многих тех, у кого ещё имелся шанс. Например, с опозданием выслал суда, чтобы вывезти купцов, двигавшихся с солью из Удеча, и не менее трёхсот человек утонуло. А купец Нажир Воиборич, уцелев, кое-как добрался до Галича и пожаловался князю. Тот велел Святополка высечь.
Это было страшное оскорбление. Представителей не то что княжеского, но боярского рода сечь не полагалось. Их за преступления дозволялось казнить, заточать в темницу, принуждать к уплате крупной дани, изгонять в чуждые пределы; но прилюдная порка – только для простого сословия, уж не говоря о холопах. Тем не менее экзекуция состоялась, да не где-нибудь – на торговой площади, перед храмом, при стечении люда! Святополка вывели в холщовой рубахе ниже колен, босиком, со связанными руками. Княжий кат[22]22
Кат – палач.
[Закрыть] Шваран Одноглазый дёрнул его за ворот и содрал одежду, предоставив толпе возможность увидать все достоинства князя. Кое-кто даже захихикал. А преступник стоял на ветру зажмурившись, вытянувшись в струнку, и лишь крестик поблескивал на его не слишком широкой волосатой груди. Наконец казнимого прикрутили к лавке, по рукам и ногам, вниз лицом, и Шваран принялся стегать его адской плетью, в кожу которой были вделаны металлические колючки, сразу кровенившие спину, поясницу и ягодицы. Сто ударов ею считались смертельными, семьдесят переносились с трудом, после сорока выживали все. Осмомысл назначил восемьдесят один.
Святополк не умер, но лежал пластом больше двух недель, у себя в одрине, и домашние прикладывали к его зияющим ранам тряпочки с настоем целебных трав. До сих пор ужасные шрамы и бугры покрывали спину князя-изгоя, и смотреть на них без смятения было невозможно. Мог ли он простить позор Ярославу? Разумеется, нет.
И когда Чаргобай появился в Луцке, не пришлось обиженного долго уговаривать. Сразу загоревшись идеей мести, выдвинул условие: «Только обещай – если мы захватим Слепца, то назначим ему сто ударов плетью!» (Меж собой заговорщики называли Осмомысла Слепцом, подразумевая его близорукость.) Ростислав же ответил: «Да хоть двести. Он и двадцать пять вряд ли вытерпит, неженка, червяк».
Вместе поскакали во Владимир-Волынский предлагать союз Святославу Мстиславичу. Тот сказал, что к большой войне сейчас не готов, но дружину в полторы тысячи выделить сумеет. С гридями Святополка и Ростислава это получался мощный ударный отряд. Галич не возьмёшь, а Тысменицу – можно.
Было решено, что мятежники стянут силы к Козове в первых числах марта. И сюда же убежали из Болшева Кснятин Серославич, окончательно сделавшись предателем, Ольга Юрьевна и Владимир-Яков с попадьёй и трёхлетним Гошкой. К сожалению, княжич вновь сорвался и ушёл в жестокий запой. Но откладывать из-за этого боевые действия было некогда. На военном совете все подстёгивали друг друга. Кснятин говорил:
– Как сие терпеть, Господи Иисусе! Ярослав безумен. Бросил Галич и сидит в Тысменице. Ждёт, когда привезут грамоту из Киева от митрополита, чтоб провозгласить Настасьича собственным преемником. Надобно спасать отчий край и избавить родину от владыки, у которого туман в голове.
– Колдовство, – уверяла Ольга. – Половецкая ведьма его охмурила. А иначе объяснить не могу. Сжечь ея, проклятую, на костре! А несносному бастардусу выколоть глаза!
Ростислав задавал вопрос:
– Надо ли устраивать бучу в столице или, обогнув город, двинуться к Тысменице и расправиться с князем там?
Святополк настаивал:
– Лучше разделиться: я захватываю Слепца и его наложницу, а одновременно Ольга и Феодор принуждают епископа Кирилла объявить Володимерку галицким правителем.
Вонифатьич кивал:
– Так вернее всего. Большинство боляр нас поддержат или, по крайней мере, тихо отсидятся. Пробил час! Дело всей моей жизни близко к завершению. Прах загубленного отца вопиет из могилки. Отомщу за него!
В целом постановили: выступить немедля, поутру 4 марта.