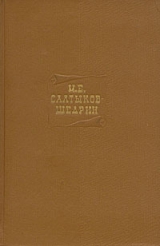
Текст книги "Том 13. Господа Головлевы. Убежище Монрепо"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 61 страниц)
– Нынче, маменька, и без мужа все равно что с мужем живут. Нынче над предписаниями-то религии смеются. Дошли до куста, под кустом обвенчались – и дело в шляпе. Это у них гражданским браком называется.
Иудушка вдруг спохватывается, что ведь и он находится в блудном сожительстве с девицей духовного звания.
– Конечно, иногда по нужде… – поправляется он, – коли ежели человек в силах и притом вдовый… по нужде и закону перемена бывает!
– Что говорить! В нужде и кулик соловьем свищет. И святые в нужде согрешали, не то что мы, грешные!
– Так вот оно и есть. На вашем месте, знаете ли, что бы я сделал?
– Посоветуй, мой друг, скажи.
– Я бы от них полную доверенность на Погорелку вытребовал.
Арина Петровна пугливо взглядывает на него.
– Да у меня и то полная доверенность на управление есть, – произносит она.
– Не на одно управление. А так, чтобы и продать, и заложить, и, словом, чтоб всем можно было по своему усмотрению распорядиться…
Арина Петровна опускает глаза в землю и молчит.
– Конечно, это такой предмет, что надо его обдумать. Подумайте-ка, маменька! – настаивает Иудушка.
Но Арина Петровна продолжает молчать. Хотя, вследствие старости, сообразительность у нее значительно притупела, но ей все-таки как-то не по себе от инсинуаций Иудушки. И боится-то она Иудушки: жаль ей тепла, и простора, и изобилия, которые царствуют в Головлеве, и в то же время сдается, что недаром он об доверенности заговорил, что это он опять новую петлю накидывает. Положение делается настолько натянутым, что она начинает уже внутренне» бранить себя, зачем ее дернуло показывать письмо. К счастью, Евпраксеюшка является на выручку.
– Что ж! будем, что ли, в карты-то играть? – спрашивает она.
– Давай! давай! – спешит ответить Арина Петровна и живо выскакивает из-за чая. Но по дороге к ломберному столу ее посещает новая мысль.
– А ты знаешь ли, какой сегодня день? – обращается она к Порфирию Владимирычу.
– Двадцать третье ноября, маменька, – с недоумением отвечает Иудушка.
– Двадцать третье-то, двадцать третье, да помнишь ли ты, что двадцать третьего-то ноября случилось? Про панихидку-то небось позабыл?
Порфирий Владимирыч бледнеет и крестится.
– Ах, господи! вот так беда! – восклицает он, – да так ли? точно ли? позвольте-ка, я в календаре посмотрю.
Через несколько минут он приносит календарь и отыскивает в нем вкладной лист, на котором написано:
«23 ноября. Память кончины милого сына Владимира.
Покойся, милый прах, до радостного утра!
и моли бога за твоего Папу, который в сей день будет неуклонно творить по тебе поминовение и с литургиею».
– Вот тебе и на! – произносит Порфирий Владимирыч, – ах, Володя, Володя! не добрый ты сын! дурной! Видно, не молишься богу за папу, что он даже память у него отнял! как же быть-то с этим, маменька?
– Не бог знает что случилось – и завтра панихидку отслужишь. И панихидку и обеденку – всё справим. Все я, старая да беспамятная, виновата. С тем и ехала, чтобы напомнить, да все дорогой и растеряла.
– Ах, грех какой! Хорошо еще, что лампадки в образной зажжены. Точно ведь свыше что меня озарило. Ни праздник у нас сегодня, ни что – просто с Введеньева дня лампадки зажжены, – только подходит ко мне давеча Евпраксеюшка, спрашивает: «Лампадки-то боковые тушить, что ли?» А я, точно вот толкнуло меня, подумал эдак с минуту и говорю: не тронь! Христос с ними, пускай погорят! Ан вот оно что!
– И то хорошо, хоть лампадочки погорели! И то для души облегчение! Ты где садишься-то? опять, что ли, под меня ходить будешь или крале своей станешь мирволить?
– Да уж я и не знаю, маменька, мне можно ли…
– Чего не можно! Садись! Бог простит! не нарочно ведь, не с намерением, а от забвения. Это и с праведниками случалось! Завтра вот чем свет встанем, обеденку отстоим, панихидочку отслужим – все как следует сделаем. И его душа будет радоваться, что родители да добрые люди об нем вспомнили, и мы будем покойны, что свой долг выполнили. Так-то, мой друг. А горевать не след – это я всегда скажу: первое, гореваньем сына не воротишь, а второе – грех перед богом!
Иудушка урезонивается этими словами и целует у маменьки руку, говоря:
– Ах, маменька, маменька! золотая у вас душа – право! Кабы не вы – ну что бы я в эту минуту делал! Ну, просто пропал бы! как есть, растерялся бы, пропал!
Порфирий Владимирыч делает распоряжение насчет завтрашней церемонии, и все садятся за карты. Сдают раз, сдают другой, Арина Петровна горячится и негодует на Иудушку за то, что он ходит под Евпраксеюшку все с одной. В промежутках сдач Иудушка предается воспоминаниям о погибшем сыне.
– А какой ласковый был! – говорит он, – ничего, бывало, без позволения не возьмет. Бумажки нужно – можно, папа, бумажки взять? – Возьми, мой друг! Или: не будете ли, папа, такой добренький, сегодня карасиков в сметане к завтраку заказать? – Изволь, мой друг! Ах, Володя! Володя! Всем ты был пайка, только тем не пайка, что папку оставил!
Проходит еще несколько туров; опять воспоминания.
– И что такое с ним вдруг случилось – и сам не понимаю! Жил хорошохонько да смирнехонько, жил да поживал, меня радовал – чего бы, кажется, лучше! вдруг – бац! Ведь грех-то, представьте, какой! подумайте только об этом, маменька, на что человек посягнул! на жизнь свою, на дар отца небесного! Из-за чего? зачем? чего ему недоставало? Денег, что ли? Жалованья я, кажется, никогда не задерживаю; даже враги мои, и те про меня этого не скажут. Ну а ежели маловато показалось – так не прогневайся, друг! У папы денежки тоже вот где сидят! Коли мало денег – умей себя сдерживать. Не все сладенького, не все с сахарцом, часко́м и с кваском покушай! Так-то, брат! Вот папа твой, и надеялся он давеча денежек получить, ан приказчик пришел: терпенковские крестьяне оброка не платят. – Ну, нечего делать, написал к мировому прошение! Ах, Володя, Володя! Нет, не пайка ты, бросил папку! Сиротой оставил!
И чем живее идет игра, тем обильнее и чувствительнее делаются воспоминания.
– И какой умный был! Помню я такой случай. Лежит он в кори – лет не больше семи ему было, – только подходит к нему покойница Саша, а он ей и говорит: мама! мама! ведь правда, что крылышки только у ангелов бывают? Ну, та и говорит: да, только у ангелов. Отчего же, говорит, у папы, как он сюда сейчас входил, крылышки были?
Наконец разыгрывается какая-то гомерическая игра. Иудушка остается дураком с целыми восемью картами на руках, в числе которых козырные туз, король и дама. Поднимается хохот, подтрунивание, и всему этому благосклонно вторит сам Иудушка. Но среди общего разгара веселости Арина Петровна вдруг стихает и прислушивается.
– Стойте! не шумите! кто-то едет! – говорит она.
Иудушка с Евпраксеюшкой тоже прислушиваются, но без результата.
– Говорю вам: едут! Вона… чу! ветром сюда вдруг подуло… Чу! едет! и даже близко!
Вновь начинают вслушиваться и, действительно, слышат какое-то далекое позвякивание, то доносимое, то относимое ветром. Проходит минут пять, и колокольчик слышится уже явственно, а вслед за ним и голоса на дворе.
– Молодой барин Петр Порфирьич приехали! – доносится из передней.
Иудушка встал и застыл на месте, бледный как полотно.
Петенька вошел как-то вяло, поцеловал у отца руку, потом соблюл тот же церемониал относительно бабушки, поклонился Евпраксеюшке и сел. Это был малый лет двадцати пяти, довольно красивой наружности, в дорожной офицерской форме. Вот все, что можно сказать про него, да и сам Иудушка едва ли знал что-нибудь больше. Взаимные отношения отца и сына были таковы, что их нельзя было даже назвать натянутыми: совсем как бы ничего не существовало. Иудушка знал, что есть человек, значащийся по документам его сыном, которому он обязан в известные сроки посылать условленное, то есть им же самим определенное жалованье, и от которого, взамен того, он имеет право требовать почтения и повиновения. Петенька, с своей стороны, знал, что есть у него отец, который может его во всякое время притеснить. Он довольно охотно ездил в Головлево, особливо с тех пор, как вышел в офицеры, но не потому, чтобы находил удовольствие беседовать с отцом, а просто потому, что всякого человека, не отдавшего себе никакого отчета в жизненных целях, как-то инстинктивно тянет в свое место. Но теперь он, очевидно, приехал по нужде, по принуждению, вследствие чего он не выразил даже ни одного из тех знаков радостного недоумения, которыми обыкновенно ознаменовывает всякий блудный дворянский сын свой приезд в родное место.
Петенька был неразговорчив. На все восклицания отца: вот так сюрприз! ну, брат, одолжил! а я-то сижу да думаю: кого это, прости господи, по ночам носит? – ан вот он кто! и т. д. – он отвечал или молчанием, или принужденною улыбкою. А на вопрос: и как это тебе вдруг вздумалось? – отвечал даже сердечно: так вот, вздумалось и приехал.
– Ну, спасибо тебе! спасибо! вспомнил про отца! обрадовал! Чай, и про бабушку-старушку вспомнил?
– И про бабушку вспомнил.
– Стой! да тебе, может быть, вспомнилось, что сегодня годовщина по брате Володеньке?
– Да, и про это вспомнилось.
В таком тоне разговор длился с полчаса, так что нельзя было понять, взаправду ли отвечает Петенька или только отделывается. Поэтому как ни вынослив был Иудушка относительно равнодушия своих детей, однако и он не выдержал и заметил:
– Да, брат, неласков ты! нельзя сказать, чтоб ты ласковый сын был!
Смолчи на этот раз Петенька, прими папенькино замечание с кротостью, а еще лучше, поцелуи у папеньки ручку и скажи ему: извините меня, добренький, папенька! я ведь с дороги, устал! – и все бы обошлось благополучно. Но Петенька поступил совсем как неблагодарный.
– Каков есть! – ответил он так грубо, словно хотел сказать: да отвяжись ты от меня, сделай милость!
Тогда Порфирию Владимирычу сделалось так больно, так больно, что и он уж не нашел возможным молчать.
– Кажется, как я об вас заботился! – сказал он с горечью, – даже и здесь сидишь, а все думаешь: как бы получше да поскладнее, да чтобы всем было хорошохонько да уютненько, без нужды да без горюшка… А вы всё от меня прочь да прочь!
– Кто же… вы?
– Ну, ты… да, впрочем, и покойник, царство ему небесное, был такой же…
– Что ж! я вам очень благодарен!
– Никакой я от вас благодарности не вижу! Ни благодарности, ни ласки – ничего!
– Характер неласковый – вот и все. Да вы что всё во множественном говорите? один уж умер…
– Да, умер, бог наказал. Бог непокорных детей наказывает, И все-таки я его помню. Он непокорен был, а я его помню. Вот завтра обеденку отстоим и панихидку отслужим. Он меня обидел, а я все-таки свой долг помню. Господи ты боже мой! да что ж это нынче делается! Сын к отцу приехал и с первого же слова уже фыркает! Так ли мы в наше время поступали! Бывало, едешь в Головлево-то, да за тридцать верст все твердишь: помяни, господи, царя Давида и всю кротость его! * Да вот маменька живой человек – она скажет! А нынче… не понимаю! не понимаю!
– И я не понимаю. Приехал я смирно, поздоровался с вами, ручку поцеловал, теперь сижу, вас не трогаю, пью чай, а коли дадите ужинать – и поужинаю. С чего вы всю эту историю подняли?
Арина Петровна сидит в своем кресле и вслушивается. И сдается ей, что она все ту же знакомую повесть слышит, которая давно, и не запомнит она когда, началась. Закрылась было совсем эта повесть, да вот и опять, нет-нет, возьмет да и раскроется на той же странице. Тем не менее она понимает, что подобная встреча между отцом и сыном не обещает ничего хорошего, и потому считает долгом вмешаться в распрю и сказать примирительное слово.
– Ну-ну, петухи индейские! – говорит она, стараясь придать своему поучению шутливый тон, – только что свиделись, а уж и разодрались! Так и наскакивают друг на дружку, так и наскакивают! Смотри, сейчас перья полетят! Ах-ах-ах! горе какое! А вы, молодцы, смирненько посидите да ладком между собою поговорите, а я, старуха, послушаю да полюбуюсь на вас! Ты, Петенька, – уступи! Отцу, мой друг, всегда нужно уступить, потому что он – отец! Ежели иной раз и горько́нько что от отца покажется, а ты прими с готовностью, да с покорностью, да с почтением, потому что ты – сын! Может, из горького-то да вдруг сладкое сделается – вот ты и в выигрыше! А ты, Порфирий Владимирыч – снизойди! Он – сын, человек молодой, неженный. Он семьдесят пять верст по ухабам да по сугробам проехал: и устал, и иззяб, и уснуть ему хочется! Вот чай-то уж кончили, вели-ка подавать ужинать, да и на покой! Так-то, други мои! Разбредемся все по своим местам, помолимся, ан сердце-то у нас и пройдет. И все какие у нас дурные мысли были – все сном бог прогонит! А завтра ранехонько встанем да об покойнике помолимся. Обеденку отстоим, панихидку отслушаем, а потом, как воротимся домой, и побеседуем. И всякий, отдохнувши, свое дело по порядку, как следует, расскажет. Ты, Петенька, про Петербург, а ты, Порфирий, про деревенское свое житье. А теперь поужинаем – и с богом, на боковую!
Это увещание оказывает свое действие не потому, чтобы оно заключало что-нибудь действительно убедительное, а потому, что Иудушка и сам видит, что он зарапортовался, что лучше как-нибудь миром покончить день. Поэтому он встает с своего места, целует у маменьки ручку, благодарит «за науку» и приказывает подавать ужинать. Ужин проходит сурово и молчаливо.
Столовая опустела, все разошлись по своим комнатам. Дом мало-помалу стихает, и мертвая тишина ползет из комнаты в комнату и наконец доползает до последнего убежища, в котором дольше прочих закоулков упорствовала обрядовая жизнь, то есть до кабинета головлевского барина. Иудушка наконец покончил с поклонами, которые он долго-долго отсчитывал перед образами, и тоже улегся в постель.
Лежит Порфирий Владимирыч в постели, но не может сомкнуть глаз. Чует он, что приезд сына предвещает что-то не совсем обыкновенное, и уже заранее в голове его зарождаются всевозможные пустословные поучения. Поучения эти имеют то достоинство, что они ко всякому случаю пригодны и даже не представляют собой последовательного сцепления мыслей. Ни грамматической, ни синтаксической формы для них тоже не требуется: они накапливаются в голове в виде отрывочных афоризмов и появляются на свет божий по мере того, как наползают на язык. Тем не менее, как только случится в жизни какой-нибудь казус, выходящий из ряда обыкновенных, так в голове поднимается такая суматоха от наплыва афоризмов, что даже сон не может умиротворить ее.
Не спится Иудушке: целые массы пустяков обступили его изголовье и давят его. Собственно говоря, загадочный приезд Петеньки не особенно волнует его, ибо, что бы ни случилось, Иудушка уже ко всемуготов заранее. Он знает, что ничтоне застанет его врасплох и ничтоне заставит сделать какое-нибудь отступление от той сети пустых и насквозь прогнивших афоризмов, в которую он закутался с головы до ног. Для него не существует ни горя, ни радости, ни ненависти, ни любви. Весь мир, в его глазах, есть гроб, могущий служить лишь поводом для бесконечного пустословия. Уж на что было больше горя, когда Володя покончил с собой, а он и тут устоял. Это была очень грустная история, продолжавшаяся целых два года. Целых два года Володя перемогался; сначала выказывал гордость и решимость не нуждаться в помощи отца; потом ослаб, стал молить, доказывать, грозить… И всегда встречал в ответ готовый афоризм, который представлял собой камень, поданный голодному человеку. Сознавал ли Иудушка, что это камень, а не хлеб, или не сознавал – это вопрос спорный; но, во всяком случае, у него ничего другого не было, и он подавал свой камень, как единственное, что он мог дать. Когда Володя застрелился, он отслужил по нем панихиду, записал в календаре день его смерти и обещал и на будущее время каждогодно 23-го ноября служить панихиду «и с литургиею». Но когда, по временам, даже и в нем поднимался какой-то тусклый голос, который бормотал, что все-таки разрешение семейного спора самоубийством – вещь по малой мере подозрительная, тогда он выводил на сцену целую свиту готовых афоризмов, вроде «бог непокорных детей наказывает», «гордым бог противится» и проч. – и успокоивался.
Вот и теперь. Нет сомнения, что с Петенькой случилось что-то недоброе, но, что́ бы ни случилось, он, Порфирий Головлев, должен быть выше этих случайностей. Сам запутался – сам и распутывайся; умел кашу заварить – умей ее и расхлебывать; любишь кататься – люби и саночки возить. Именно так; именно это самое он и скажет завтра, об чем бы ни сообщил ему сын. А что, ежели и Петенька, подобно Володе, откажется принять камень вместо хлеба? Что, ежели и он… Иудушка отплевывается от этой мысли и приписывает ее наваждению лукавого. Он переворачивается с боку на бок, усиливается уснуть и не может. Только что начнет заводить его сон – вдруг: и рад бы до неба достать, да руки коротки! или: по одежке протягивай ножки… вот я… вот ты… прытки вы очень, а знаешь пословицу: поспешность потребна только блох ловить? Обступили кругом пустяки, ползут, лезут, давят. И не спит Иудушка под бременем пустословия, которым он надеется завтра утолить себе душу.
Не спится и Петеньке, хотя дорога порядком-таки изломала его. Есть у него дело, которое может разрешиться только здесь, в Головлеве, но такое это дело, что и невесть как за него взяться. По правде говоря, Петенька отлично понимает, что дело его безнадежное, что поездка в Головлево принесет только лишние неприятности, но в том-то и штука, что есть в человеке какой-то темный инстинкт самосохранения, который пересиливает всякую сознательность и который так и подталкивает: испробуй все до последнего! Вот он и приехал, да, вместо того чтоб закалить себя и быть готовым перенести все, чуть было с первого шагу не разругался с отцом. Что-то будет из этой поездки? совершится ли чудо, которое должно превратить камень в хлеб, или не совершится?
Не прямее ли было бы взять револьвер и приставить его к виску: господа! я недостоин носить ваш мундир! я растратил казенные деньги! и потому сам себе произношу справедливый и строгий суд! Бац – и все кончено! Исключается из списков умершийпоручик Головлев! Да, это было бы решительно и… красиво. Товарищи сказали бы: ты был несчастен, ты увлекался, но… ты был благородныйчеловек! Но он, вместо того чтобы сразу поступить таким образом,довел дело до того, что поступок его стал всем известен, – и вот его отпустили на определенный срок с тем, чтобы в течение его растрата была непременно пополнена. А потом – вон из полка. И для достижения этой-то цели, в конце которой стоял позорный исход только что начатой карьеры, он поехал в Головлево, поехал с полной уверенностью получить камень вместо хлеба!
А может быть, что-нибудь и будет?! Ведь случается же… Вдруг нынешнее Головлево исчезнет, и на месте его очутится новое Головлево, с новою обстановкой, в которой он… Не то чтобы отец… умрет – зачем? – а так… вообще, будет новая «обстановка»… А может быть, и бабушка – ведь у ней деньги есть! Узнает, что беда впереди, – и вдруг даст! На, скажет, поезжай скорее, покуда срок не прошел! И вот он едет, торопит ямщиков, насилу поспевает на станцию – и является в полк как раз за два часа до срока! Молодец Головлев! – говорят товарищи – руку, благородный молодой человек! и пусть отныне все будет забыто! И он не только остается в полку по-прежнему, но производится сначала в штабс-капитаны, потом в капитаны, делается полковым адъютантом (казначеем он уж был), и, наконец, в день полкового юбилея…
Ах! поскорее бы эта ночь прошла! Завтра… ну, завтра пусть будет, что будет! Но что он должен будет завтра выслушать… ах, чего только он не выслушает! Завтра… но для чего же завтра? ведь есть и еще целый день впереди… Ведь он выговорил себе два дня собственно для того, чтобы иметь время убедить, растрогать… Черта с два! убедишь тут, растрогаешь! Нет уж…
Тут мысли его окончательно путаются и постепенно, одна за другой, утопают в сонной мгле. Через четверть часа головлевская усадьба всецело погружается в тяжкий сон.
На другой день, рано утром, весь дом уже на ногах. Все поехали в церковь, кроме, впрочем, Петеньки, который остался дома под предлогом, что устал с дороги. Наконец отслушали обедню и панихиду и воротились домой. Петенька, по обыкновению, подошел к руке отца, но Иудушка подал руку боком, и все заметили, что он даже не перекрестил сына. Напились чаю, поели поминальной кутьи; Иудушка ходил мрачный, шаркал ногами, избегал разговоров, вздыхал, беспрестанно складывал руки, в знак умной молитвы, и совсем не глядел на сына. С своей стороны, и Петенька ежился и молча курил папироску за папироской. Вчерашнее натянутое положение не только не улучшилось за ночь, но приняло такие резкие тоны, что Арина Петровна серьезно обеспокоилась и решилась разведать у Евпраксеюшки, не случилось ли чего-нибудь.
– Что такое сделалось? – спросила она, – что они с утра словно вороги друг на друга смотрят?
– А я почем знаю? разве я в ихние дела вхожу! – отгрызнулась Евпраксея.
– Уж не ты ли? Может, и внучек к тебе пристает?
– Чего ко мне приставать! Просто давеча подкараулил меня в коридоре, а Порфирий Владимирыч и увидели!
– Н-да, так вот оно что!
И действительно, несмотря на крайность своего положения, Петенька отнюдь не оставил присущего ему легкомыслия. И он тоже загляделся на могучую спину Евпраксеюшки и решился ей высказать это. С этою собственно целью он и в церковь не поехал, надеясь, что и Евпраксея, в качестве экономки, останется дома. И вот, когда в доме все стихло, он накинул на плечи шинель и притаился в коридоре. Прошла минута, другая, хлопнула дверь, ведущая из сеней в девичью, и в конце коридора показалась Евпраксея, держа в руках поднос, на котором лежал теплый сдобный крендель к чаю. Но не успел еще Петенька вытянуть ее хорошенько между лопатками, не успел произнести: вот это так спина! – как дверь из столовой отворилась, и в ней показался отец.
– Ежели ты сюда пакостничать, мерзавец, приехал, так я тебя с лестницы велю сбросить! – произнес Иудушка каким-то бесконечно злым голосом.
Разумеется, Петенька в один момент стушевался.
Он не мог, однако ж, не понять, что утреннее происшествие было не из таких, чтобы благоприятно подействовать на его фонды. Поэтому он решился молчать и отложить объяснение до завтра. Но в то ж время он не только ничего не делал, чтоб унять раздражение отца, но, напротив того, вел себя самым неосмотрительным и дурацким образом. Не переставая курил папироски, не обращая никакого внимания на то, что отец усиленно отмахивался от облаков дыма, которыми он наполнил комнату. Затем поминутно кидал умильно-дурацкие взоры на Евпраксеюшку, которая под влиянием их как-то вкось улыбалась, что тоже замечал Иудушка.
День потянулся вяло. Попробовала было Арина Петровна в дураки с Евпраксеюшкой сыграть, но ничего из этого не вышло. Не игралось, не говорилось, даже пустяки как-то не шли на ум, хотя у всех были в запасе целые непочатые углы этого добра. Насилу пришел обед, но и за обедом все молчали. После обеда Арина Петровна собралась было в Погорелку, но Иудушку даже испугало это намерение доброго друга маменьки.
– Христос с вами, голубушка! – воскликнул он, – что ж, одного, что ли, вы меня оставить хотите, с глазу на глаз с этим… дурным сыном? Нет, нет! и не думайте! не пущу!
– Да что такое? случилось, что ли, что-нибудь промежду вас! сказывай! – спросила она его.
– Нет, покамест еще ничего не случилось, но вы увидите… Нет, вы уж не оставьте меня! пусть уж при вас… Это недаром! недаром он прикатил… Так если что случится – уж вы будьте свидетельницей!
Арина Петровна покачала головой и решилась остаться.
После обеда Порфирий Владимирыч удалился спать, услав предварительно Евпраксеюшку на село к попу; Арина Петровна, отложив отъезд в Погорелку, тоже ушла в свою комнату и, усевшись в кресло, дремала. Петенька счел это время самым благоприятным, чтоб попытать счастья у бабушки, и отправился к ней.
– Что ты? в дурачки, что ли, с старухой поиграть пришел? – встретила его Арина Петровна.
– Нет, бабушка, я к вам за делом.
– Ну, рассказывай, говори.
Петенька с минуту помялся на месте и вдруг брякнул:
– Я, бабушка, казенные деньги проиграл.
У Арины Петровны даже в глазах потемнело от неожиданности.
– И много? – спросила она перепуганным голосом, глядя на него остановившимися глазами.
– Три тысячи.
Последовала минута молчания; Арина Петровна беспокойно смотрела из стороны в сторону, точно ждала, не явится ли откуда к ней помощь.
– А ты знаешь ли, что за это и в Сибирь недолго попасть? – наконец произнесла она.
– Знаю.
– Ах, бедный ты, бедный!
– Я, бабушка, у вас хотел взаймы попросить… я хороший процент заплачу.
Арина Петровна совсем испугалась.
– Что ты, что ты! – заметалась она, – да у меня и денег только на гроб да на поминовенье осталось! И сыта я только по милости внучек, да вот чем у сына полакомлюсь! Нет, нет, нет! Ты уж меня оставь! Сделай милость, оставь! Знаешь что, ты бы у папеньки попросил!
– Нет, уж что! от железного попа да каменной просвиры ждать! Я, бабушка, на вас надеялся!
– Что ты! что ты! да я бы с радостью, только какие же у меня деньги! и денег у меня таких нет! А ты бы к папеньке обратился, да с лаской, да с почтением! вот, мол, папенька, так и так: виноват, мол, по молодости, проштрафился… Со смешком да с улыбочкой, да ручку поцелуй, да на коленки встань, да поплачь – он это любит, – ну и развяжет папенька мошну для милого сынка.
– А что вы думаете! сделать разве? Стойте-ка! стойте! а что, бабушка, если б вы ему сказали: коли не дашь денег – прокляну! Ведь он этого давно боится, проклятья-то вашего.
– Ну, ну, зачем проклинать! Попроси и так. Попроси, мой друг! Ведь ежели отцу и лишний разок поклонишься, так ведь голова не отвалится: отец он! Ну, и он с своей стороны увидит… сделай-ка это! право!
Петенька ходит подбоченившись взад и вперед, словно обдумывает; наконец останавливается и говорит:
– Нет уж. Все равно – не даст. Что бы я ни делал, хоть бы лоб себе разбил кланявшись – все одно не даст. Вот кабы вы проклятием пригрозили… Так как же мне быть-то, бабушка?
– Не знаю, право. Попробуй – может, и смягчишь. Как же ты это, однако ж, такую себе волю дал: легко ли дело, казенные деньги проиграл? научил тебя, что ли, кто-нибудь?
– Так вот, взял да и проиграл. Ну, коли у вас своих денег нет, так из сиротских дайте!
– Что ты? опомнись! как я могу сиротские деньги давать? Нет, уж сделай милость, уволь ты меня! не говори ты со мной об этом, ради Христа!
– Так не хотите? Жаль. А я бы хороший процент дал. Пять процентов в месяц хотите? нет? ну, через год капитал на капитал?
– И не соблазняй ты меня! – замахала на него руками Арина Петровна, – уйди ты от меня, ради Христа! еще папенька неравно́ услышит, скажет, что я же тебя возмутила! Ах ты, господи! Я, старуха, отдохнуть хотела, даже задремала совсем, а он вон с каким делом пришел!
– Ну, хорошо. Я уйду. Стало быть, нельзя? Прекрасно-с. По-родственному. Из-за трех тысяч рублей внук в Сибирь должен пойти! Напутственный-то молебен отслужить не забудьте!
Петенька хлопнул дверью и ушел. Одна из его легкомысленных надежд лопнула – что теперь предпринять? Остается одно: во всем открыться отцу. А может быть… Может быть, что-нибудь…
«Пойду сейчас и покончу разом! – говорил он себе, – или нет! Нет, зачем же сегодня… Может быть, что-нибудь… да, впрочем, что же такое может быть? Нет, лучше завтра… Все-таки, хоть нынче день… Да, лучше завтра. Скажу – и уеду».
На том и покончил, что завтра – всему конец…
После объяснения с бабушкой вечер потянулся еше вялее. Даже Арина Петровна притихла, узнавши действительную причину приезда Петеньки. Иудушка пробовал было заигрывать с маменькой, но, видя, что она об чем-то задумывается, замолчал. Петенька тоже ничего не делал, только курил. За ужином Порфирий Владимирыч обратился к нему с вопросом:
– Да скажешь ли ты наконец, зачем ты сюда пожаловал?
– Завтра скажу, – угрюмо ответил Петенька.
Петенька встал рано после почти совсем бессонной ночи. Все та же раздвоенная мысль преследовала его – мысль, начинавшаяся надеждой: может быть, и даст! и неизменно кончавшаяся вопросом: и зачем я сюда приехал? Может быть, он не понимал своего отца, но, во всяком случае, он не знал за ним ни одного чувства, ни одной слабой струны, за которую предстояла бы возможность ухватиться и эксплуатируя которую можно было бы чего-нибудь достигнуть. Он чувствовал только одно: что в присутствии отца он находится лицом к лицу с чем-то неизъяснимым, неуловимым. Незнание, с какого конца подойти, с чего начать речь, порождало ежели не страх, то, во всяком случае, беспокойство. И так шло с самого детства. Всегда, с тех пор как он начал себя помнить, дело было поставлено так, что лучше казалось совсем отказаться от какого-нибудь предположения, нежели поставить его в зависимость от решения отца. Так было и теперь. С чего он начнет? как начнет? что скажет?.. Ах, зачем только он приехал?
Им овладела тоска. Тем не менее он понял, что впереди оставалось только несколько часов и что, следовательно, надо же что-нибудь делать. Набравшись напускной решимости, застегнувши сюртук и пошептавши что-то на ходу, он довольно твердым шагом направился к отцовскому кабинету.
Иудушка стоял на молитве. Он был набожен и каждый день охотно посвящал молитве несколько часов. Но он молился не потому, что любил бога и надеялся посредством молитвы войти в общение с ним, а потому, что боялся черта и надеялся, что бог избавит его от лукавого. Он знал множество молитв, и в особенности отлично изучил технику молитвенного стояния. То есть знал, когда нужно шевелить губами и закатывать глаза, когда следует складывать руки ладонями внутрь и когда держать их воздетыми, когда надлежит умиляться и когда стоять чинно, творя умеренные крестные знамения. И глаза и нос его краснели и увлажнялись в определенные минуты, на которые указывала ему молитвенная практика. Но молитва не обновляла его, не просветляла его чувства, не вносила никакого луча в его тусклое существование. Он мог молиться и проделывать все нужные телодвижения – и в то же время смотреть в окно и замечать, не идет ли кто без спросу в погреб и т. д. Это была совершенно особенная, частная формула жизни, которая могла существовать и удовлетворять себя совсем независимо от общей жизненной формулы.
Когда Петенька вошел в кабинет, Порфирий Владимирыч стоял на коленях с воздетыми руками. Он не переменил своего положения, а только подрыгал одной рукой в воздухе, в знак того, что еще не время. Петенька расположился в столовой, где уже был накрыт чайный прибор, и стал ждать. Эти полчаса показались ему вечностью, тем более что он был уверен, что отец заставляет его ждать нарочно. Напускная твердость, которою он вооружился, мало-помалу стала уступать место чувству досады. Сначала он сидел смирно, потом принялся ходить взад и вперед по комнате, и, наконец, стал что-то насвистывать, вследствие чего дверь кабинета приотворилась, и оттуда послышался раздраженный голос Иудушки:








