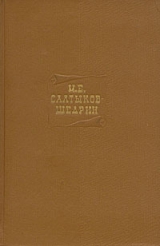
Текст книги "Том 13. Господа Головлевы. Убежище Монрепо"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 61 страниц)
Одним словом, Степан Владимирыч проводил братьев дружелюбно и не без самодовольства показал Якову-земскому две двадцатипятирублевые бумажки, очутившиеся в его руке после прощания.
– Теперь, брат, мне надолго станет! – сказал он, – табак у нас есть, чаем и сахаром мы обеспечены, только вина недоставало – захотим, и вино будет! Впрочем, покуда еще придержусь – времени теперь нет, на погреб бежать надо! Не присмотри крошечку – мигом растащат! А видела, брат, она меня, видела, ведьма, как я однажды около застольной по стенке пробирался! Стоит это у окна, смотрит, чай, на меня да думает: то-то я огурцов не досчитываюсь, – ан вот оно что!
Но вот наконец и октябрь на дворе: полились дожди, улица почернела и сделалась непроходимою. Степану Владимирычу некуда было выйти, потому что на ногах у него были заношенные папенькины туфли, на плечах старый папенькин халат. Безвыходно сидел он у окна в своей комнате и сквозь двойные рамы смотрел на крестьянский поселок, утонувший в грязи. Там, среди серых испарений осени, словно черные точки, проворно мелькали люди, которых не успела сломить летняя страда. Страда не прекращалась, а только получила новую обстановку, в которой летние ликующие тоны заменились непрерывающимися осенними сумерками. Овины курились за полночь, стук цепов унылою дробью разносился по всей окрестности. В барских ригах тоже шла молотьба, и в конторе поговаривали, что вряд ли ближе масленицы управиться со всей массой господского хлеба. Все глядело сумрачно, сонно, все говорило об угнетении. Двери конторы уже не были отперты настежь, как летом, и в самом ее помещении плавал сизый туман от испарений мокрых полушубков.
Трудно сказать, какое впечатление производила на Степана Владимирыча картина трудовой деревенской осени, и даже сознавал ли он в ней страду, продолжающуюся среди месива грязи, под непрерывным ливнем дождя; но достоверно, что серое, вечно слезящееся небо осени давило его. Казалось, что оно висит непосредственно над его головой и грозит утопить его в разверзнувшихся хлябях земли. У него не было другого дела, как смотреть в окно и следить за грузными массами облаков. С утра, чуть брезжил свет, уж весь горизонт был сплошь обложен ими; облака стояли словно застывшие, очарованные; проходил час, другой, третий, а они всё стояли на одном месте, и даже незаметно было ни малейшей перемены ни в колере, ни в очертаниях их. Вон это облако, что пониже и почернее других: и давеча оно имело разорванную форму (точно поп в рясе с распростертыми врозь руками), отчетливо выступавшую на белесоватом фоне верхних облаков, – и теперь, в полдень, сохранило ту же форму. Правая рука, правда, покороче сделалась, зато левая безобразно вытянулась, и льет из нее, льет так, что даже на темном фоне неба обозначилась еще более темная, почти черная полоса. Вон и еще облако подальше: и давеча оно громадным косматым комом висело над соседней деревней Нагловкой и, казалось, угрожало задушить ее – и теперь тем же косматым комом на том же месте висит, а лапы книзу протянуло, словно вот-вот спрыгнуть хочет. Облака, облака и облака – так весь день. Часов около пяти после обеда совершается метаморфоза: окрестность постепенно заволакивается, заволакивается и, наконец, совсем пропадает. Сначала облака исчезнут и все затянутся безразличной черной пеленою; потом куда-то пропадет лес и Нагловка; за нею утонет церковь, часовня, ближний крестьянский поселок, фруктовый сад, и только глаз, пристально следящий за процессом этих таинственных исчезновений, еще может различать стоящую в нескольких саженях барскую усадьбу. В комнате уж совсем темно; в конторе еще сумерничают, не зажигают огня; остается только ходить, ходить, ходить без конца. Болезненная истома сковывает ум; во всем организме, несмотря на бездеятельность, чувствуется беспричинное, невыразимое утомление; одна только мысль мечется, сосет и давит – и эта мысль: гроб! гроб! гроб! Вон эти точки, что давеча мелькали на темном фоне грязи, около деревенских гумен, – их эта мысль не гнетет, и они не погибнут под бременем уныния и истомы: они ежели и не борются прямо с небом, то, по крайней мере, барахтаются, что-то устраивают, ограждают, ухичивают * . Стоит ли ограждать и ухичивать то, над устройством чего они день и ночь выбиваются из сил, – это не приходило ему на ум, но он сознавал, что даже и эти безымянные точки стоят неизмеримо выше его, что он и барахтаться не может, что ему нечего ни ограждать, ни ухичивать. *
Вечера он проводил в конторе, потому что Арина Петровна, по-прежнему, не отпускала для него свечей. Несколько раз просил он через бурмистра, чтоб прислали ему сапоги и полушубок, но получил ответ, что сапогов для него не припасено, а вот наступят заморозки, то будут ему выданы валенки. Очевидно, Арина Петровна намеревалась буквально выполнить свою программу: содержать постылого в такой мере, чтоб он только не умер с голоду. Сначала он ругал мать, но потом словно забыл об ней; сначала он что-то припоминал, потом перестал и припоминать. Даже свет свечей, зажженных в конторе, и тот опостылел ему, и он затворялся в своей комнате, чтоб остаться один на один с темнотою. Впереди у него был только один ресурс, которого он покуда еще боялся, но который с неудержимою силой тянул его к себе. Этот ресурс – напиться и позабыть. Позабыть глубоко, безвозвратно, окунуться в волну забвения до того, чтоб и выкарабкаться из нее было нельзя. Все увлекало его в эту сторону: и буйные привычки прошлого, и насильственная бездеятельность настоящего, и больной организм с удушливым кашлем, с несносною, ничем не вызываемою одышкой, с постоянно усиливающимися колотьями сердца. Наконец он не выдержал.
– Сегодня, брат, надо ночью штоф припасти, – сказал он однажды земскому голосом, не предвещавшим ничего доброго.
Сегодняшний штоф привел за собой целый последовательный ряд новых, и с этих пор он аккуратно каждую ночь напивался. В девять часов, когда в конторе гасили свет и люди расходились по своим логовищам, он ставил на стол припасенный штоф с водкой и ломоть черного хлеба, густо посыпанный солью. Не сразу приступал он к водке, а словно подкрадывался к ней. Кругом все засыпало мертвым сном; только мыши скреблись за отставшими от стен обоями да часы назойливо чикали в конторе. Снявши халат, в одной рубашке, сновал он взад и вперед по жарко натопленной комнате, по временам останавливался, подходил к столу, нашаривал в темноте штоф и вновь принимался за ходьбу. Первые рюмки он выпивал с прибаутками, сладострастно всасывая в себя жгучую влагу; но мало-помалу биение сердца учащалось, голова загоралась – и язык начинал бормотать что-то несвязное. Притупленное воображение силилось создать какие-то образы, помертвелая память пробовала прорваться в область прошлого, но образы выходили разорванные, бессмысленные, а прошлое не откликалось ни единым воспоминанием, ни горьким, ни светлым, словно между ним и настоящей минутой раз навсегда встала плотная стена. Перед ним было только настоящее в форме наглухо запертой тюрьмы, в которой бесследно потонула и идея пространства, и идея времени. Комната, печь, три окна в наружной стене, деревянная скрипучая кровать и на ней тонкий притоптанный тюфяк, стол с стоящим на нем штофом – ни до каких других горизонтов мысль не додумывалась. Но, по мере того, как убывало содержание штофа, по мере того, как голова распалялась, – даже и это скудное чувство настоящего становилось не под силу. Бормотанье, имевшее вначале хоть какую-нибудь форму, окончательно разлагалось; зрачки глаз, усиливаясь различить очертания тьмы, безмерно расширялись; самая тьма, наконец, исчезала, и взамен ее являлось пространство, наполненное фосфорическим блеском. Это была бесконечная пустота, мертвая, не откликающаяся ни единым жизненным звуком, зловеще-лучезарная. Она следовала за ним по пятам, за каждым оборотом его шагов. Ни стен, ни окон, ничего не существовало; одна безгранично тянущаяся, светящаяся пустота. Ему становилось страшно; ему нужно было заморить в себе чувство действительности до такой степени, чтоб, даже пустоты этой не было. Еще несколько усилий – и он был у цели. Спотыкающиеся ноги из стороны в сторону носили онемевшее тело, грудь издавала не бормотанье, а хрип, самое существование как бы прекращалось. Наступало то странное оцепенение, которое, нося на себе все признаки отсутствия сознательной жизни, вместе с тем несомненно указывало на присутствие какой-то особенной жизни, развивавшейся независимо от каких бы то ни было условий. Стоны за стонами вырывались из груди, нимало не нарушая сна; органический недуг продолжал свою разъедающую работу, не причиняя, по-видимому, физических болей.
Утром, он просыпался со светом, и вместе с ним просыпались: тоска, отвращение, ненависть. Ненависть без протеста, ничем не обусловленная, ненависть к чему-то неопределенному, не имеющему образа. Воспаленные глаза бессмысленно останавливаются то на одном, то на другом предмете и долго и пристально смотрят; руки и ноги дрожат; сердце то замрет, словно вниз покатится, то начнет колотить с такою силой, что рука невольно хватается за грудь. Ни одной мысли, ни одного желания. Перед глазами печка, и мысль до того переполняется этим представлением, что не принимает никаких других впечатлений. Потом окно заменило печку, как окно, окно, окно… Не нужно ничего, ничего, ничего не нужно. Трубка набивается и закуривается машинально и недокуренная опять выпадает из рук; язык что-то бормочет, но, очевидно, только по привычке. Самое лучшее: сидеть и молчать, молчать и смотреть в одну точку. Хорошо бы опохмелиться в такую минуту; хорошо бы настолько поднять температуру организма, чтобы хотя на короткое время ощутить присутствие жизни, но днем ни за какие деньги нельзя достать водки. Нужно дожидаться ночи, чтобы опять дорваться до тех блаженных минут, когда земля исчезает из-под ног и вместо четырех постылых стен перед глазами открывается беспредельная светящаяся пустота.
Арина Петровна не имела ни малейшего понятия о том, как «балбес» проводит время в конторе. Случайный проблеск чувства, мелькнувший было в разговоре с кровопивцем Порфишкой, погас мгновенно, так что она и не заметила. С ее стороны не было даже систематического образа действия, а было простое забвение. Она совсем потеряла из виду, что подле нее, в конторе, живет существо, связанное с ней кровными узами, существо, которое, быть может, изнывает в тоске по жизни. Как сама она, раз войдя в колею жизни, почти машинально наполняла ее одним и тем же содержанием, так, по мнению ее, должны были поступать и другие. Ей не приходило на мысль, что самый характер жизненного содержания изменяется сообразно с множеством условий, так или иначе сложившихся, и что наконец для одних (и в том числе для нее) содержание это представляет нечто излюбленное, добровольно избранное, а для других – постылое и невольное. Поэтому, хотя бурмистр неоднократно докладывал ей, что Степан Владимирыч «нехорош», но доклады эти проскальзывали мимо ушей, не оставляя в ее уме никакого впечатления. Много-много если она отвечала на них стереотипною фразой:
– Небось отдышится, еще нас с тобой переживет! Что ему, жеребцу долговязому, делается! Кашляет! иной сряду тридцать лет кашляет, и все равно что с гуся вода!
Тем не менее, когда ей однажды утром доложили, что Степан Владимирыч ночью исчез из Головлева, она вдруг пришла в себя. Немедленно разослала весь дом на поиски и лично приступила к следствию, начав с осмотра комнаты, в которой жил постылый. Первое, что поразило ее, – это стоявший на столе штоф, на дне которого еще плескалось немного жидкости и который впопыхах не догадались убрать.
– Это что? – спросила она, как бы не понимая.
– Стало быть… занимались, – отвечал, заминаясь, бурмистр.
– Кто доставал? – начала было она, но потом спохватилась и, затаив свой гнев, продолжала осмотр.
Комната была грязна, черна, заслякощена так, что даже ей, не знавшей и не признававшей никаких требований комфорта, сделалось неловко. Потолок был закопчен, обои на стенах треснули и во многих местах висели клочьями, подоконники чернели под густым слоем табачной золы, подушки валялись на полу, покрытом липкою грязью, на кровати лежала скомканная простыня, вся серая от насевших на нее нечистот. В одном окне зимняя рама была выставлена или, лучше сказать, выдрана, и самое окно оставлено приотворенным: этим путем, очевидно, и исчез постылый. Арина Петровна инстинктивно взглянула на улицу и перепугалась еще больше. На дворе стоял уж ноябрь в начале, но осень в этот год была особенно продолжительна, и морозы еще не наступали. И дорога и поля – все стояло черное, размокшее, невылазное. Как он прошел? куда? И тут же ей вспомнилось, что на нем ничего не было, кроме халата да туфлей, из которых одна была найдена под окном, и что всю прошлую ночь, как на грех, не переставаючи шел дождь.
– Давненько-таки я у вас здесь, голубчики, не бывала! – молвила она, вдыхая в себя вместо воздуха какую-то отвратительную смесь сивухи, тютюна и прокислых овчин.
Весь день, покуда люди шарили по лесу, она простояла у окна, с тупым вниманием вглядываясь в обнаженную даль. Из-за балбеса да такая кутерьма! – ей казалось, что это какой-то нелепый сон. Говорила тогда, что надо его в вологодскую деревню сослать – так нет, лебезит проклятый Иудушка: оставьте, маменька, в Головлеве! – вот и купайся теперь с ним! Жил бы он там заглазно, как хотел, – и Христос бы с ним! Свое дело сделала: один кусок промотал – другой выбросила! А другой бы промотал – ну, и не погневайся, батюшка! Бог – и тот на ненасытную утробу не напасется! И все бы у нас было смирно да мирно, а теперь – легко ли штуку какую удрал! ищи его по лесу да свищи! Хорошо еще, как живого в дом привезут – ведь с пьяных-то глаз и в петлю угодить недолго! Взял веревку, зацепил за сук, обмотал кругом шеи, да и был таков! Мать ночей недосыпала, куска недоедала, а он, на-тко, какую моду выдумал – вешаться вздумал. И добро бы худо ему было, есть-пить бы не давали, работой бы изнуряли – а то слонялся целый день взад и вперед по комнате, как оглашенный, ел да пил, ел да пил! Другой бы не знал, чем мать отблагодарить, а он вешаться вздумал – вот так одолжил сынок любезный!
Но на этот раз предположения Арины Петровны относительно насильственной смерти балбеса не оправдались. К вечеру в виду Головлева показалась кибитка, запряженная парой крестьянских лошадей, и подвезла беглеца к конторе. Он находился в полубесчувственном состоянии, весь избитый, порезанный, с посинелым и распухшим лицом. Оказалось, что за ночь он дошел до дубровинской усадьбы, отстоявшей в двадцати верстах от Головлева.
Целые сутки после того он проспал, на другие – проснулся. По обыкновению, он начал шагать назад и вперед по комнате, но к трубке не прикоснулся, словно позабыл, и на все вопросы не проронил ни одного слова. С своей стороны, Арина Петровна настолько восчувствовала, что чуть было не приказала перевести его из конторы в барский дом, но потом успокоилась и опять оставила балбеса в конторе, приказавши вымыть и почистить его комнату, переменить постельное белье, повесить на окнах шторы и проч. На другой день вечером, когда ей доложили, что Степан Владимирыч проснулся, она велела позвать его в дом к чаю и даже отыскала ласковые тоны для объяснения с ним.
– Ты куда ж это от матери уходил? – начала она, – знаешь ли, как ты мать-то обеспокоил? Хорошо еще, что папенька ни об чем не узнал, – каково бы ему было при его-то положении?
Но Степан Владимирыч, по-видимому, остался равнодушным к материнской ласке и уставился неподвижными, стеклянными глазами на сальную свечку, как бы следя за нагаром, который постепенно образовывался на фитиле.
– Ах, дурачок, дурачок! – продолжала Арина Петровна все ласковее и ласковее, – хоть бы ты подумал, какая через тебя про мать слава пойдет! Ведь завистников-то у ней – слава богу! и невесть что наплетут! Скажут, что и не кормила-то, и не одевала-то… ах, дурачок, дурачок!
То же молчание, и тот же неподвижный, бессмысленно устремленный в одну точку взор.
– И чем тебе худо у матери стало! Одет ты и сыт – слава богу! И теплехонько тебе, и хорошохонько… чего бы, кажется, искать! Скучно тебе, так не прогневайся, друг мой, – на то и деревня! Веселиев да балов у нас нет – и все сидим по углам да скучаем! Вот я и рада была бы поплясать да песни попеть – ан посмотришь на улицу, и в церковь-то божию в этакую мо́креть ехать охоты нет!
Арина Петровна остановилась в ожидании, что балбес хоть что-нибудь промычит; но балбес словно окаменел. Сердце мало-помалу закипает в ней, но она все еще сдерживается.
– А ежели ты чем недоволен был – кушанья, может быть, недостало, или из белья там, – разве не мог ты матери откровенно объяснить? Маменька, мол, душенька, прикажите печеночки или там ватрушечки изготовить – неужто мать в куске-то отказала бы тебе? Или вот хоть бы и винца – ну, захотелось тебе винца, ну, и Христос с тобой! Рюмка, две рюмки – неужто матери жалко? А то на-тко: у раба попросить не стыдно, а матери слово молвить тяжело!
Но напрасны были все льстивые слова: Степан Владимирыч не только не расчувствовался (Арина Петровна надеялась, что он ручку у ней поцелует) и не обнаружил раскаяния, но даже как будто ничего не слыхал.
С этих пор он безусловно замолчал. По целым дням ходил по комнате, наморщив угрюмо лоб, шевеля губами и не чувствуя усталости. Временами останавливался, как бы желая что-то выразить, но не находил слова. По-видимому, он не утратил способности мыслить; но впечатления так слабо задерживались в его мозгу, что он тотчас же забывал их. Поэтому неудача в отыскании нужного слова не вызывала в нем даже нетерпения. Арина Петровна с своей стороны думала, что он непременно подожжет усадьбу.
– Целый день молчит! – говорила она, – ведь думает же, балбес, об чем-нибудь, покуда молчит! вот помяните мое слово, ежели он усадьбы не спалит!
Но балбес просто совсем не думал. Казалось, он весь погрузился в безрассветную мглу, в которой нет места не только для действительности, но и для фантазии. Мозг его вырабатывал нечто, но это нечто не имело отношения ни к прошедшему, ни к настоящему, ни к будущему. Словно черное облако окутало его с головы до ног, и он всматривался в него, в него одного, следил за его воображаемыми колебаниями и по временам вздрагивал и словно оборонялся от него. В этом загадочном облаке потонул для него весь физический и умственный мир…
В декабре того же года Порфирий Владимирыч получил от Арины Петровны письмо следующего содержания:
«Вчера утром постигло нас новое, ниспосланное от господа испытание: сын мой, а твой брат, Степан, скончался. Еще с вечера накануне был здоров совершенно и даже поужинал, а наутро найден в постеле мертвым – такова сей жизни скоротечность! И что всего для материнского сердца прискорбнее: так, без напутствия, и оставил сей суетный мир, дабы устремиться в область неизвестного.
Сие да послужит нам всем уроком: кто семейными узами небрежет – всегда должен для себя такого конца ожидать. И неудачи в сей жизни, и напрасная смерть, и вечные мучения в жизни следующей – все из сего источника происходит. Ибо как бы мы ни были высокоумны и даже знатны, но ежели родителей не почитаем, то оные как раз и высокоумие, и знатность нашу в ничто обратят. Таковы правила, кои всякий живущий в сем мире человек затвердить должен, а рабы, сверх того, обязаны почитать господ.
Впрочем, несмотря на сие, все почести отшедшему в вечность были отданы сполна, яко сыну. Покров из Москвы выписали, а погребение совершал известный тебе отец архимандрит соборне * . Сорокоусты * же и поминовения и поднесь совершаются, как следует, по христианскому обычаю. Жаль сына, но роптать не смею, и вам, дети мои, не советую. Ибо кто может сие знать? – мы здесь ропщем, а его душа в горних * увеселяется!»
По-родственному *
Жаркий июльский полдень. На дубровинской барской усадьбе словно все вымерло. Не только досужие, но и рабочие люди разбрелись по углам и улеглись в тень. Собаки раскинулись под навесом громадной ивы, стоящей посреди красного двора, и слышно, как они хлопают зубами, ловя в полусне мух. Даже деревья стоят понурые и неподвижные, точно замученные. Все окна, как в барском доме, так и в людских, отворены настежь. Жар так и окачивает сверху горячей волной; земля, покрытая коротенькой, опаленной травою, пылает; нестерпимый свет, словно золотистою дымкой, задернул окрестность, так что с трудом можно различать предметы. И барский дом, когда-то выкрашенный серой краской, и теперь побелевший, и маленький палисадник перед домом, и березовая роща, отделенная от усадьбы проезжей дорогой, и пруд, и крестьянский поселок, и ржаное поле, начинающееся сейчас за околицей, – все тонет в светящейся мгле. Всякие запахи, начиная с благоуханий цветущих лип и кончая миазмами скотного двора, густою массой стоят в воздухе. Ни звука. Только с кухни доносится дробное отбивание поварских ножей, предвещающее неизменную окрошку и битки за обедом.
Внутри господского дома царствует бесшумная тревога. Старуха барыня и две молодые девушки сидят в столовой и, не притрогиваясь к вязанью, брошенному на столе, словно застыли в ожидании. В девичьей две женщины занимаются приготовлением горчичников и примочек, и мерное звяканье ложек, подобно крику сверчка, прорезывается сквозь общее оцепенение. В коридоре осторожно двигаются девчонки на босу ногу, перебегая по лестнице из антресолей в девичью и обратно. По временам сверху раздается крик: «Что ж горчичники! заснули? а?» – и вслед за тем стрелой промчится девчонка из девичьей. Наконец слышится скрип тяжелых шагов по лестнице, и в столовую входит полковой доктор. Доктор – человек высокий, широкоплечий, с крепкими, румяными щеками, которые так и прыщут здоровьем. Голос у него звонкий, походка твердая, глаза светлые и веселые, губы полные, сочные, вид открытый. Это жуир в полном смысле слова, несмотря на свои пятьдесят лет, жуир, который и прежде не отступал и долго еще не отступит ни перед какой попойкой, ни перед каким объедением. Одет по-летнему, щеголем, в пикейный сюртучок необычайной белизны, украшенный светлыми гербовыми пуговицами. Он входит, причмокивая губами и присасывая языком.
– Вот что, голубушка, принеси-ка ты нам водочки да закусить что-нибудь! – отдает он приказание, останавливаясь в дверях, ведущих в коридор.
– Ну что? как? – тревожно спрашивает старуха барыня.
– У бога милостей без конца, Арина Петровна! – отвечает доктор.
– Как же это? стало быть…
– Да так же. Денька два-три протянет, а потом – шабаш!
Доктор делает многозначительный жест рукою и вполголоса мурлыкает: « Кувырком, кувырком, ку-выр-ком по-ле-тит!» *
– Как же это так? лечили-лечили доктора – и вдруг!
– Какие доктора?
– Земский наш да вот городовой приезжал.
– Доктора!! кабы ему месяц назад заволоку * здоровенную соорудить – был бы жив!
– Неужто ж так-таки ничего и нельзя?
– Сказал: у бога милостей много, а больше ничего прибавить не могу.
– А может быть, и подействует?
– Что подействует?
– А вот, что теперь… горчичники эти…
– Может быть-с.
Женщина, в черном платье и в черном платке, приносит поднос, на котором стоят графин с водкой и две тарелки с колбасой и икрой. При появлении ее разговор смолкает. Доктор наливает рюмку, высматривает ее на свет и щелкает языком.
– За ваше здоровье, маменька! – говорит он, обращаясь к старухе барыне и проглатывая водку.
– На здоровье, батюшка!
– Вот от этого самого Павел Владимирыч и погибает в цвете лет – от водки от этой! – говорит доктор, приятно морщась и тыкая вилкой в кружок колбасы.
– Да, много через нее людей пропадает.
– Не всякий эту жидкость вместить может – оттого! А так как мы вместить можем, то и повторим! Ваше здоровье, сударыня!
– Кушайте, кушайте! вам – ничего!
– Мне – ничего! у меня и легкие, и почки, и печенка, и селезенка – всё в исправности! Да, бишь! вот что! – обращается он к женщине в черном платье, которая приостановилась у дверей, словно прислушиваясь к барскому разговору, – что у вас нынче к обеду готовлено?
– Окрошка, да битки, да цыплята на жаркое, – отвечает женщина, как-то кисло улыбаясь.
– А рыба соленая у вас есть?
– Как, сударь, рыбы не быть! осетрина есть, севрюжина… Найдется рыбы – довольно!
– Так скомандуй ты нам к обеду ботвиньи с осетринкой… звенышко, знаешь, да пожирнее! как тебя: Улитушкой, что ли, звать?
– Улитой, сударь, люди зовут.
– Ну, так живо, Улитушка, живо!
Улитушка уходит; на минуту водворяется тяжелое молчание. Арина Петровна встает с своего места и высматривает в дверь, точно ли Улитушка ушла.
– Насчет сироток-то говорили ли вы ему, Андрей Осипыч? – спрашивает она доктора.
– Разговаривал-с.
– Ну, и что ж?
– Все одно и то же-с. Вот как выздоровею, говорит, непременно и духовную и векселя напишу.
Молчание, еще более тяжелое, водворяется в комнате. Девицы берут со стола канвовые работы, и руки их с заметною дрожью выделывают шов за швом; Арина Петровна как-то безнадежно вздыхает; доктор ходит по комнате и насвистывает: « Кувырком, ку-вы-ы-рком!»
– Да вы бы хорошенько ему сказали!
– Чего еще лучше: подлец, говорю, будешь, ежели сирот не обеспечишь. Да, мамашечка, опростоволосились вы! Кабы месяц тому назад вы меня позвали, я бы и заволоку ему соорудил, да и насчет духовной постарался бы… А теперь все Иудушке, законному наследнику, достанется… непременно!
– Бабушка! что ж это такое будет! – почти сквозь слезы жалуется старшая из девиц, – что ж это дядя с нами делает!
– Не знаю, милая, не знаю. Вот даже насчет себя не знаю. Сегодня – здесь, а завтра – уж и не знаю где… Может быть, бог приведет где-нибудь в сарайчике ночевать, а может быть, и у мужичка в избе!
– Господи! какой этот дядя глупый! – восклицает младшая из девиц.
– А вы бы, молодая особа, язычок-то на привязи придержали! – замечает доктор и, обращаясь к Арине Петровне, прибавляет: – Да что ж вы сами, мамашечка! сами бы уговорить его попробовали!
– Нет, нет, нет! Не хочет! даже видеть меня не хочет! Намеднись сунулась было я к нему: напутствовать, что ли, меня пришли? говорит.
– Я думаю, что это все больше Улитушка… она его против вас настраивает.
– Она! именно она! И все Порфишке-кровопивцу передает! Сказывают, что у него и лошади в хомутах целый день стоят, на случай, ежели брат отходить начнет! И представьте, на днях она даже мебель, вещи, посуду – всё переписала: на случай, дескать, чтобы не пропало чего! Это она нас-то, нас-то воровками представить хочет!
– А вы бы ее по-военному… Кувырком, знаете, кувырком…
Но не успел доктор развить свою мысль, как в комнату вбежала вся запыхавшаяся девчонка и испуганным голосом крикнула:
– К барину! доктора барин требует!
Семейство, которое выступает на сцену в настоящем рассказе, уже знакомо нам. Старуха барыня – не кто иная, как Арина Петровна Головлева; умирающий владелец дубровинкой усадьбы – ее сын, Павел Владимирыч; наконец, две девушки, Аннинька и Любинька, – дочери покойной Анны Владимировны Улановой, той самой, которой некогда Арина Петровна «выбросила кусок». Прошло не больше десяти лет с тех пор, как мы видели их, а положения действующих лиц до того изменились, что не осталось и следа тех искусственных связей, благодаря которым головлевская семья представлялась чем-то вроде неприступной крепости. Семейная твердыня, воздвигнутая неутомимыми руками Арины Петровны, рухнула, но рухнула до того незаметно, что она, сама не понимая, как это случилось, сделалась соучастницею и даже явным двигателем этого разрушения, настоящею душою которого был, разумеется, Порфишка-кровопивец.
Из бесконтрольной и бранчивой обладательницы головлевских имений Арина Петровна сделалась скромною приживалкой в доме младшего сына, приживалкой праздною и не имеющею никакого голоса в хозяйственных распоряжениях. Голова ее поникла, спина сгорбилась, глаза потухли, поступь сделалась вялою, порывистость движений пропала. От нечего делать она научилась на старости лет вязанию, но и оно не спорится у ней, потому что мысль ее постоянно где-то витает – где? – она и сама не всегда разберет, но, во всяком случае, не около вязальных спиц. Посидит, повяжет несколько минут – и вдруг руки сами собой опустятся, голова откинется на спинку кресел, и начнет она припоминать… Припоминает, припоминает, покуда старческая дремота не охватит всего старческого существа. Или встанет и начнет бродить по комнатам и все чего-то ищет, куда-то заглядывает, словно женщина, которая всю жизнь была в ключах и не понимает, где и как она их потеряла.
Первый удар властности Арины Петровны был нанесен не столько отменой крепостного права, сколько теми приготовлениями, которые предшествовали этой отмене. Сначала простые слухи, потом дворянские собрания с их адресами, потом губернские комитеты, потом редакционные комиссии * – все это изнуряло, поселяло смуту. Воображение Арины Петровны, и без того богатое творчеством, рисовало ей целые массы пустяков. То вдруг вопрос представится: как это я Агашку звать буду? чай, Агафьюшкой… а может, и Агафьей Федоровной величать придется! То представится: ходит она по пустому дому, а людишки в людскую забрались и жрут! Жрать надоест – под стол бросают! То покажется, что заглянула она в погреб, а там Юлька с Фешкой так-то за обе щеки уписывают, так-то уписывают! Хотела было она реприманд им сделать – и поперхнулась. «Как ты им что-нибудь скажешь! теперь они вольные, на них, поди, и суда нет!»
Как ни ничтожны такие пустяки, но из них постепенно созидается целая фантастическая действительность, которая втягивает в себя всего человека и совершенно парализует его деятельность. Арина Петровна как-то вдруг выпустила из рук бразды правления и в течение двух лет только и делала, что с утра до вечера восклицала:
– Хоть бы одно что-нибудь – пан либо пропал! а то: первый призыв! второй призыв! ни богу свеча, ни черту кочерга!
В это время, в самый развал комитетов, умер и Владимир Михайлыч. Умер примиренный, умиротворенный, отрекшись от Баркова и всех дел его. Последние слова его были:
– Благодарю моего бога, что не допустил меня, наряду с холопами, предстать перед лицо свое!
Слова эти глубоко запечатлелись в восприимчивой душе Арины Петровны, и смерть мужа, вместе с фантасмагориями будущего, наложили какой-то безнадежный колорит на весь головлевский обиход. Как будто и старый головлевский дом, и все живущее в нем – все разом собралось умереть.
Порфирий Владимирыч, по немногим жалобам, вылившимся в письмах Арины Петровны, с изумительной чуткостью отгадал сумятицу, овладевшую ее помыслами. Арина Петровна уже не выговаривала и не учительствовала в письмах, но больше всего уповала на божию помощь, «которая, по нынешнему легковерному времени, и рабов не оставляет, а тем паче тех, кои, по достаткам своим, надежнейшей опорой для церкви и ее украшения были». Иудушка инстинктом понял, что ежели маменька начинает уповать на бога, то это значит, что в ее существовании кроется некоторый изъян. И он воспользовался этим изъяном с свойственною ему лукавою ловкостью.








