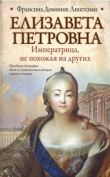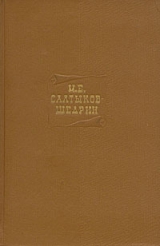
Текст книги "Том 13. Господа Головлевы. Убежище Монрепо"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 61 страниц)
Очевидно, конечно, что почтенный публицист настаивал не на этом знамени, но имел в виду иные знамена, на которых начертаны другие, более солидные и совместные с достоинством благонамеренной русской публицистики девизы. И хотя он не называл их прямо, но догадываюсь, что девизы эти таковы: семейство, собственность, государственный союз и проч. И так как, по мнению обвинителя, я недостаточно усвоил себе эти девизы, то за сие и признан им подлежащим помещению в список неблагонадежных.
Оказывается, однако ж, что знамена с упомянутыми выше девизами не безызвестны и мне. Я довольно часто возвращаюсь к ним и по мере сил даже разработываю их; но, разумеется, моя разработка имеет несколько своеобразный характер. Она не столь отвлеченна, как исследование какого-нибудь ученого юриста или экономиста, и не столь практически наглядна, как, например, разработка Юханцева, Ландсберга и проч. Но позволяю себе думать, что и моя разработка не вовсе бесполезна.
Как литератор, занимающийся книгопечатанием с ведома реторики, я разработываю всякого рода знамена в пределах той литературной рубрики, которая известна под именем «сатиры». Затем справляюсь с любым курсом реторики и убеждаюсь, что основной характер «сатиры» заключается в том, что она «осмеивает пороки». Прошу читателя не сетовать на меня за эти несколько детские подробности: я останавливаюсь на них потому, что мне необходимо объясниться (ведь находятся люди, которым и это нужно объяснить), почему я пишу не в дифирамбическом, а в сатирическом роде. Дифирамб, говорю я, есть совершенно сепаратная литературная рубрика, столь же мало противозаконная, как и сатира, но и не пользующаяся, сравнительно с последнею, никакими особенными привилегиями (разве что существуют какие-либо отдельные по сему предмету распоряжения, о которых я не знаю). Сверх того, дифирамб требует иных способностей и совершенно иного отношения к изображаемым предметам, нежели сатира. Так что, например, если я способен написать сносную сатиру, то в области дифирамба могу оказаться самым плохим нанизывателем напыщенных и пустопорожних фраз. А по моему мнению, заниматься составлением ходульно-лицемерных и вымученных дифирамбов гораздо противозаконнее, нежели упражняться в сносной сатире.
Но спрашивается, что́ такое порок как объект сатиры?
Прежде всего, признаюсь, я не совсем доверяю тем отвержденным спискам пороков, которые, время от времени, публикуются во всеобщую известность моралистами. Мне кажется, что моралисты слишком суживают границы порока, чересчур уж тщательно определяют внешние его признаки. Вследствие этого порок представляется чем-то окаменелым, не только не имеющим никакой притягательной силы, но даже прямо отталкивающим. Нужно быть от природы несомненно предрасположенным к злодейству и нераскаянности и при том очень храбрым (или, по малой мере, очень глупым), чтобы с насилием и взломом проникнуть в наглухо запертое капище порока, на дверях которого прежде всего бросаются в глаза самые определенные указания на соответствующие статьи Уложения.
Таких отважных рыцарей, которые со взломом проникают в капище порока, сравнительно, очень мало, и они почти всегда попадаются. И когда они попадутся, то в среде прокурорского надзора бывает радование. Ибо состав совершившегося факта ясен, и, стало быть, остается только предъявить в суд счет (addition) [125]125
Счет (то есть перечень проступков).
[Закрыть]порочного человека, и уплата по оному воспоследует немедленно и сполна.
Мне кажется, что простая человеческая совесть оказывается в этом случае гораздо более проницательною. Во-первых, она отвергает замкнутость, которую приписывают пороку моралисты, и признает за ним значительную долю въедчивости; во-вторых, она не допускает, чтоб порок так легко поддавался определениям, ибо в этом случае стоило бы только увеличить состав прокурорского надзора, чтобы очистить авгиевы конюшни; в-третьих, она признает, что порок прогрессирует, как относительно внешних форм, так и по существу, и, вследствие этого, одни пороки упраздняются, и взамен их появляются новые, которые человеческая совесть уже угадывает, между тем как прокурорский надзор и во сне ничего подходящего еще не видит.
Нужно ли говорить, что, ввиду этих двух взглядов на порок, литература должна склоняться на сторону совести? Прежде всего, она не меньше милосердна, как и человеческая совесть, и, стало быть, предположение о въедчивости порока, как смягчающее личную ответственность, не может не привлекать ее. Так что ежели человек, укравший грош, в глазах моралиста ни в каком случае не заслуживает пощады, то во мнении человеческой совести и литературы он может оказаться человеком, у которого даже отнять похищенный им грош не совсем ловко. А посему надлежит: списав тот грош безвозвратным расходом, стараться об нем позабыть. Затем литературе не меньше претит и канцелярская точность в определении признаков порока, потому что слишком ясные пороки ведаются полициею и судом, и этого вполне для успокоения общества достаточно. Литература же ведает такие человеческие действия, которые заключают в себе известную степень загадочности и относительно которых публика находится еще в недоумении, порочны они или добродетельны. Философы пишут с целью разъяснения подобных действий целые трактаты; романисты кладут их в основание многотомных произведений; сатирики делают то же дело, призывая на помощь оружие смеха. Это оружие очень сильное, ибо ничто так не обескураживает порока, как сознание, что он угадан и что по поводу его уже раздался смех. Наконец, и мысль об изменяемости форм порока не может не быть симпатичной для литературы, так как если б не существовало изменяемости, если б злоба дня не снабжала жизни все новыми и новыми формами порока, то материя эта давно была бы исчерпана, и литературе пришлось бы уступить место полиции и суду. Но этого нет. И в то время, как суд карает одного Ландсберга, литература прозревает мириады Ландсбергов, тем более опасных, что к ним невозможно применить ни одного из общепризнанных ярлыков, выработанных отвержденною моралью.
Ничего этого, конечно, не признают люди, занимающиеся вытребованием литературных знамен. Они считают обязательною одну мораль – отвержденную, и все, что прямо не возбраняется ею, признают законным. И вследствие этого, во всякой попытке расширить пределы отвержденной морали усматривают неблагонадежность, потрясание, бунт. Словом сказать, они требуют, чтоб сатирик вел нечто вроде дневника происшествий: «Такого-то, дескать, числа утром (допускается описание утра) коллежский регистратор Псевдонимов (допускается описание отвратительной его наружности) украл с лотка булку». И только. Но при этом, конечно, не возбраняется прибавлять, что бдительное начальство накрыло его с поличным и не оставило без взыскания.
Я понимаю, из какого источника идут эти требования. Выше я сказал, что преступить против указаний отвержденной морали очень трудно и что виновными в этом случае оказываются или глупцы, или оборванцы, или такие отважные люди, которым хочется сразу карьеру сделать. Затем громадное большинство удобно уживается с этой моралью и под сению ее бездельничает на всей своей воле. Вот эту-то безнаказанность бездельничества и лестно отстоять. Мы никого не убили, а нас называют убийцами; мы ничего не украли, а нас называют ворами; мы живем в семьях, обедаем, окруженные детьми, пьем чай за семейным самоваром, а нас называют прелюбодеями! Что ж это такое, как не потрясение!
. . . . . . . . . .
Но довольно. Возвращаюсь лично к себе.
Сказанного выше, по мнению моему, вполне достаточно, чтоб убедить читателя, что и мне не чужда мысль о знаменах. Какого же рода эти знамена и что́ на них написано, о том следуют пункты:
1) Ведомо всем, что в настоящее время существуют три общественные основы, за непотрясанием которых имеется особое наблюдение: семейство, собственность и государство. Вот эти-то самые основы значатся и на моих знаменах. Знамя первое: семейство. Приемлю и нимало вопреки глаголю. Но не приемлю, чтобы кузина Nathalie могла быть признаваема столпом семейственности, хотя она столь твердо понимает материнские права, что готова посадить своего Теодора в смирительный дом за непочтительность. Второе знамя: собственность. Приемлю и нимало вопреки глаголю. Но не приемлю, чтоб коммерсант Дерунов именовал себя апостолом собственности, хотя он до того простер свое усердие в этом направлении, что всякую попытку крестьян получить за пуд хлеба 60 копеек, вместо предлагаемой им, Деруновым, полтины, считает за бунт и потрясание. Третье знамя: государство. Приемлю и нимало вопреки глаголю. Но не приемлю, чтоб Феденька Неугодов слыл за поборника государственного союза за то только, что он видит в государстве пирог, к которому ловкие люди могут во всякое время подходить и закусывать.
2) Таковы знамена, которые характеризуют мое внутреннее поведение. Что же касается до поведения внешнего, то знамя, до этого относящееся, гласит тако: не делать того, что законом возбраняется.
3) О прочих знаменах умалчиваю, но думаю, что и сказанного выше достаточно, чтобы жить в мире с самим собой и не опасаться любопытствующих.
Первое сентября *
И в августе отдел внутренней политики остался незамещенным… Слава богу! слава богу!
В первой половине августа прибыл ко мне другой племянник, Саша Ненарочный, молодой человек лет восемнадцати. Приехал, шаркнул ножкой и бросился отыскивать «дяденькину ручку». Но так как я решился скорее вступить врукопашную, нежели довести родственные излияния до такой восторженности, то Саша кончил тем, что влепил мне безе в самые уста. Затем сейчас же принес две банки варенья и извинился, что не принес отварных рыжиков: маменька после пришлет.
Саша устранил угнетавшее меня одиночество – уж это одно было заслугой с его стороны. Я вообще бываю доволен, когда в минуты уныния меня посещают родственники. В счастии я ими не особенно дорожу, но в несчастии – не нарадуюсь. Даже если кадет-племянник из провинции «погостить» приедет – и тот словно рублем подарит. С приездом его и в квартире делается как-то люднее, и шорохов таинственных слышится меньше, и свойственный одиночеству заговорщический характер несомненно смягчается. Словом сказать, вся квартира, в полном своем составе, внушает более доверия…
Но прежде, нежели продолжать, расскажу вкратце, каким образом я приобрел племянника в лице Сашеньки Ненарочного.
У tante Babette были две дочери: одна кузина – Nathalie, с которой читатель уж знаком, младшая и любимочка; другая – кузина Маша, старшая и нелюбимая. В сущности, выражение «нелюбимая», в применении к tante Babette, слишком жестоко. Babette никого «не любить» не могла, но у кузины Маши был такой большой нос, что maman ее не могла его видеть, чтобы не воскликнуть: ах, несчастная! Поэтому Nathalie с малых лет предназначалась для блестящей партии (читатель знает, что она и действительно обрела таковую в лице штабс-ротмистра Неугодова), а Маша ровно ни для чего не предназначалась. Так что когда статский советник Ненарочный присватался к ней, то tante Babette совсем растерялась и даже воскликнула: bonté du ciel! [126]126
милость небесная!
[Закрыть]но посмотрите же, какой у ней… нос! Однако Ненарочный оставил это предостережение втуне и, пребыв твердым в своих матримониальных намерениях, взял Машу, как ее создал бог. И, как увидим ниже, не ошибся в расчете.
Ненарочный был первым родоначальником своей фамилии и, следовательно, не мог похвалиться знатностью. Носился слух, что некогда Аракчеев во время объезда новгородских поселений, остановившись на почтовой станции, имел разговор с смотрительскою дочерью и что последствием этого разговора был маленький раб божий Иван. Разумеется, проследовавши на ближайшую станцию, суровый временщик утратил всякое воспоминание о недавнем грехопадении, но, должно быть, раб божий Иван в рубашке родился, потому что даже волнам временщичьего забвения не удалось поглотить его. Когда молодая мать, год спустя, явилась в Петербург с младенцем в руках, то Аракчеев не только не рассвирепел, как этого следовало бы ожидать, судя по его чину, но явил беспримерное милосердие: мать определил на кухню судомойкой, а сына взял в комнаты и выхлопотал ему герб. В гербе этом на золотом поле была изображена почтовая станция с верстовым столбом; сбоку столба – трехугольная шляпа с плюмажем, из которого выходит протягивающий ручки младенец, а внизу алая извивающаяся лента, на которой начертан девиз:
Хоть создан ненарочно,
Зато довольно прочно.
В согласность с этим девизом, Ваня – по крестному отцу Алексеич – и фамилию получил: Ненарочный.
Прошло несколько лет, Аракчеев пал, но Ваня и из этого крушения вышел невредим. Его призрел коллежский советник Стрекоза, бывший наперсник Аракчеева, который явно хотя и отрекся от него при падении, но втайне остался ему преданным. Он выкормил и обучил Ненарочного, и когда последний кончил университетский курс, то определил его в департамент разных податей и сборов. Там Иван Алексеич в скором времени предъявил такие таланты по части сборов, что лет через десять был определен советником питейного отделения в пензенскую казенную палату.
В то время советники питейных отделений были люди солидные и уважаемые. Места эти не считались особенно блестящими в смысле борьбы с внутренними врагами, но так как с ними сопрягалось представление о сокровище, то всякая открывающаяся вакансия привлекала целые толпы соискателей. Питейный советник играл в губернском обществе роль: он был непременным старшиной местного клуба; на его обязанности лежало составление для губернатора партии в вист; он беседовал с архиереем о бессмертии души и, в довершение всего, пользовался секретным доверием местного штаб-офицера * , который по секрету сообщал ему, что главная его секретная обязанность заключается в том, чтоб секретно утирать слезы. * Сверх того, он любил творить тайную милостыню, то есть правою рукою подавал нищему грош, а левую оставлял в заблуждении, якобы подан рубль. И в конце года, подведя итог накопленному сокровищу, клал оное в опекунский совет для приращения из процентов.
В таком виде сложился тип советника питейного отделения в момент учреждения этой должности, и в том же виде сохранился он и в момент упразднения оной.
Таков же был и Иван Алексеич Ненарочный.
Он взял Машу даже без прилагательного, ибо провидел, что в этой девице будет толк. Ему не красота была нужна, – он видел в женщине лишь посланное судьбою орудие на случай телесного озлобления * , – а домовитая хозяйка, которая взяла бы в руки бразды домашнего управления, а ему дала бы возможность всецело и без помехи отдаться присовокуплениям и созиданиям. И от времени до времени рожала бы детей. Маша все так точно и выполнила. Хозяйничала отлично и, сверх того, в течение двадцати лет супружества, принесла мужу семь человек сынов. Так что когда откупа были упразднены, то Иван Алексеич мог с легким сердцем произнести: «ныне отпускаеши» – и подать в отставку.
Ненарочные и Неугодовы, как и следует добрым родственникам, находились в постоянной вражде. Неугодовы гордились своим аристократизмом и совершенно справедливо полагали, что если бы при такой блестящей фамилии да сокровище Ненарочных, то это было бы им как раз в самую пору. Ненарочные не гордились, но и искательства не выражали, а держали себя осторожно, как бы с минуты на минуту ожидая, что при малейшей оплошности Nathalie непременно попросит у них денег. В последнее время, однако ж, со стороны Ненарочных сделаны были серьезные попытки к сближению, так как проницательный взор Ивана Алексеича отлично усмотрел, что в лице Феденьки на неугодовском горизонте восходит блестящая звезда.
Итак, ко мне явился Саша Ненарочный. Уже по прежним письмам кузины Маши я знал этого молодого человека с отличной стороны. «Саша, – писала она мне не раз (очевидно, впрочем, что письма сочинял Иван Алексеич, а она только переписывала), – отменно радует мое родительское сердце. Он почтителен, прилежен, аккуратен и нимало не сердится на младших братцев, когда сии последние просят его что-нибудь объяснить им из арифметики. За всякую ласку благодарен, тетрадки содержит в порядке и, что всего приятнее, никому не доверяет своего форменного мундирчика, но сам оный чистит». И действительно, он предстал предо мной именно таким, каким его описывала Маша. Телосложение обстоятельное, румянец во всю щеку, рот сердечком, глаза веселые, но не столько вследствие свойственной юношескому возрасту шаловливости, сколько вследствие выработанного убеждения, что унылое выражение может огорчить старших и благодетелей.
Вообще, при взгляде на него, рождалась уверенность, что этот юноша никому своего мундирчика не поверит, но сам его вычистит, а в то же время вытвердит и урок. Мне кажется, что именно таков был Аракчеев в молодости: аккуратный, равно готовый принять и орден и затрещину и постоянно решающий в мыслях не очень сложную арифметическую задачу. Даже лоб у Сашеньки был аракчеевский: узкий, слегка как бы угнетенный.
Как я уже сказал, он тотчас же явил беспримерную ловкость. Не успев поймать мою «ручку», облобызал меня в уста и потом от времени до времени стал украдкой поцеловывать в плечико. Сначала это меня беспокоило, но потом думаю: а может быть, он этим способом приценивается, что стоит суконце на моем сюртуке?
Одним словом, Сашенька сделал на меня такое приятное впечатление, что будь я не старик, а старушка со средствами, то, кажется, и цены бы ему не нашел.
– Кончил гимназию? – спросил я его.
– Кончил, дяденька, и удостоен первым-с.
– Отлично! Это тебе делает честь, что родителей радуешь!
Я обнял его и вдруг, как бы проникшись дидактической сферой * , которую принес с собой Сашенька, присовокупил:
– А вот тем детям, кои, вместо радостей, приносят родителям лишь огорчения, – это чести не делает.
Не успел я раскрыть рот от удивления, слыша таковую змеиную мудрость, из уст моих исходящую, как Саша уже воспользовался ею, чтоб поддержать разговор на философической высоте.
– Именно таково и мое, любезный дядюшка, убеждение, – скромно ответил он, – и ежели вы дозволите мне высказать его вполне…
– Говори, любезный друг! не стесняйся!
– Я полагаю, милый дяденька, что прежде всего мы, дети, обязаны любить бога, создавшего нас всех, а непосредственно затем родителей, начальников и добрых родственников. Таковы правила, в которых воспитывался я и все мои братцы.
– Прекрасные правила! продолжай!
– Потому что ежели мы не будем любить бога, то сделаемся через это безбожниками, и тогда не к кому нам будет, в случае несчастья, обращаться с молитвой о помощи. Если же не будем любить и почитать родителей, то последние могут за это лишить нас своих милостей. Что же касается до начальников, то вы сами, любезный дядюшка, знаете, можно ли их не любить?
– Еще бы!
– Обладая столь твердыми правилами, я стараюсь, по возможности, не отступать от них. А ежели и затем мне, как человеку, не свободному от слабостей, случается возбудить против себя справедливый родительский гнев, то я стараюсь чистосердечным раскаянием загладить свою вину и тем предотвратить угрожающие мне в будущем бедствия!
– Ах, голубчик!
– Я и вас, дяденька, люблю, – прибавил он, слегка застыдившись.
– Меня-то за что?
– Во-первых, потому, что я вообще всех родственников обязан любить, а во-вторых…
– Отлично! поцелуемся – и шабаш!
Я поцеловал его и, целуя, думал: а еще говорят, что нынешние молодые люди дерзкие – ан вон он какой! как огурчик!
– Ну, а в Петербург зачем приехал? В здешний университет, что ли, поступить хочешь?
– Нет, я буду оканчивать образование в Московском университете: поближе к родителям. В Петербург же я приехал, во-первых, для того, чтоб представиться вам, добрый дяденька, а во-вторых, потому, что папенька полагает, что для меня поездка эта будет не бесполезна. Когда я выдержал последний экзамен, то папенька подарил мне вот эти часы (Саша вынул из кармана хорошенькие часики и показал их мне) и сказал: теперь ты уже юноша, и необходимо тебе самому регулировать свое время – не все под родительским крылом жить… Признаюсь вам, любезный дяденька, мне было ужасно больно слышать последние слова…
Говоря это, он был слегка взволнован, и на глазах его, блеснули слезы.
– Ну, что́! не плачь! бог милостив… как-нибудь!
– Нет, дяденька, это очень… никогда я этой минуты не забуду. Зачем папенька сказал такие жестокие слова? Они так меня тронули, что я в первый раз в жизни осмелился попенять ему: «Зачем, – сказал я, – вы изволили упомянуть о разлуке, милый папенька? Если вам угодно было признать, что временная разлука наша необходима, то воля ваша будет выполнена, но зачем же огорчать мое сердце предположениями о каком-то самовольном с моей стороны регулировании времени!» К счастию, однако ж, все объяснилось, и папенька не только не забранил меня, но очень милостиво продолжал свои наставления. А теперь, сказал он, поезжай в Петербург! Во-первых, тебе необходимо отрекомендоваться добрым родным, во-вторых, ты оказался вполне достойным вкусить некоторых столичных удовольствий, а в-третьих, да послужит тебе эта поездка испытанием, и ежели ты и из столичных искушений выйдешь невредимым, то это будет означать, что ты уже вполне заслужил аттестат зрелости. Об одном прошу: как можно остерегайся ужасной болезни, которая, при дурном лечении, может навек лишить человека свойственного ему благообразия. А, впрочем, дядя тебе все это лучше меня объяснит!
– Гм… Стало быть, на меня возлагается обязанность водить тебя по мытарствам?
– Ах, дяденька! Представьте себе, папенька точно угадал, что вы сделаете это предположение! Одного опасаюсь, сказал он маменьке, как бы братец не подумал, что мы предназначаем ему роль искусителя? Но маменька, зная вашу душу, положительно вооружилась против этой мысли.
– И превосходно сделала. Дай, я еще раз тебя поцелую.
– Выполнивши это, я, однако ж, спохватился: все поцелуи да поцелуи – не слишком ли это уж однообразно? Поэтому я вынул красную ассигнацию и, подавая ему ее, присовокупил:
– А чтобы доказать тебе, что я люблю не ложно, – вот десятирублевенькая. Это тебе на столичные искушения.
– Благодарю вас, дяденька. Хотя, по милости папеньки, у меня есть и деньги, но ваш подарок мне дорог, как знак милостивого ко мне расположения. Теперь я, кажется, вполне обеспечен. Папенька мне двести рублей на дорогу и на удовольствия пожаловал, да маменька двадцать рублей – это уж когда я в вагон садился, в виде сюрприза. А вот теперь и вы, милый дяденька. Надеюсь, что до переезда в Москву этого будет достаточно.
– Еще бы! здесь тебе ничего не нужно, а что касается до поездки в Москву, то за твой ум тебя любой кондуктор задаром в вагоне постоять пустит! С чего же, однако ж, мы искушения наши начнем?
– Я думаю, дяденька, в кондитерскую, с вашего позволения, сходить.
– В кондитерскую – это ты всегда успеешь. А мы вот как сделаем: отобедаем, отдохнем по-христиански, а потом и закатимся на всю ночь в Демидрон. Там ты сразу увидишь, в каком смысле тебе понимать себя надлежит.
– Демидрон… это что же такое, дяденька?
– Это, мой друг, jardin de familles russes [127]127
русский семейный сад.
[Закрыть]так называется, то есть сад, в котором русский семейный союз преимущественное осуществление для себя находит. «Штучку» я тебе там одну покажу – пальчики оближешь!
– «Штучка» – это не то ли самое, что папенька «сиренами» называет? Впрочем, даже и в этом смысле я не отказываюсь следовать вашему указанию, любезный дяденька, ибо надеюсь с честью выйти из предстоящего испытания. Одно только позволю себе доложить вам: ловко ли будет мне появиться в Демидроне прежде, нежели я представлюсь братцу Федору Семенычу?
– Неугодова едва ли ты скоро увидишь: он нынче в десяти комиссиях заседает.
– Но в таком случае, от кого же мне о здоровье тетеньки Натальи Петровны узнать?
– И это мудрено. Nathalie была здесь недавно и опять уехала в Париж. Да она уж не Неугодова теперь, а Дроздова. Во второй раз замуж вышла.
– Я, дяденька, с вашего позволения, ей в Париж напишу; неловко же не поздравить тетеньку с вступлением в новую жизнь. Ведь для письма в Париж семикопеечной марки достаточно?
Повторяю: чем больше я знакомился с этим юношей, тем больше он меня очаровывал. Но так как и очарованию полагается известный предел, то я был очень доволен, когда Саша спросил позволения на время оставить меня, чтобы написать письма к родителям, а также к тетеньке Наталье Петровне. Разумеется, я снабдил его всеми письменными принадлежностями и был очень утешен, прочитав в его глазах решимость, не отказывая себе в излиянии чувств, предаваться оному, однако ж, лишь настолько, чтобы письмо весило не более одного лота.
За обедом мы опять сошлись, и беседа возобновилась.
– Надеюсь, что ты не вмешиваешься во внутреннюю политику? – спросил я.
– Я, дяденька, всегда старался стоять в стороне от обольщений, и до сих пор бог помогал мне в этом. Тем не менее не смею не сознаться перед вами, что однажды и я чуть-чуть на каторгу не попал.
Я даже подскочил при этом известии.
– Что́ ты!!
– Мне было тогда тринадцать лет, и вдруг один из товарищей, Сипко́, говорит: пойдем, Саша, Селиксу волновать – это село так называется, недалеко от Пензы. Конечно, я, по неопытности, согласился. Купили мужицкие портки, бороды фальшивые подвязали – и отправились волновать. И только что, знаете, приступили, как нам сейчас же руки назад и марш к становому! Ну, разумеется, становой знал папеньку и отправил меня домой.
– Ах бедный ты, бедный! Хорошо, что бог спас!
– Я, дяденька, в то время так испугался, что человек с пятьсот оговорил. Даже маменьку назвал-с…
– Ах!
– Разумеется, маменька легко оправдалась, но некоторые, как я потом осведомился, получили достойное возмездие.
– Правильно!
– Я, дяденька, об этом так рассуждаю: кто что посеет, то и пожнет. Никто не вправе претендовать на судьбу, ибо люди, будучи одарены от бога свободною волей, суть сами единственные виновники тех злоключений, которые ожидают их в сей жизни и в будущей.
– Однако вот ты ходил волновать Селиксу, а вывернулся-таки?
– Я, дяденька, потому вывернулся, что чистосердечно все рассказал-с. А сверх того, всякий очень хорошо понимал, что и папенька не оставит меня без взыскания.
– А больно папенька высек?
– Это случилось тому назад пять лет * , и папенька так милостив, что никогда не напоминает мне об этом. Я же, с своей стороны, могу сказать одно: с тех пор я никогда в политику не вмешиваюсь.
Прекрасный, прекрасный, прекрасный юноша! Правда, он, по-видимому, не очень изобретателен, и речь его положительно отзывается какою-то прелью, но, по моему мнению, для родительского сердца это даже лучше. Далеко ли пойдет Сашенька в будущем или застрянет в самом начале жизненного пути в должности регистратора – это вопрос, на который я не берусь ответить. Но сдается, что ежели начальство беспристрастным оком взглянет на его усилия, то оно, наверное, даст ему возможность добраться до чего-нибудь тепленького. Тем больше, что папенька однажды уж высек его, и, стало быть, совсем невероятно, чтоб он вновь решился волновать Селиксу. Высечь во благовремении – вот последнее слово педагогики, и благо тем, которые испытывают на себе спасительную силу его! Скорее можно ожидать продерзостных поступков от такого превыспренного юноши, как Феденька Неугодов, – и кто знает? – может быть, именно благодаря тому, и можно ожидать, что Nathalie никогда не секла его, а только грозилась посадить в смирительный дом. Благодаря своей превыспренности Феденька сделался честолюбив и как-то болезненно чувствителен ко всем вопросам, до прохождения службы относящимся; так что ежели, например, обойти его к празднику наградой, то он, пожалуй, будет способен и на потрясение основ пойти. Разве мало таких случаев бывало? Я лично знал одного статского советника, который ждал к пасхе Владимира 3-й, а получил корону на св. Анны * , так он прямо с того и начал: что такое государство? – говорит, – покажите мне его! Если б оно было не миф, то я бы видел его или, по малой мере, ощущал бы на себе его действие! А то – помилуйте! – корона на Аннушку! Обрадовали!
Вот таких-то превыспренностей и нельзя от Сашеньки ожидать. Прекрасный, прекрасный, прекраснейший молодой человек!
– И отлично делаешь, что не вмешиваешься, – похвалил я его, – потому что политика – это что такое? Один раз пошалил – сошло с рук, а в другой раз – и поминай как звали! Вот какова, мой друг, наша политика!
– Я это знаю, дяденька, хотя собственно, в применении ко мне, заблуждение мое принесло мне гораздо больше удовольствия, нежели неприятностей. Мне надавали тогда столько лакомств, что даже когда я поделился с братцами – и тут оказался избыток. А сверх того, в нашем «Справочном листке» была напечатана статья «Спасительные плоды отеческого непопустительства», в которой автор, отдавая справедливость папенькиной строгости, отозвался в самых лестных выражениях и обо мне.
– Вот как!
– Да, дяденька, это были минуты какого-то общего энтузиазма, так что наш родной город прислал папеньке адрес, в котором, благодаря за искусное обращение на путь истинный заблуждающихся, поднес ему звание почетного гражданина… Но что всего отраднее: недавно, уже за пределами родной губернии, я вполне убедился, что похвальный поступок никогда не остается без награды!
– Как! даже за пределы Пензенской губернии проникла твоя слава?
– Представьте себе, по приезде в Рязань, я хотел взять билет для дальнейшего следования, как вдруг подходит ко мне начальник станции и спрашивает: «Не вы ли тот благородный молодой человек, который, по словам «Справочного листка», будучи высечен папенькой, откровенно рассказал, как было дело?» И когда я ответил утвердительно, то он продолжал: «В таком случае не трудитесь брать билет! Мы за особенную честь сочтем доставить вас в Москву бесплатно!» Согласитесь, дяденька, что я имел полное право прослезиться, услыхав такую лестную для меня резолюцию.
– Помилуй, мой друг! да если бы ты не прослезился, то просто поступил бы как свинья!
– Но это еще не все-с. Не успел я, по приезде в Москву, отъявиться на Страстной бульвар * , как мне подарили «Полный греческо-русский словарь» * , а вслед за тем общество ревнителей российского благонравия задаром свозило меня в одно из увеселительных заведений, где я слышал пение госпожи Зориной.
– Надеюсь, что ты и по этому случаю прослезился?
– Дяденька! мог ли я иначе поступить?
Я слушал эти детские признания, и сердце во мне таяло. Признаюсь откровенно, в мою голову даже заползла дерзкая и честолюбивая мысль. Ежели папа́-Ненарочный был удостоен от родного города звания почетного гражданина за то, что высек Сашеньку, то отчего же бы и мне… Но, к счастию, приятное послеобеденное отяжеление заставило меня отказаться от соответствующего по сему предмету распоряжения.