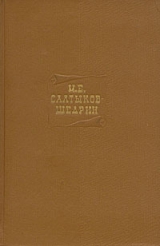
Текст книги "Том 13. Господа Головлевы. Убежище Монрепо"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 61 страниц)
Фантазируя таким образом, он незаметно доходил до опьянения; земля исчезала у него из-под ног, за спиной словно вырастали крылья. Глаза блестели, губы тряслись и покрывались пеной, лицо бледнело и принимало торжественно-угрожающее выражение. И по мере того как росла фантазия, весь воздух кругом него населялся призраками, с которыми он вступал в воображаемую борьбу. Целый бессвязный сценарий проносился в его воображении, сценарий, в продолжение которого он по очереди то резонировал, то приходил в гнев и угрожал, то говорил колкости, улыбался, хохотал.
Существование его получило такую полноту и независимость, что ему ничего не оставалось желать. Весь мир был у его ног, разумеется, тот немудреный мир, который был доступен его скудному миросозерцанию. Фантазия, отвернувшаяся от действительности, питала себя сама, самостоятельно созидая новые и новые основы для своих полетов. Самый скудный, в существе своем, замысел представлял неиссякаемый источник разнообразнейших комбинаций. Каждый простейший мотив Порфирий Владимирыч мог варьировать бесконечно, за каждый он мог по нескольку раз приниматься сызнова, разработывая всякий раз на новый манер. Это был своего рода экстаз, ясновидение, нечто подобное тому, что происходит на спиритических сеансах. Ничем не ограничиваемое воображение создает мнимую действительность, которая, вследствие постоянного возбуждения умственных сил, претворяется в конкретную, почти осязаемую. Это – не вера, не убеждение, а именно умственное распутство, экстаз. Люди обесчеловечиваются; их лица искажаются, глаза горят, язык произносит непроизвольные речи, тело производит непроизвольные движения.
Порфирий Владимирыч был счастлив. Он плотно запирал окна и двери, чтоб не слышать, спускал шторы, чтоб не видеть. Все обычные жизненные отправления, которые прямо не соприкасались с миром его фантазии, он делал на скорую руку, почти с отвращением. Когда пьяненький Прохор стучался в дверь его комнаты, докладывая, что подано кушать, он нетерпеливо вбегал в столовую, наперекор всем прежним привычкам, спеша съедал свои три перемены кушанья и опять скрывался в кабинет. Даже в манерах у него, при столкновении с живыми людьми, явилось что-то отчасти робкое, отчасти глупо-насмешливое, как будто он в одно и то же время и боялся и вызывал. Утром он спешил встать как можно раньше, чтобы сейчас же приняться за работу. Молитвенное состояние сократил; слова молитвы произносил безучастно, не вникая в их смысл; крестные знамения и воздеяния рук творил машинально, неотчетливо. Даже представление об аде и его мучительных возмездиях (за каждый грех – возмездие особенное), по-видимому, покинуло его.
А Евпраксеюшка между тем млела в чаду плотского вожделения. Гарцуя в нерешимости между конторщиком Игнатушкой и кучером Архипушкой и в то же время кося глазами на краснорожего плотника Илюшу, который с целой артелью подрядился вывесить погреб, она ничего не замечала, что делается в барском доме. Она думала, что барин какую-нибудь «новую комедию» разыгрывает, и немало веселых слов было произнесено по этому поводу в людской, в дружеской компании почувствовавших себя на свободе людишек. Но однажды, как-то случайно, зашла она в столовую в то время, когда Иудушка наскоро доедал кусок жареного гуся, и вдруг ей сделалось жутко.
Порфирий Владимирыч сидел в засаленном халате, из которого местами выбивалась уж вата; он был бледен, нечесан, оброс какой-то щетиной, вместо бороды.
– Баринушка! что такое? что случилось? – бросилась она к нему в испуге.
Но Порфирий Владимирыч только глупо-язвительно улыбнулся в ответ на ее восклицание, словно хотел сказать: а ну-ка, попробуй теперь меня чем-нибудь уязвить!
– Баринушка! да что же такое? Говорите! что случилось? – повторила она.
Он встал, уставил в нее исполненный ненависти взгляд и с расстановкою произнес:
– Если ты, девка распутная, еще когда-нибудь… в кабинет ко мне… Убью!
Порфирий Владимирыч и не видал, как прошло лето. Август уже перевалил на вторую половину; дни сократились; на дворе непрерывно сеял мелкий дождь; земля взмокла; деревья стояли понуро, роняя на землю пожелтевшие листья. На дворе и даже около людской царствовала невозмутимая тишина; дворовые ютились по своим углам, частию вследствие хмурой погоды, частию вследствие того, что наконец догадались, что с барином происходит что-то неладное. Евпраксеюшка тоже очнулась; забыла и о шелковых платьях, и о милых дружках, и по целым часам сидела в девичьей на ларе, не зная, как ей быть и что предпринять. Пьяненький Прохор дразнил ее, что она извела барина, опоила его и что не миновать ей за это по Владимирке погулять. Неоднократно пыталась она войти в прежнюю колею, но всякий раз, как она являлась на глаза Порфирию Владимирычу, последний вскакивал с места, хватал первое, что попадалось ему под руку, и с какою-то мрачною решимостью угрожал: убью!
А Иудушка между тем сидит запершись у себя в кабинете и мечтает. Ему еще лучше, что на дворе свежее сделалось; дождь, без устали дребезжащий в окна его кабинета, наводит на него полудремоту, в которой еще свободнее, шире развертывается его фантазия. Он представляет себя невидимкою и в этом виде инспектирует свои владения, в сопровождении старого Ильи, который еще при папеньке, Владимире Михайловиче, старостой служил и давным-давно на кладбище схоронен.
– Умный мужик Илья! старинный слуга! Нынче такие-то люди выводятся. Нынче что: прыг да шмыг, да поюлить, да патарантить, а чуть до дела коснется – и нет никого! – рассуждает сам с собою Порфирий Владимирыч, очень довольный, что Илья, по щучьему веленью да по его хотенью, из мертвых воскрес, и приказывает старику рюмку водки подать, как делывал покойный папенька.
Не торопясь да богу помолясь, никем не видимые, через поля и овраги, через долы и луга, пробираются они на пустошь Уховщину и долго не верят глазам своим. Стоит перед ним лесище стена стеной, стоит, да только вершинами в вышине гудет. Деревья все одно к одному красные – сосняк; которые в два, а которые и в три обхвата; стволы у них прямые, обнаженные, а вершины могучие, пушистые: долго, значит, еще этому лесу стоять можно! Попробовал было Порфирий Владимирыч наверх вершины взглянуть – картуз у него с головы слетел; попробовал гаркнуть молодецким посвистом – словно пушечная пальба по всему лесу покатилась.
– Вот, брат, так лесок! – в восхищении восклицает Иудушка.
– Заказничок! – объясняет старик Илья, – еще при покойном дедушке вашем, при Михаиле Васильиче, с образами обошли – вон он какой вырос!
– А сколько, по-твоему, тут десятин будет?
– Да в ту пору ровно семьдесят десятин мерили, ну, а нынче… тогда десятина-то хозяйственная была, против нынешней в полтора раза побольше!
– Ну, а как ты думаешь, сколько на каждой десятине примерно дерев сидит?
– Кто их знает! у бога они сосчитаны!
– А я так думаю, что непременно шестьсот – семьсот на десятину будет. Да не на старую десятину, а на нынешнюю, на тридцатку. Постой! погоди! ежели по шестисот… ну, по шестисот по пятидесяти положить – сколько же на ста пяти десятинах дерев будет?
Порфирий Владимирыч берет лист бумаги и умножает 105 на 650: оказывается 68250 дерев.
– Теперича, ежели весь этот лес продать… по разноте… как ты думаешь, можно по десяти рублей за дерево взять?
Старик Илья трясет головой.
– Мало! – говорит он, – ведь это – какой лес: из каждого дерева два мельничных вала выйдет, да еще строевое бревно, хоть в какую угодно стройку, да семеричок, да товарничку, да сучья… По-вашему, мельничный-то вал – сколько он стоит?
Порфирий Владимирыч притворяется, что не знает, хотя он давно уж все до последней копейки определил и установил.
– По здешнему месту, один вал десяти рублей стоит, а кабы в Москву, так и цены бы ему, кажется, не было! Ведь это – какой вал! его на тройке только-только увезти! да еще другой вал, потоньше, да бревно, да семеричок, да дров, да сучьев… Ан дерево-то, бедно-бедно, в двадцати рублях пойдет.
Порфирий Владимирыч думает про себя: «Это не я, это Илья говорит, а он не солжет!» Но, в то же время, он скромничает и, для большей верности, считает долгом возразить:
– Ну, брат, и леснику барышок надо дать!
– А нам зачем лесник, мы и сами сводить лес будем. Деньги, что ли, нам к спеху нужны? так у нас и своих довольно! А ежели и занадобятся деньги, так к нам всякий сейчас же за лесом с радостью поедет! сейчас ты ее, сосну-то, срубил – смотришь, ан и денежки за нее на столе лежат! Потому, она надобна: сегодня она в лесу, а завтра, поди, уж на мельнице стучать будет!
Слушает Порфирий Владимирыч Ильины речи и не наслушается их! Умный, верный мужик, этот Илья! Да и все вообще управление ему как-то необыкновенно удачно привел бог сладить! В помощниках у Ильи старый Вавило служит (тоже давно на кладбище лежит), вот, брат, так кряж! В конторщиках маменькин земский Филипп-перевезенец (из вологодских деревень его, лет шестьдесят тому назад, перевезли); полесовщики все испытанные, неутомимые; псы у амбаров – злые! И люди и псы – все готовы за барское добро хоть черту горло перегрызть!
– Умели папенька с маменькой, дай бог им царство небесное, людей выбирать! вот и я, по ихней милости, за этими людьми как за каменной стеной живу! А ну-тка, брат, давай прикинем: сколько это будет, ежели всю пустошь по разноте распродать?
Порфирий Владимирыч снова рассчитывает мысленно, сколько стоит большой вал, сколько вал поменьше, сколько строевое бревно, семерик, дрова, сучья. Потом складывает, умножает, в ином месте отсекает дроби, в другом прибавляет; в комнате раздается: «Столько-то тысяч по десяти рублей, да столько-то по рублю, да столько-то хоть по полтине… ну, хоть по сороку по пяти копеек…» Лист бумаги наполняется столбцами цифр.
– На-тко, брат, смотри, что вышло! – показывает Иудушка воображаемому Илье какую-то совсем неслыханную цифру, так что даже Илья, который и со своей стороны не прочь от преумножения барского добра, и тот словно съежился.
– Что-то как будто уж и многовато! – говорит он, в раздумье поводя лопатками.
Но Порфирий Владимирыч уже откинул все сомнения и только веселенько хихикает.
– Чудак, братец, ты! Это уж не я, а цифра говорит… Наука, братец, такая есть, арифметикой называется… уж она, брат, не солжет! Ну, хорошо, с Уховщиной теперь покончили; пойдем-ка, брат, в Лисьи Ямы, давно я там не бывал! Сдается мне, что мужики там пошаливают, ой, пошаливают мужики! Да и Гаранька-сторож… знаю! знаю! Хороший Гаранька, усердный сторож, верный – это что и говорить! а все-таки… Маленько он как будто сшибаться стал!
Идут они неслышно, невидимо, сквозь чащу березовую, едва пробираются («ишь частой какой!» – шепотом повторяет Порфирий Владимирыч) и вдруг останавливаются, притаивши дыхание. На самой дороге лежит на боку мужицкий воз, а мужик стоит и тужит, глядючи на сломанную ось. Потужил-потужил, выругал ось, да и себя кстати ругнул, вытянул лошадь кнутом по спине («ишь, ворона!»), однако делать что-нибудь надо – не стоять же на одном месте до завтра! Озирается вор-мужичонко, прислушивается: не едет ли кто, потом выбирает подходящую березку, вынимает топор… А Иудушка все стоит, не шелохнется… Дрогнула березка, зашаталася и вдруг, словно сноп, повалилась наземь. Хочет мужик отрубить от комля, сколько ему на ось надобно, но Иудушка уж решил, что настоящий момент наступил. Крадучись, подползает он к мужику и мигом выхватывает из рук его топор.
– Ах! – успевает только крикнуть застигнутый врасплох вор.
– «Ах!» – передразнивает его Порфирий Владимирыч, – а чужой лес воровать дозволяется? «Ах!» – а чью березку-то, свою, что ли, срубил?
– Простите, батюшка!
– Я, братец, давно всем простил! Сам богу грешен и других осуждать не смею! Не я, а закон осуждает. Закон осуждает. Закон не велит чужого леса рубить, а ежели кто не слушается и все-таки рубит – ну, делать нечего, штраф обязан заплатить! Следовательно, ты мне должен штраф заплатить. Ось-то, которую ты срубил, на усадьбу привези, да и рублик штрафу кстати уж захвати; а покуда пускай топорик у меня полежит! Небось, брат, сохранно будет!
Довольный тем, что успел на самом деле доказать Илье справедливость своего мнения насчет Гараньки, Порфирий Владимирыч с места преступления заходит мысленно в избу полесовщика и делает приличное поучение. Потом он отправляется домой и по дороге ловит в господском овсе трех крестьянских кур, которых велит старосте загнать на барский двор и держать там, покуда владельцы не заплатят штрафа. Воротившись в кабинет, он чувствует себя утомленным и с минуту потягивается и разминает свои члены. Но так как дело не терпит, то вслед за тем он опять принимается за работу, и целая особенная хозяйственная система вдруг зарождается в его уме. Все растущее и прозябающее на его земле, сеяное и несеяное, обращается в деньги по разноте, и притом со штрафом. Все люди как-то вдруг сделались порубщиками и потравщиками, а Иудушка не только не скорбит об этом, но, напротив, даже руки себе потирает от удовольствия.
– Травьте, батюшки, рубите! мне же лучше, – повторяет он, совершенно довольный.
И тут же берет новый лист бумаги и принимается за выкладки и вычисления.
Сколько на десятине овса растет и сколько этот овес может денег принести, ежели его куры мужицкие помнут и за все помятое штраф уплатят?
«А овес-то, хоть и помят, ан после дождичка и опять поправился!» – мысленно присовокупляет Иудушка.
Сколько в Лисьих Ямах березок растет и сколько за них можно денег взять, ежели их мужики воровским манером порубят и за все порубленное штраф заплатят?
«А березка-то, хоть она и срублена, ко мне же в дом на протопленье пойдет, стало быть – мне же барыш: дров самому пилить не надо!» – опять присовокупляет Иудушка мысленно.
Рожь, трава, даже яблони, огурцы – ничто не ускользает от прозорливого взора Порфирия Владимирыча…
Громадные колонны цифр испещряют бумагу; сперва рубли, потом десятки, сотни, тысячи… Иудушка до того устает за своей работой и, главное, так волнуется ею, что весь в поту встает из-за стола и ложится отдохнуть на диван. Но взбунтовавшееся воображение и тут не укрощает своей деятельности, а только избирает другую более легкую тему.
– Умная женщина была маменька, Арина Петровна, – фантазирует Порфирий Владимирыч, – умела и спросить, да и приласкать умела – оттого и служили ей все с удовольствием! Илья, Вавила, Филипп – все у нее в школе воспитывались! русский мужичок умный! а коли ежели с него за дело спрашивают, он не только претензии на это не имеет, а даже благодарен! Ты спрашивать спрашивай, да только знай, за что спрашивать! А вот ежели «подай то, неведомо что, да ступай туда, неведомо куда!» – ну, за это мужичок спасибо не скажет! Ах, умеючи, да и как еще умеючи надо с русским мужичком обойтись!
Всем хороша была Арина Петровна, однако и за ней грешки водились! Ой, много было за покойницей блох! так много, так много!
Не успел Иудушка помянуть об Арине Петровне, а она уж и тут как тут; словно чует ее сердце, что она ответ должна дать: сама к милому сыну из могилы явилась.
– Не знаю, мой друг, не знаю, чем я перед тобой провинилась! – как-то уныло говорит она, – кажется, я…
– Те-те-те, голубушка! лучше уж не грешите! – без церемонии обличает ее Иудушка, – коли на то пошло, так я все перед вами сейчас выложу! Почему вы, например, тетеньку Варвару Михайловну в ту пору не остановили?
– Как же ее останавливать! она и сама в полных летах была, сама имела право распоряжаться собою!
– Ну, нет-с, позвольте-с! Муж-то какой у нее был? Старенький да пьяненький – ну, самый, самый, значит… бесплодный! А между тем у ней четверо детей проявилось… откуда, спрашиваю я вас, эти дети взялись?
– Что это, друг мой, как ты странно говоришь! как будто бы я в этом причинна!
– Причинны не причинны, а все-таки повлиять могли! Смешком бы да шуточкой, «голубушка» да «душенька», да то бы да се – смотришь, она бы и посовестилась! А вы все напротив! На дыбы да с кондачка! Варька да Варька, да подлая да бесстыдная! чуть не со всей округой ее перевенчали! вот, она и того… и она тоже на дыбы встала! Жаль! Горюшкино-то наше бы теперь было.
– Далось тебе это Горюшкино! – говорит Арина Петровна, очевидно, становясь в тупик перед обвинением сына.
– Мне что Горюшкино! Мне, пожалуй, и ничего не надо! Было бы на свечку да на маслице – вот я и доволен! А вообще, по справедливости… Да, маменька, и рад бы смолчать, а не сказать не могу: большой грех на вашей душе лежит, очень, очень большой!
Арина Петровна уже ничего не отвечает, а только руками разводит, не то подавленная, не то недоумевающая.
– Ведь Горюшкино, это – какое именье! – продолжает фантазировать Порфирий Владимирыч, – арбузы там какие в парниках выхаживали… диковинные! по пуду да по полтора арбуз, а меньше тридцати фунтов и не видывали! Сам папенька-покойник говаривал: дыни – головлевские; арбузы – горюшкинские! А папенька был знаток. Любил, покойник, покушать и толк знал! Да, голубушка, согрешили вы в ту пору, не потрафили! Ах, как в этих делах осторожно следует поступать! ну, так осторожно! так осторожно! А вы… Нет, нет, нет! и люди за это вас не похвалят, да и бог спасибо не скажет!
Порфирий Владимирыч на минуту умолкает, словно любуется смущением доброго друга маменьки.
– Или бы вот, например, другое дело, – продолжает он, – зачем вы для брата Степана в ту пору дом в Москве покупали? [138]138
См. рассказ «Семейный суд». ( Прим. M. E. Салтыкова-Щедрина.)
[Закрыть]
– Надо было, мой друг; надо же было и ему какой-нибудь кусок выбросить, – оправдывается Арина Петровна.
– А он взял да и промотал его! И добро бы вы его не знали: и буян-то он был, и сквернослов, и непочтительный – нет-таки. Да еще папенькину вологодскую деревеньку хотели ему отдать! А деревенька-то какая! вся в одной меже, ни соседей, ни чересполосицы, лесок хорошенький, озерцо… стоит, как облупленное яичко, Христос с ней! хорошо, что я в то время случился да воспрепятствовал… Ах, маменька, маменька, и не грех это вам!
– Да ведь сын он… пойми, все-таки сын!
– Знаю я, и даже очень хорошо понимаю! И все-таки не нужно было этого делать, не следовало! Дом-то двенадцать тысяч серебрецом заплачен – и где они? Вот тут двенадцать тысяч плакали, да Горюшкино тетеньки Варвары Михайловны, бедно-бедно, тысяч на пятнадцать оценить нужно… Ан денег-то и многонько выйдет!
– Ну, да уж что уж! за то тебя бог в другом во всем благословил!
– Я не об себе: я тружусь! Я вот с утра до вечера… и конторщика, и скотницу, и ключницу… вы думаете – мало мне это трудов стоит? Но потому-то именно я и имею право говорить, что тружусь! Кабы я не трудился, я бы не говорил… А почему так? а потому, голубушка, что всякий тогда бы сказал: ты сам шалберничаешь, так какое же ты имеешь основание за другими замечать? А вот как посидишь да покорпишь, так оно и жалконько! Ты-то трудился, а рядом, видишь, люди без труда в свое удовольствие живут! А еще другие находятся, которые потакают им.
– Так неужто же меня-то можно потаковщицей назвать?
– Никогда я этого, маменька, не говорил! и в мыслях никогда у меня не было вас потаковщицей называть! ах, маменька! маменька! грешите вы! напраслину на меня взводите! Я, кажется, кроме уважения да ласки…
– Ну, ну, полно! уж перестань! не сердись, Христа ради!
– Я, маменька, не сержусь, я только по справедливости сужу… что правда, то правда – терпеть не могу лжи! с правдой родился, с правдой жил, с правдой и умру! И всегда скажу правду, хоть, может быть, она и не для всех приятна! Правду и бог любит, да и нам велит любить. Вот хоть бы про Погорелку; всегда скажу: много, ах, как много денег вы извели на устройство ее.
– Да ведь я сама в ней жила…
Иудушка очень хорошо читает на лице маменьки слова: кровопивец ты несуразный! – но делает вид, что не замечает их.
– Нужды нет, что жила, а все-таки… Киотка-то и до сих пор в Погорелке стоит, а чья она? Лошадь, савраска – тоже; шкатулочка чайная… сам собственными глазами еще при папеньке в Головлеве ее видел! а вещичка-то хорошенькая!
– Ну, что уж!
– Нет, маменька, не говорите! оно, конечно, сразу не видно, однако как тут рубль, да в другом месте – полтина, да в третьем – четвертачок… Как посмотришь да поглядишь… Да, впрочем, позвольте, я лучше сейчас все на цифрах прикину! Цифра – святое дело; она уж не солжет!
Порфирий Владимирыч опять устремляется к столу, чтоб привести наконец в полную ясность, какие убытки ему нанесла добрый друг маменька. Он стучит на счетах, выводит на бумаге столбцы цифр – словом, готовит все, чтоб изобличить Арину Петровну. Но, к счастию для последней, колеблющаяся его мысль не может долго удержаться на одном и том же предмете. Незаметно для него самого к нему подкрадывается новый предмет стяжания и, словно каким волшебством, дает его мысли совсем иное направление. Фигура Арины Петровны, еще за минуту перед тем так живо мелькавшая у него в глазах, вдруг окунулась в омуте забвения, и следом за нею туда же исчезают и Илья-староста, и Вавила, и Филипп. Цифры смешались…
Давно уж собирался Порфирий Владимирыч высчитать, что может принести ему полеводство, и вот теперь наступил самый удобный для этого момент. Он знает, что мужик всегда нуждается, всегда ищет занять и всегда же отдает без обмана, с лихвой. В особенности щедр мужик на наличный свой труд, который «ничего не стоит», и на этом основании всегда, при расчетах, принимается ни во что, в знак любви. Много-таки на Руси нуждающегося народа, ах, как много! Много людей, не могущих определить сегодня, что ждет их завтра, жизнь или смерть, много таких, которые куда бы ни обратили тоскливые взоры – везде видят только безнадежную пустоту, везде слышат только одно слово: отдай! отдай! И вот, вокруг этих-то безнадежных людей, около этой-то перекатной голи, на которой испокон веков воочию разыгрывается фокус неистощимой мужицкой спины, стелет Иудушка свою бесконечную паутину, по временам переходя в какую-то неистовую фантастическую оргию.
На дворе апрель, и мужику, по обыкновению, нечего есть. «Проелись, голубчики! зиму-то пропраздновали, а к весне и животы подвело!» – рассуждал Порфирий Владимирыч сам с собою, а он, как нарочно, только-только все счеты по прошлогоднему полеводству в ясность привел. В феврале были обмолочены последние скирды хлеба, в марте зерно лежало ссыпанное в закрома, а на днях вся наличность уже разнесена по книгам в соответствующие графы. Иудушка стоит у окна и поджидает. Вот вдали, на мосту, показался в тележонке мужик Фока. На повертке в Головлево он как-то торопливо задергал вожжами и, за неимением кнута, пугнул рукой лошадь, еле передвигающую ноги.
– Сюда! – шепчет Иудушка, – ишь у него лошадь-то! как только жива! А покормить ее с месяц, другой – ничего животок будет! Рубликов двадцать пять, а не то и все тридцать отдать за нее.
И он следит за Фокиной лошадью, словно в книгах судеб давным-давно уже записано, что рано или поздно, а не миновать-таки ей головлевских конюшен.
Между тем Фока подъехал к людской избе, привязал к изгороди лошадь, подкинул ей охапку сенной трухи и через минуту уже переминается с ноги на ногу в девичьей, где Порфирий Владимирыч имеет обыкновение принимать подобных просителей.
– Ну, друг! что скажешь хорошенького? – начинает Порфирий Владимирыч.
– Да вот, сударь, ржицы бы…
– Что так! свою-то, видно, уж съели? Ах, ах, грех какой! Вот кабы вы поменьше водки пили, да побольше трудились, да богу молились, и землица-то это бы чувствовала! Где нынче зерно – смотришь, ан в ту пору два или три получилось бы! Занимать-то бы и не надо!
Фока как-то нерешительно улыбается, вместо ответа.
– Ты думаешь, бог-то далеко, так он и не видит? – продолжает морализировать Порфирий Владимирыч, – ан бог-то – вот он он. И там, и тут, и вот с нами, покуда мы с тобой говорим, – везде он! И все он видит, все слышит, только делает вид, будто не замечает. Пускай, мол, люди своим умом поживут; посмотрим, будут ли они меня помнить! А мы этим пользуемся, да вместо того чтоб богу на свечку из достатков своих уделить, мы – в кабак да в кабак! Вот за это за самое и не подает нам бог ржицы – так ли, друг?
– Это уж что говорить! Это так точно!
– Ну, так вот видишь ли, и ты теперь понял. А почему понял? потому что бог милость свою от тебя отвратил. Уродись у тебя ржица, ты бы и опять фордыбачить стал, а вот как бог-то…
– Справедливо это, и кабы, ежели мы…
– Постой! дай я скажу! И всегда так бывает, друг, что бог забывающим его напоминает об себе. И роптать мы на это не должны, а должны понимать, что это для нашей же пользы делается. Кабы мы бога помнили, и он бы об нас не забывал. Всего бы нам подал: и ржицы, и овсеца, и картофельку – на, кушай! И за скотинкой бы за твоей наблюл – вишь, лошадь-то у тебя! в чем только дух держится! и птице, ежели у тебя есть, и той бы настоящее направление дал!
– И это вся ваша правда, Порфирий Владимирыч.
– Бога чтить, это – первое, а потом – старших, которые от самих царей отличие получили, помещиков, например.
– Да мы, Порфирий Владимирыч, и то, кажется…
– Тебе вот «кажется», а поразмысли да посуди – ан, может, и не так на поверку выйдет. Теперь, как ты за ржицей ко мне пришел, грех сказать! очень ты ко мне почтителен и ласков; а в позапрошлом году, помнишь, когда жнеи мне понадобились, а я к вам, к мужичкам, на поклон пришел? помогите, мол, братцы, вызвольте, вы что на мою просьбу ответили? Самим, говорят, жать надо! Нынче, говорят – не прежнее время, чтоб на господ работать, нынче – воля! Воля, а ржицы нет!
Порфирий Владимирыч учительно взглядывает на Фоку; но тот не шелохнется, словно оцепенел.
– Горды вы очень, от этого самого вам и счастья нет. Вот я, например: кажется, и бог меня благословил, и царь пожаловал, а я – не горжусь! Как я могу гордиться! что я такое! червь! козявка! тьфу! А бог-то взял да за смиренство за мое и благословил меня! И сам милостию своею взыскал, да и царю внушил, чтобы меня пожаловал. И стал я человеком. Полегоньку да помаленьку, мирком да ладком, был червь, а сделался человек! И не горжусь!
– Я так, Порфирий Владимирыч, мекаю, что прежде, при помещиках, не в пример лучше было! – льстит Фока.
– Да, брат, было и ваше времечко! попраздновали, пожили! Всего было у вас: и ржицы, и сенца, и картофельцу! Ну, да что уж старое поминать! я не злопамятен; я, брат, давно об жнеях позабыл, да только так, к слову вспомнилось! Так, как же ты говоришь, ржицы тебе понадобилось?
– Да, ржицы бы…
– Купить, что ли, собрался?
– Где купить! в одолжение, значит, до новой!
– Ахти-хти! Ржица-то, друг, нынче кусается! Не знаю уж, как и быть мне с тобой…
Порфирий Владимирыч впадает в минутное раздумье, словно и действительно не знает, как ему поступить: «И помочь человеку хочется, да и ржица кусается…»
– Можно, мой друг, можно и во одолжение ржицы дать, – наконец говорит он, – да, признаться сказать, и нет у меня продажной ржи: терпеть не могу божьим даром торговать! Вот в одолжение – это так, это я с удовольствием. Я, брат, ведь помню: сегодня я тебя одолжу, а завтра – ты меня одолжишь! Сегодня у меня избыток – бери, одолжайся! четверть хочешь взять – четверть бери! осьминка понадобилась – осьминку отсыпай! А завтра, может быть, так дело повернет, что и мне у тебя под окошком постучать придется: одолжи, мол, Фокушка, ржицы осьминку – есть нечего!
– Где уж! пойдете вы, сударь, вы…
– Я-то не пойду, а к примеру… И не такие, друг, повороты на свете бывают! Вон в газетах пишут: какой столп Наполеон был, да и тот прогадал, не потрафил. Так-то, брат. А коли ежели я тебя в свое время одолжил – ну, и ты мне не откажешь: извольте, скажешь, Порфирий Владимирыч, с превеликим моим удовольствием. Сколько же тебе требуется ржицы-то?
– Четвертцу бы, коли милость ваша будет.
– Можно и четвертцу. Только заранее я тебе говорю: кусается, друг, нынче рожь, куда как кусается! Так вот как мы с тобой сделаем: я тебе шесть четверичков отмерить велю, а ты мне, через четыре месяца, два четверичка приполнцу отдашь – так оно четвертца в аккурат и будет! Процентов я не беру, а от избытка ржицы…
У Фоки даже дух занялся от Иудушкинова предложения; он ничего не говорит, только лопатками шевелит да под мышками пальцами рук сучит.
– Не многовато ли приполну-то будет, сударь? – наконец произносит он, очевидно робея.
– А много – так к другим обратись! Я, друг, не неволю, а от души предлагаю. Не я за тобой посылал, сам ты меня нашел. Ты – с запросцем, я – с ответцем. Ни я тебя нудить одолжаться не могу, ни ты меня нудить одолжаться не можешь. Так-то, друг!
– Так-то так, да словно бы приполну-то уж много?
– Ах, ах, ах! А я еще думал, что ты – справедливый мужик, степенный! Ну, а мне-то скажи, чем жить прикажешь? Я-то откуда расходы свои должен удовлетворить? Ведь у меня сколько расходов – знаешь ли ты? Конца-краю, голубчик, расходам у меня не видно. Я и тому дай, и другого удовлетвори, и третьему вынь да положь! Всем надо, все Порфирия Владимирыча теребят, а Порфирий Владимирыч отдувайся за всех! Опять и то: кабы я купцу рожь продал – я бы денежки сейчас на стол получил. Деньги, брат, – святое дело. С деньгами накуплю я себе билетов, положу в верное место и стану получать с них проценты! Ни заботушки мне, ни горюшка, отрезал купончик – пожалуйте денежки! А за рожью-то я еще походи, да похлопочи около нее, да постарайся! Сколько ее усохнет, сколько на россыпь пойдет, сколько мышь съест! Нет, брат, деньги – как можно! И давно бы мне за ум взяться пора! давно бы в деньги все обратить, да и уехать от вас!
– А вы с нами, Порфирий Владимирыч, поживите.
– И рад бы, голубчик, да сил моих нет. Кабы прежние силы, конечно, еще пожил бы, повоевал бы. Нет! пора, пора на покой! Уеду отсюда к Троице-Сергию, укроюсь под крылышко угоднику – никто и не услышит меня. А уж мне-то как хорошо будет: мирно, честно, тихо, ни гвалту, ни свары, ни шума – точно на небеси!
Словом сказать, как ни вертится Фока, а дело слаживается, как хочется Порфирию Владимирычу. Но этого мало: в самый момент, когда Фока уж согласился на условия займа, является на сцену какая-то Шепелиха. Так, пустошонка ледащая, с десятнику покосцу, да и то вряд ли… Так вот бы…
– Я тебе одолжение делаю, и ты меня одолжи, – говорит Порфирий Владимирыч, – это уж не за проценты, а так, в одолжение! Бог за всех, а мы друг по дружке! Ты десятинку-то шутя скосишь, а я тебя напредки попомню! я, брат, ведь просто! Ты мне на рублик послужишь, а я…
Порфирий Владимирыч встает и в знак окончания дела молится на церковь. Фока, следуя его примеру, тоже крестится.
Фока исчез; Порфирий Владимирыч берет лист бумаги, вооружается счетами, и цифры так и прыгают под его проворными руками. Сколько у него десятин ржи засевается? сколько получается от них приплода (кстати: везде уж десять лет кряду неурожай, только у него, Иудушки, всего, с божьей помощью, вдвое да втрое родится)? сколько от приплода приполну получится, ежели весь урожай, так же, как Фоке, в долг до новой ржи раздавать?








