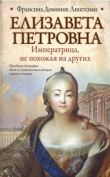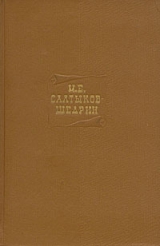
Текст книги "Том 13. Господа Головлевы. Убежище Монрепо"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 61 страниц)
Произнеся последнее слово, Положилов на минуту остановился, как бы выжидая, какой эффект оно произведет на слушателей. Но никакого эффекта не было; скорее, напротив того, можно было предположить, что давно уж это слово у всех на языке и, рано или поздно, неминуемо придется его произнести.
– Если до известной степени, можно согласиться с Глумовым, – продолжал Положилов, – что, с общей точки зрения, страх есть чувство некрасивое и что сознаваться в нем не особенно лестно, то до современной русской литературы это уж ни в коем случае относиться не может. Ее нельзя не бояться; ее должно бояться. Возьмите одни фирмы: «Бодрствующая Упредительница», «Неусыпающий Шалыган * », «Изъяснитель Язв»… разве не страшно? Разумеется, прежде всех должны бояться своя же братия, неостервенившиеся литераторы. Им, должно быть, особенно трудно, ибо в литературе обойтись без человеческих чувств, без человеческих мыслей, без обобщений, без идеалов, с одною канцелярскою насущностью… что ж это за литература будет! Но не освобождаются от обязанности трепетать и все вообще партикулярные люди, которые почему-либо не сумели уподобить себя зверям. К числу последних я причисляю и себя. И хотя, говоря вообще, я не вполнебоюсь, но признаюсь, когда утром начинаю, по привычке, прочитывать печатные строчки, то ощущаю невольную дрожь. Помилуйте! каждый день кого-нибудь предают суду! Ни талант, ни известность, ни годы тщательнейшего самонаблюдения – ничто не ограждает от внушений самого ехидного свойства! И от кого исходят эти внушения?!
– И от кого исходят эти внушения?! – словно эхо, повторили мы все.
Но тут со мною случилось что-то загадочное. Несмотря на торжественность минуты, в ушах моих вдруг как-то совершенно явственно прозвучало:
Люди добрые, внемлите
Страданью сердца моего…
Разумеется, я ни с кем не поделился этой пилюлей; однако ж Положилов, по-видимому, угадал, что во мне происходит нечто неладное.
– Нет, ты не шути! – обратился он ко мне, – а обрати внимание! Столько нынче гаду в вашу литературу наползло, столько наползло, что даже вчуже страшно становится! Кружатся, хохочут, ликуют, брызжут слюнями… Иной всю жизнь в ретираде сидел, заплесневел, отсырел; думал: до гробовой доски мне в сем месте на стенах писать суждено, – и вдруг почувствовал, что момент его наступил! Вы представьте себе эту картину! Выходит оттуда, весь пахучий, и голосом, напоминающим местное урчание, вопиет: а позвольте вас, милостивые государи, допросить, по какому случаю вы унывать изволите?.. Каково вопросы-то эти слушать?
– А разве нельзя ему ответить: угадай! – как-то неожиданно сорвалось с языка у Поликсены Ивановны.
Совет этот был ужасно прост, до того прост, что Положилов на некоторое время даже как бы оторопел.
– Ты, Поликсенчик, всегда… – сказал он с оттенком нетерпения, но вслед за тем спохватился и присовокупил, – а что́, ежели и в самом деле… Он – с допросцем, а ему в ответ… угадай?! Ведь это в своем роде…
– Нельзя! – резко прервал Глумов, который, по-видимому, успел уже убедиться (а кто же знает, может быть, и прежде он, только упражнения ради, противное утверждал), что «бояться» не стыдно.
– Почему?
– Чудак! сам же сейчас говорил, что засилие гад взял, – и спрашиваешь! Надо еще удивляться, что хоть по существенным-то пунктам гады решительных побед не одерживают. Ведь ежели их послушать, то все, что в течение последних лет приобретено, все это нужно нарушить и упразднить: земство отменить, суд присяжных уничтожить, цензуру восстановить, крепостное право возродить!.. Ну, этого, однако ж, им не дождаться!
– Вот видишь! стало быть, есть же и противовес!
– По таким-то пунктам… еще бы! Ну, а подробности там разные, например: ты, я, мы, вы, они – это уж в счет нейдет! этого нельзя и не уступить. Нельзя-с. Потому, засилие гады взяли! Подоплеку угадали! Ах, много еще кровожадности в этой подоплеке таится * , куда как много! Вот они ее и эксплуатируют.
– А я так думаю, – возразил я, – что не столько кровожадность играет тут роль, сколько жалкая и скудоумная страсть к начертыванию паскудных словес на стенах нежилых строений, на заборах, скамьях и т. д. Вот она, настоящая-то подоплека, на чем стоит.
– Есть и это. Но, во всяком случае, гад знает, что ему нынче масленица. Попробуй-ка ему сказать: угадай! – он огорчится и сейчас тебе в ответ: измена! А вслед за этим и подоплека завопит: ха-ха, измена! *
– Ах, мерзость какая!
– И ведь сам, шельмец, знает, что лжет! знает, что лжет, и все-таки лжет!
Говоря это, Глумов простирал руки и сверкал глазами. В первый раз я в нем эту восторженность видел. Обыкновенно он относился ко всем этим «изменам» скорее иронически, и вот теперь… Это было так странно, что на этот раз я уже не выдержал и явно запел:
Люди добрые, внемлите
Страданью сердца моего…
И все хором подхватили:
Он меня разлюбил!
Он ее полюбил!
– «Ее», то есть розничную продажу * , во имя которой все современные литературные злодеяния совершаются! – пошутил Тебеньков.
А Поликсена Ивановна, совершенно успокоившаяся, с любовью оглянула нас и, вздохнув, присовокупила:
– Ах, бедненькие вы мои! беззащитненькие!
Одним словом, благодаря моей диверсии, чуть-чуть не водворилось в нашем кружке общее благодушие, как вдруг нелегкая дернула Плешивцева сказать:
– Ну вот, теперь все отлично. А то я слушал-слушал, и, признаться, все-то мне думалось: а ведь это они перед Филиппом хотят себя с хорошей стороны зарекомендовать!
Это напомнило о Филиппе и разом всех расхолодило. К тому же, в эту самую минуту, в столовой упал со стола стакан и с шумом разбился. Под влиянием совпадения этих нечаянностей и Положилов и Поликсена Ивановна, оба единовременно на цыпочках устремились к двери, и хотя оказалось, что виновником кутерьмы был кот Васька, но благодушие к нам уже не возвратилось.
– Прежде насчет гаду было лучше! – возобновил разговор Тебеньков.
– Вот как! – удивился Плешивцев.
– Да так. И прежде гад допускался, но строже его держали. Жить – живи, но из указанных природой помещений не выходи.
– Пожалуй, что это и так, – согласился Положилов. – А главное что́ было дорого: поучений делать не моги́! Никто не моги́ делать поучения, а в том числе не моги́ и гад! *
– А нынче гады подоплеку собой изображать претендуют – оттого и не сладишь с ними! – присовокупил Глумов, – выйдет он из своего места и начнет тебя обыскивать. Там рванет, в другом месте куснет… ах! Волк – тот прямо за горло режет, а гад – во все места расползется… Можете вообразить себе чувство человека, который, по обстоятельствам, вынужден вступать с ним в разговор!
– Господи! да неужто ж это не кошмар!
. . . . . . . . . .
Однако ж оказалось, что это не кошмар. Тебеньков сообщил:
– Был я давеча у одного товарища по школе: сидит и всем естеством радуется. Слава богу, говорит, и у нас публицист * нашелся! * – Хорош? – спрашиваю. – Да такой, говорит, что ежели ему узы разрешить, так он всю вашу либеральную суматоху на бобах разведет! И представь себе, где нашли – в уединенном месте! Сидит, улыбается и на стенах пишет!
– Любопытно, какие он, этот новоявленный публицист, вопросы разрешать будет?
– Помилуй! Вопрос первый: дозволительно ли мыслить? Ответ: нет, не дозволительно. Вопрос второй: предосудительно ли человеческие чувства выражать? Ответ: да, предосудительно. Этими двумя вопросами вся современная суть исчерпывается.
– Да ведь надо же будет и дальше говорить!
– А дальше он будет распивочным слогом рассказывать анекдоты о стриженых девках, будет на стенах излюбленные словеса писать, акростихи доброго помещичьего времени, вроде «хвалы достойные девицы», вспомнит… Да и мало ли подходящего матерьяла найдется!
– Знаешь ли что́, – предложил мне Тебеньков, – я бы советовал тебе, в отделе беллетристики, все водевили Каратыгина постепенно перепечатать, этак в месяц по одному. Это помогло бы тебе время провести, а читателя-то как освежило бы!
– А ведь это на дело похоже! – поддержал Положилов, – что́ вы там «сквозь невидимые миру слезы» * ехидничаете! гряньте-ка прямо, начистоту… Господа! кто из вас помнит: Задеть мою амбицию…за мной!
И все мы хором подхватили:
Задеть мою амбицию *
Я не позволю вам, *
Я жалобу в полицию
На вас, сударь, подам!
– Господи! да неужто ж это не кошмар!
Наступил довольно длинный период молчания. В столовую с шумом ворвался Филипп и начал накрывать ужин; из кухни доносился острый запах солонины и приятно щекотал обоняние. Это значительно всех прибодрило.
– А мне что́ пришло на мысль, господа! – предложил Положилов, – давно мы не певали «Gaudeamus» * . Возьмемтесь-ка дружно за руки и помянем нашу молодость!
Взялись за руки и с увлечением грянули первую строфу всем дорогого канта * . Но когда дошла очередь до «Vivat асаdemia» * [135]135
Да здравствует академия.
[Закрыть], то усумнились. Какая академия? Что сие означает? в каком смысле «оное» понимать надлежит? и что сим достигается?
– Не забудьте, господа, что Филипп по-латыни не знает, – напомнил Положилов, – и, следовательно, может истолковать нашу песню в самом превратном смысле. Кто, например, поручится, что он не скажет себе: а! понимаю! медико-хирургическая… * превосходно!
Словом сказать, пришлось бросить. К счастию, скоро доложили, что подано ужинать. Это опять всех ободрило. Но и тут Положилов отчасти отравил общее удовольствие, предупредив нас шепотко́м:
– Господа! за ужином чтобы никаких этих экскурсий в области вымыслов… ни-ни! Принимая пищу, мудрый о пище же и беседует – так-то!
На что мы, разумеется, ответили:
– Конечно! конечно! неужто ж мы этого-то не знаем!
За ужином все обошлось благополучно. Хвалили солонину, а в особенности не находили слов для выражения восторгов по поводу громадного индюка, присланного Положиловым из деревни.
– Индюка совсем не так легко довести до такой степени манности, нежности и благонадежности, как это кажется с первого взгляда, – объяснял при этом Павел Ермолаич, – нет, тут немало-таки труда нужно положить! Не в том штука, чтобы до отвалу накормить голодную птицу, а в том, чтобы существо, уже до отвращения пресыщенное, целесообразными мерами побудить сугубо себя утучнить, ad majorem hominis gloriam! [136]136
К вящей славе человеческой!
[Закрыть]Это целая система, которую, впрочем, я не буду здесь излагать, дабы Поликсена Ивановна не вывела из моего изложения каких-либо неблагоприятных намеков и применений. Но скажу одно: индюк, воспитанный на точном основании изданных на сей предмет руководств, делается ни к чему иному негодным, кроме как к подаче на стол в виде жаркова.
Поликсена Ивановна слушала эти объяснения и потихоньку радовалась. Мы тоже не без пользы внимали Положилову, потому что объяснения его, так сказать, осмысливали удовольствие, доставляемое нам индюком. Что касается до Филиппа, то он не без лукавства улыбался, как бы говоря: а ведь это они передо мной себя зарекомендовывают!
Повторяю: все произошло отлично, так что Поликсена Ивановна не выдержала и, обращаясь к Глумову, сказала:
– Вот вы давеча не поверили, когда я говорила, что и по настоящему времени прожить прекрасно можно, – ан вот вам и доказательство налицо!
Она обвела всех нас счастливым взором и проговорила:
– Прекрасно, тихо, благородно!
Это было так мило сказано и при том с таким теплым участием к нам, измученным невозможностью довести какой-либо разговор до конца, что Глумов крепко пожал ее руку и сказал:
– Правда ваша, голубушка! Именно: прекрасно, тихо, благородно! Лучше нельзя определить.
– И поверьте мне, – продолжала Поликсена Ивановна, – что вся эта суматоха, которая так мучительно на вас действует, чувствуется только в тех сферах, которые чересчур уж близко к ней стоят. А там, в глубинах, даже и не подозревают об ее существовании. Павел Ермолаич не дальше, как вчера, получил из деревни письмо…
– Да, есть из деревни письмо, есть! – отозвался Положилов, – и ежели угодно, то я могу его прочитать.
И не дожидаясь согласия нашего, он прочитал:
«А у нас, слава богу, благополучно. Только по случаю лютых оных морозов и бесснежия опасаемся, как бы озимый хлеб в полях не вымерз, да травы на низких местах весной не вымокли, да древа и кусты в садах не погибли. Причем, однако ж, остаемся не без упования, что ежели весна будет дружная и бог пошлет дождичков…»
Из других редакций
Господа Головлевы
Выморочный [137]137См. «Отеч. зап.», № 5, 1876 г. ( Прим. M. E. Салтыкова-Щедрина.)
[Закрыть] *
Прощальные слова Анниньки: «Страшно с вами, дядя!» – проскользнули мимо ушей Порфирия Владимирыча без всяких последствий. Он так был полон самим собой, что ценил только свои собственные речи, да и то не потому, чтоб придавал им какой-нибудь определенный смысл, а просто потому, что словесное переливание из пустого в порожнее представляло наилучшее средство, чтоб наполнять бездну праздного времени. Поэтому, когда кибитка, увозившая Анниньку, скрылась из вида, то прежняя бесшумно-суетливая, безустойчивая жизнь совершенно естественно вновь вступила в свои права. Головлевский дом как бы оцепенел; только от времени до времени (обыкновенно за чаем и за обедом) раздавалось самоуверенно праздное слово Иудушки, и опять все стихало, чтоб уступить место молчаливой работе праздной мысли. Казалось, что и конца этой жизни не будет, что отныне никто уж не вторгнется в эту пустоту, не помешает ее правильно-бесцельному течению и что Иудушка, обремененный годами, безмятежно угаснет с праздным словом на устах, испив всю чашу ненужного существования. Угаснет лишь, благодаря естественному закону, вследствие которого человеческий организм, даже при самой индифферентной обстановке, постепенно изнашивается и сгорает.
Нельзя сказать, чтоб Порфирий Владимирыч рассчитывална то, что привычка сосредоточиваться в самом себе и наслаждаться только самим собою даст ему возможность избыть жизнь, ни в ком не нуждаясь. Его выручал не расчет, а инстинкты его природы, инстинкты, в основании которых лежала безусловная вялость, равняющаяся полному непризнанию всего, что может произвести сомнение, беспокойство и вообще позыв к какой бы то ни было борьбе. Будущее его казалось достаточно обеспеченным тем одним содержанием, которое давало ему его собственное внутреннее миросозерцание. Миросозерцание это было до крайности скудно, но оно отличалось несомненною тягучестью, дававшею возможность один и тот же обрывок мысли развертывать до бесконечности, переворачивая его на все лады, доводя до конца и начиная сызнова. Кроме празднословия, у него была в запасе еще целая громадная область праздномыслия, которая до сих пор оставалась на заднем плане и заключившись в которую он мог уже окончательно счесть себя свободным от каких бы то ни было отношений к действительности. Покуда в головлевском доме было людно – он, конечно, предпочитал празднословие, потому что оно давало ему случай выказывать свой авторитет и вообще угнетать; но ежели празднословить будет не с кем и не для кого, то он не отступит и перед полною выморочностью, потому что и ее он найдет средство населить призраками своего праздномыслия. С этими призраками он проживет довольный и счастливый и нигде не почувствует себя ни одиноким, ни обездоленным; с этими призраками он приобретет себе два высших жизненных блага: неуязвимость и независимость, при помощи которых может почти наверное рассчитывать, что никакая катастрофа не коснется его.
Все это, однако ж, могло бы осуществиться в том только случае, если б Иудушка нашел средство устроить для себя такое положение, в котором он мог бы произвольно отрешиться от всяких потребностей, кроме тех, которые он сам для себя мысленно создаст и опробует. Но в этом-то именно и состояла трудность предстоявшей ему задачи. Действительность вовсе не дает места такого рода фикциям, а ежели по временам их и вырывают у нее насильственно, то результат такого насилия всегда бывает трагический. Ничто живущее не устраивает своего существования одними собственными средствами, точно так же, как ничто не изнывает само собою, не подвергается процессу просто страдательного разложения. И апатия, и энергия, и нравственная вялость, и сила – равно находят себе разрешение не в пустоте, а на практической почве. А в таинственных недрах последней всегда таится великое множество случайных развязок и перипетий, которых и самая подозрительная осторожность ни предусмотреть, ни обойти не в состоянии.
Агония началась с того, что ресурс празднословия, которым Порфирий Владимирыч до сих пор так охотно злоупотреблял, стал видимо сокращаться. Все вокруг него опустело: одни перемерли, другие – ушли. Даже Аннинька, несмотря на жалкую будущность кочующей актрисы, не соблазнилась головлевскими привольями. Оставалась одна Евпраксеюшка, но, независимо от того, что это был ресурс очень ограниченный, почти не допускавший разнообразия, – даже и в ней произошла какая-то порча, которая не замедлила пробиться наружу и раз навсегда убедить Иудушку, что красные дни прошли для него безвозвратно.
До сих пор Евпраксеюшка была до такой степени беззащитна, что Порфирий Владимирыч мог угнетать ее без малейших опасений. Благодаря крайней неразвитости ума и врожденной дряблости характера, она даже не чувствовала этого угнетения. Покуда Иудушка срамословил, она безучастно смотрела ему в глаза и думала совсем о другом. Но теперь она вдруг нечто поняла, и ближайшим результатом пробуждения способности понимания явилось внезапное, несознанное, но злое и непобедимое отвращение.
Очевидно, пребывание в Головлеве погорелковской барышни не прошло бесследно для Евпраксеюшки. Хотя последняя и не могла дать себе отчета, какого рода боли вызвали в ней случайные разговоры с Аннинькой, но внутренно она почувствовала себя совершенно взбудораженною. Прежде ей никогда не приходило в голову спросить себя, зачем Порфирий Владимирыч, как только встретит живого человека, так тотчас же начинает опутывать его целою сетью тягучих словесных обрывков, в которых ни за что уцепиться невозможно, но от которых делается невыносимо скучно, почти тяжело; теперь ей стало ясно, что Иудушка, в строгом смысле, не разговаривает, а «тиранит» и что, следовательно, не лишнее его «осадить», дать почувствовать, что и ему пришла пора «честь знать». И вот она начала вслушиваться в его бесконечные словоизлияния и, действительно, только одно в них и поняла: что Иудушка пристает, досаждает, зудит.
«Вот, барышня говорила, будто он и сам не знает, зачем говорит, – рассуждала она сама с собою, – нет, в нем это злость действует! Знает он, распостылыи, который человек против него защиты не имеет, – ну и вертит им, как ему любо!»
Впрочем, это было еще второстепенное обстоятельство. Главным образом, действие приезда Анниньки в Головлево выразилось в том, что он взбунтовал в Евпраксеюшке инстинкты ее молодости. До сих пор эти инстинкты как-то тупо тлели в ней, теперь – они горячо и привязчиво вспыхнули. Многое она поняла из того, к чему прежде относилась совсем безучастно. Вот, например: почему же нибудь да не согласилась Аннинька остаться в Головлеве, так-таки напрямик и сказала: страшно! Почему так? – а потому просто, что она молода, что ей «жить хочется», а молодому и исполненному желания жизни существу не приходится ютиться около ветоши, прикрывающей один прах. Вот и она, Евпраксеюшка, тоже молода… Да, молода! Это только так кажется, будто молодость в ней жиром заплыла – нет, а временем куда тоже шибко она сказывается! И зовет и манит; то замрет, то опять вспыхнет. Думала она, что и с Иудушкой дело обойдется, а теперь вот… «Ах ты, гнилушка старая! ишь ведь как обошел!» – хорошо бы теперича с дружком пожить, да с настоящим, с молоденьким! Обнялись бы, завалилися, стал бы милый дружок целовать-миловать, ласковые слова на ушко говорить: ишь, мол, ты какая белая да рассыпчатая! «Ах, кикимора проклятая! нашел ведь чем – костями своими старыми – прельстить! Смотри, чай, и у погорелковской барышни молодчик есть! Беспременно есть! То-то она подобрала хвосты да удрала. А тут вот сиди в четырех стенах, жди, когда ему, старому, в голову вступит!..»
Разумеется, Евпраксеюшка не сразу заявила о своем бунте, но, однажды вступивши на этот путь, уже не останавливалась. Отыскивала прицепки, припоминала прошлое, и, между тем как Иудушка даже не подозревал, что внутри ее зреет какая-то темная работа, она молчаливо, но ежеминутно разжигала себя до ненависти. Сперва явились общие жалобы, вроде «чужой век заел»; потом наступила очередь для сравнений. «Вот, в Мазулине Палагеюшка у барина в экономках живет: сидит руки скламши да в шелковых платьях ходит. Ни она на скотный, ни на погреб – сидит у себя в покойчике да бисером вяжет!» И все эти обиды и протесты заканчивались одним общим воплем:
– Уж как же у меня теперича против тебя, распостылый, сердце разожглось! Ну так разожглось, так разожглось!
К этому главному поводу присоединилось и еще обстоятельство, которое было в особенности тем дорого, что могло послужить отличнейшею прицепкою для вступления в борьбу. В памяти Евпраксеюшки воскрес один случай, представление о котором, благодаря ее умственной вялости, едва совсем не заглохло в ней. Дело в том, что у нее был от Порфирия Владимирыча сын, об участи которого, со времени его появления на свет, она имела лишь смутные понятия. Родился этот ребенок вскоре после смерти старшего сына Иудушки и в честь его был назван Владимиром.
– Вот, у меня и другой Володька есть! – говорил по этому случаю Порфирий Владимирыч, веселенько хихикая, – одного Володьку бог взял, а другого дал!
Роды были трудные, и Евпраксеюшка чуть не умерла. Может быть, вследствие этого, она и не сохранила никаких других воспоминаний об этом случае, кроме того, что у нее во время болезни почти все волосы из головы вылезли. Правда, что и Иудушка немало-таки поспособствовал такому исходу дела. Хихикая да хихикая, он взял да в одно прекрасное утро и отправил полегоньку богом данного ему Володьку в Москву, в воспитательный дом. Как в сфере мысли он был пустословом, в сфере религии – пустосвятом, в сфере домашнего обихода – пустодомом, так и в сфере семейных отношений явился пусто-утробным. Призвавши бывшую свою фаворитку Улитушку (см. рассказ «По-родственному»), он повел с ней такого рода разговор:
– Вот что я придумал, Улитушка. Как-никак хоть и жалко, а придется нам Володьку к месту пристроить!
– Мне, что ли, в воспитательный ехать? – совершенно просто спросила Улитушка.
– Стой, погоди! Ах, какая ты таранта, Улита! все-то у тебя на уме – прыг да шмыг, а почем ты знаешь: может, я и не в воспитательный его хочу! Так вот я и говорю: хоть и жалко мне Володьку, а с другой стороны, как порассудить да поразмыслить – ан выходит, что дома держать его нам не приходится!
– Известное дело! Что люди скажут: откуда, мол, в головлевском доме чужой мальчишечка проявился?
– И это, да еще и то: пользы для него здесь никакой не будет. Мать молода – баловать станет; я, старый – туда же за нею! Нет-нет да и снизойдешь. Где бы за проступок посечь малого надо, а тут за сем да за тем… да и слез бабьих, да крику не оберешься – ну, и махнешь рукой. Так ли?
– Справедливо это. Надоест.
– А мне хочется, чтоб все у нас хорошохонько было, чтоб из него, из Володьки-то, со временем настоящий человек вышел. Коли ежели бог его крестьянством благословит, так чтобы землю работать умел… Ну, там косить, дрова рубить, всего чтобы понемножку… А коли ему в другое звание судьба будет, так чтобы ремесло знал… Оттуда, слышь, и в учителя некоторые попадают!
– Из воспитательного-то? Да сколько я сама видала!
– То-то вот и есть. Может быть, и знаменитый какой-нибудь человек из Володьки выйдет! А воспитывают их там отлично – это уж я сам знаю! Кроватки везде чистенькие, мамки здоровенькие, рубашечки на деточках беленькие, рожочки, сосочки… словом, все!
– Чего лучше… для незаконныих!
– А ежели он и в деревню в питомцы попадет – что ж, и Христос с ним! К трудам с малолетства приучаться будет, а ведь труд – та же молитва! Вот мы – мы настоящим образом молимся! Встанем перед образом, крестное знамение творим, и ежели богу угодна наша молитва, то он подает нам за нее. А мужичок – тот трудится! иной и рад бы помолиться, да ему вряд и в праздник поспеть. А бог между тем видит его труды – за труды ему подает, как нам за молитву. Не всем в палатах жить да по балам прыгать – надо кому-нибудь и в избеночке курненькой пожить, за землицей за матушкой походить да похолить ее! А счастье-то – еще бабушка надвое сказала, где оно! Иной и в палатах живет, да через золото слезы льет, а другой и в соломку зароется, да на душе-то у него рай! Так ли я говорю?
– Чего уж лучше, как на душе рай!
– Ну, так мы вот как с тобой, голубушка, сделаем. Возьми-ка ты проказника Володьку, заверни его тепленько, да уютненько, да и скатай с ним живым манером в Москву. Кибиточку я распоряжусь тебе снарядить крытенькую да лошадочек парочку велю заложить, а дорога у нас теперь гладкая, ни ухабов, ни выбоен – кати да покатывай! Только ты у меня смотри: чтоб все честь честью было. По-моему, по-головлевски… как ялюблю! Сосочка чтобы чистенькая, рожочек… рубашоночек, пеленочек, свивальничков, одеяльцев – всего чтоб вдоволь было! Бери! командуй! а не дадут, так меня, старого, бери за бока – мне жалуйся! Ах, Володька, Володька! Вот грех какой случился! Жаль расстаться с тобой, а делать, брат, нечего! Сам после пользу увидишь, сам будешь благодарить!
Иудушка слегка воздел руками и потрепетал губами в знак умной молитвы. Но это не мешало ему искоса взглядывать на Улитушку и исподтишка подмечать язвительные мелькания, которыми подергивалось все лицо ее.
– Ты что? сказать что-нибудь хочешь? – спросил он ее.
– Ничего я. Известно, мол, будет благодарить, коли благодетелев своих отыщет.
– Ах ты, дурная, дурная! да разве мы без билета туда отдадим! А ты билетец возьми! По билетцу-то мы его и сами живо отыщем. Вот выхолят, выкормят, уму-разуму научат, а мы с билетцем тут как тут: пожалуйте Володьку нашего назад! С билетом-то мы его со дна морского выудим… так ли я говорю?
Но Улитушка уже ничего не ответила на вопрос; она нервно переминалась с ноги на ногу, и язвительные мелькания в лице ее выступали все резче и резче. Наконец Порфирий Владимирыч не выдержал.
– Язва ты, язва! – сказал он, – ничего-то доброго у тебя на уме нет – все бы тебе уколоть да уязвить! Дьявол в тебе, черт… тьфу! тьфу! тьфу! Ну, так так-то. Завтра чуть свет возьмешь ты Володьку, да потихоньку, чтобы Евпраксеюшка не слыхала, и отправляйтесь в Москву. Воспитательный-то знаешь?
– Важивала, – одно слово ответила Улитушка, как бы намекая на что-то в прошлом.
– А важивала, так тебе и книги в руки. Стало быть, и входы и выходы – все должно быть тебе известно. Помести же его, да начальников хорошенько попроси – вот так!
Он встал и поклонился, прикоснувшись рукой до земли.
– Чтоб ему хорошо там было! не как-нибудь, а настоящим бы манером! Да билетец-то выправь, не забудь! По билету мы его после везде отыщем! А на расходы я тебе две двадцатипятирублевых отпущу. Знаю ведь я, знаю! И там подсунуть придется, и в другом месте барашка в бумажке подарить… Ахти, грехи наши, грехи! Все мы люди, все человеки, все сладенького хотим! Вот и Володька мой! Кажется, велик ли, и весь-то с ноготок, а поди сколько уж денег стоит!
На другой день после этого разговора, покуда молодая мать металась еще в жару да в бреду, Володьку снарядили и тихим манером увезли в Москву. Так что недели через две, когда Евпраксеюшка уж успела «отлежаться», то никаких следов от Володьки и сопряженного с ним представления о прелюбодеянии не было и в помине.
Такова была история исчезновения Володьки. В то время Евпраксеюшка отнеслась к этому факту как-то тупо. Порфирий Владимирыч ограничился тем, что объявил ей об отдаче новорожденного в добрые руки, а чтобы утешить, подарил ей новый шалевой платок.
Затем все опять заплыло и пошло по-старому. Евпраксеюшка даже рьянее прежнего окунулась в тину хозяйственных мелочей, словно хотела на них сорвать неудавшееся свое материнство. Целые дни проводила на скотном дворе, смотрела, как доили коров, считала яйца, грызлась со скотницей и птичницей – словом, «совсем собакой сделалась». А Иудушка втихомолку потирал себе руки, полный уверенности, что отныне ни один соленый огурец в его хозяйстве не пропадет задаром.
И вдруг все эти расчеты рухнули. Продолжало ли потихоньку теплиться материнское чувство в Евпраксеюшке или просто ей блажь в голову вступила, во всяком случае, воспоминание о Володьке воскресло. Воскресло в ту самую минуту, когда на Евпраксеюшку повеяло чем-то новым, свободным, вольным, когда она почувствовала, что есть иная жизнь, сложившаяся совсем иначе, нежели в стенах головлевского дома, когда в ней шевельнулся смутный запрос… Понятно, что придирка была слишком хороша, чтоб не воспользоваться ею.
– Ишь ведь, что сделал! – разжигала она себя, – робенка отнял! словно щенка в омуте утопил!
Мало-помалу мысль эта овладела ею всецело. Она уже и сама едва ли не поверила какому-то страстному желанию вновь соединиться с ребенком, и чем назойливее разгоралось это желание, тем больше и больше силы приобретала ее досада против Порфирия Владимирыча.
– По крайности, теперь хоть забава бы у меня была! Володя! Володюшка! рожоный ты мой! Где-то ты? чай, к поневнице в деревню спихнули! Ах, пропасти на вас нет, господа вы проклятые! Наделают робят, да и забросят, как щенят в яму: никто, мол, не спросит с нас! Лучше бы мне в ту пору ножом себя по горлу полыхнуть, нечем ему, охавернику, над собой надругаться давать!
Явилась ненависть, желание досадить, изгадить жизнь, извести: началась несноснейшая из всех войн – война придирок, поддразниваний, мелких уколов. Но именно только такая война и могла сломить Порфирия Владимирыча.
Однажды, за утренним чаем, Порфирий Владимирыч был очень неприятно изумлен. Обыкновенно, он в это время источал из себя целые массы словесного гноя, а Евпраксеюшка, с блюдечком чая в руке, молча внимала ему, зажав зубами сахар и от времени до времени фыркая. И вдруг, только что начал он развивать мысль (к чаю в этот день был подан теплый свежеиспеченный хлеб), что хлеб бывает разный: видимый, который мы едими через это тело свое поддерживаем, и невидимый, духовный, который мы вкушаеми тем стяжаем себе душу, как Евпраксеюшка самым бесцеремонным образом перебила его разглагольствия.
– Сказывают, в Мазулине Палагеюшка хорошо живет! – начала она, обернувшись всем корпусом к окну и развязно покачивая ногами, сложенными одна на другую.
Иудушка слегка вздрогнул от неожиданности, но на первый раз, однако, не придал этому случаю особенного значения.
– И ежели мы долго не едим хлеба видимого, – продолжал он, – то чувствуем голод телесный; если же продолжительное время не вкушаем хлеба духовного…