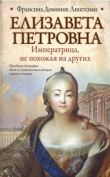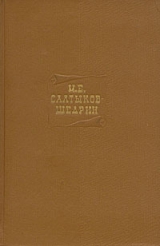
Текст книги "Том 13. Господа Головлевы. Убежище Монрепо"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 51 (всего у книги 61 страниц)
Роман Салтыкова по мере появления отдельных глав встречал почти единодушные признания критики, за которыми, однако, угадывалась разность идейно-эстетических, общественно-литературных позиций.
В печатных отзывах отмечалось, что «сатирическая преднамеренность», свойственная огромному большинству произведений Салтыкова, уступает в романе место «художественной объективности»: «Уже самый выбор сюжетов показывал, что автор, действительно, хочет быть художником более, чем сатириком. Он выбирает мир разрушающегося деревенского барства…» [167]167
Литература и журнализм. «Благонамеренные речи», XVIII; «Семейные итоги» Н. Щедрина. – «Молва», 1876, № 14, 4 апреля, стр. 271–273.
[Закрыть]
При всей неточности противопоставления сатирического и собственно художественного начал, читатели и критики подметили главное: в «Господах Головлевых» Салтыков обнаруживает новую грань своего дарования [168]168
М. В. <В. В. Марков>, Лит. летопись… «Выморочные» Н. Щедрина. – « СПб. вед.», 1876, № 265, 25 сентября, стр. 1–3.
[Закрыть]. «Правда, рассказы носят на себе по временам сатирический оттенок, – писал Вс. Соловьев, – но чисто художественно-повествовательная форма и все приемы сильно его затушевывают» [169]169
Вс. С-в <Вс. Соловьев>, Совр. литература. – «Русск. мир», 1876, № 147, 30 мая, стр. 1–2.
[Закрыть].
Появляется первое отдельное издание «Господ Головлевых», и рецензенты сразу же ставят новый роман в связь с классической русской и зарубежной традицией, отмечают бесспорный его успех: «…Вся читающая Россия с глубоким интересом прочла это выходящее из ряду вон по своим достоинствам сочинение Щедрина…» [170]170
Г. А…, Драм. театр. «Иудушка». – «Южный край», 1880, № 18, 18 декабря.
[Закрыть]Предсказывается скорое превращение Порфирия Головлева в нарицательный образ, в тип: «В нашей литературе, в среде вполне русских культурных типов, каковы Чичиков, Ноздрев, Собакевич, Коробочка, Простакова, Плюшкин и пр., недоставало только этого самого Иудушки, и г. Щедрин вполне удачно восполнил этот важный пробел» [171]171
Новые книги. – «Русск. богатство», 1880, № 6, стр. 24.
[Закрыть]. О том же пишут и другие критики: «Арина Петровна и Иудушка останутся в нашей литературе замечательными типами, художественно обработанными автором до малейших деталей» [172]172
Новые книги. – «Совр. известия», 1881, № 13, 14 января, стр. 2.
[Закрыть].
Вслед за первыми, суммарными оценками салтыковского романа появляются аналитические разборы, в которых все чаще звучит мысль о психологической достоверности авторского рисунка в «Господах Головлевых» и делаются попытки разгадать тайну финала Иудушки.
«Автор с большой художественной проницательностью намечает главнейшие моменты психической жизни героев, постепенные переходы их к сознанию губительности их жизни… Иудушка вышел в жизнь именно с таким запасом практических сентенций, которые и сложились в нем в то, что автор называет пустословием и пустомыслием. Судьба Иудушки должна была, очевидно, сложиться именно так, как показывает нам автор. Оставшись одиноким и видя кругом себя только ненависть, он должен был, в конце концов, прийти к тяжелому сознанию, покаравшему его…» [173]173
Ар. Введенский, «Господа Головлевы». – «Страна», 1880, № 65, 21 августа, стр. 7.
[Закрыть]– пишет Ар. Введенский.
К. Арсеньев обращает внимание на то, что в «Иудушке и в Арине Петровне, как и в Разумове («Больное место»), г. Салтыков сумел отыскать человеческую черту – и это совершенно согласно с истиной; такая черта хранится во всякой душе – не всякий только способен разглядеть ее сквозь наносный слой, придавивший ее своею тяжестью». «Немного найдется страниц более мрачных, чем конец головлевской эпопеи» [174]174
BE, 1883, № 5, стр. 189, 187.
[Закрыть], – замечает критик.
Евг. Утин в статье о «Круглом годе» подчеркивал умение «нашего сатирика» создавать не только произведения, «чуткие ко всякой злобе дня», но и «мастерские художественные образы», «точно из бронзы отлитые фигуры» Иудушки и Арины Петровны [175]175
Евг. Утин, Сатира Щедрина. – BE, 1881, № 1, стр. 308, 307.
[Закрыть].
Позднее предпринимались попытки освободить образ Порфирия Головлева от конкретно-исторических, социально-классовых приурочиваний и перенести трагедию «выморочной» семьи на почву «исключительно нравственную». «Щедрин, – писал, например, Евг. Соловьев, – был моралистом. Этические идеалы стояли у него на первом месте», «жалкими и возбуждающими сострадание, прямо жертвами, оказываются в конце концов все его герои: и мерзавец Иудушка, и сатана Разумов, и Молчалин с окровавленными руками. Щедрин, пожалуй, слишком верил в человека и в невозможность истребить в нем образ и подобие, чтобы безусловно казнить…» [176]176
Евг. Соловьев, Семидесятые годы. Статья третья. М. Е. Салтыков. – «Жизнь», 1899, т. III, стр. 288, 287.
[Закрыть]
Высоко оценили роман Салтыкова критики-марксисты. Не упуская из виду конкретно-политический, социально-классовый аспект, они вместе с тем призывали помнить об общечеловеческом звучании «Господ Головлевых», об Иудушке Головлеве, взращенном на российской почве, в лоне крепостного права, но ставшем художественно-литературным образом мирового значения. М. Ольминский выражал недоумение по поводу заявлений современных Салтыкову критиков о том, что в головлевской хронике можно найти исключительно «изображение старинной, дореформенной помещичьей семьи» и что Салтыков будто бы сказал «этим своим лучшим сочинением»: «Вот такую культуру вас призывают охранять и насаждать» [177]177
Ольминский откликался на оценки салтыковского романа, содержавшиеся, в частности, в «Истории новейшей русской литературы» А. М. Скабичевского (СПб. 1891, стр. 308–309). Отмечая, что «тип Иудушки можно поставить рядом с лучшими типами европейских литератур, каковы Тартюф, Дон-Кихот, Гамлет, Лир и т. п.», Скабичевский одновременно писал: «Господа Головлевы» – «произведение, в котором вы находите изображение старинной, дореформенной помещичьей семьи во всем ужасающем безобразии нравственной распущенности, отсутствия всяких духовных интересов и полного разложения под личиною цинически-наглого лицемерия. Вот какую культуру вас призывают охранять и насаждать, сказал Салтыков этим своим лучшим бессмертным сочинением».
[Закрыть]. «Неужели не сказал ничего больше? – приходится спросить нашего поклонника и ценителя <Скабичевского>, – продолжает Ольминский. – Какой же интерес может представлять это сочинение теперь, когда никто никого не зовет охранять и насаждать головлевскую культуру?» [178]178
М. Ольминский, Статьи о Салтыкове-Щедрине, Гослитиздат, М. 1959, стр. 23.
[Закрыть]
В опубликованной впервые в «Правде» в 1926 году лекции о Салтыкове Луначарский писал: «…В типах Иудушки Головлева и Глумова Щедрин поднимается до обобщающих типов, пожалуй, даже более содержательных, чем знаменитые типы Тургенева. Иудушка и Глумов могут встречаться в разные эпохи у разных народов. И заслуживают глубокого изучения те их основные черты, которые связаны со всем классовым общественным укладом вещей и только варьируются в зависимости от вариантов этих укладов» [179]179
А. В. Луначарский, Собр. соч., т. 1, «Художественная литература», М. 1963, стр. 284.
[Закрыть].
Лучшее же подтверждение мысли об Иудушке Головлеве как о мировом типе лицемера, кляузника и пустослова публицисты-марксисты, а вслед за ними и все советское щедриноведение находили у В. И. Ленина, неоднократно использовавшего салтыковский тип в целях политической, классовой борьбы. Ленин возводил позднейших буржуазных и дворянских лицемеров к бессмертному Иудушке Головлеву, расширяя тем самым социально-политические масштабы салтыковского обобщения [180]180
См.: М. М. Эссен, Мировой тип предателя и лицемера. – Изд. 1933–1941,т. XII, стр. 19–25; А. С. Бушмин, Сатира Салтыкова-Щедрина, стр. 189–194.
[Закрыть].
Один из наиболее ярких случаев ленинской интерпретации этого образа содержится в статье «Торжествующая пошлость или кадетствующие эсеры» (1907), где Ленин не только «к случаю» вспоминает Иудушку, но в щедринском стилевом ключе воспроизводит его новейшие речи, с их сладостно-елейной, деланно-недоумевающей интонацией, с их отупляющим, ханжеским празднословием: «…Жаль, что не дожил Щедрин до «великой» российской революции. Он прибавил бы, вероятно, новую главу к «Господам Головлевым», он изобразил бы Иудушку, который успокаивает высеченного, избитого, голодного, закабаленного мужика: ты ждешь улучшения? Ты разочарован отсутствием перемены в порядках, основанных на голоде, на расстреливании народа, на розге и нагайке? Ты жалуешься на «отсутствие фактов»? Неблагодарный! Но ведь это отсутствие фактов и есть факт величайшей важности! <…> кадетский Иудушка Головлев способен внушить самое жгучее чувство ненависти и презрения. <…> Ведь он действительно засоряет глаза народу, действительно отупляет умы!..» [181]181
В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 15, стр. 213.
[Закрыть]
«Господа Головлевы» давно уже прочно вошли в неписаный, но непременный читательский минимум наших современников. «Разве можно не дать ничего из «Господ ташкентцев», из «Господ Головлевых»?» – спрашивала Н. К. Крупская, размышляя еще в 1926 году о новой программе по школьному курсу истории литературы [182]182
Н. К. Крупская, Педагогические сочинения, Изд-во Ак. пед. наук, М. 1959, т. 3, стр. 253.
[Закрыть]. Роман Салтыкова продолжает жить не только в сознании новых поколений читателей, но и в публицистике, в изобразительном искусстве, на театральной сцене и в кино [183]183
О сценической истории романа и о попытках его экранизации см. публикации, указанные в разделе «Салтыков-Щедрин в искусстве» «Библиографии литературы о М. Е. Салтыкове-Щедрине (1918–1965)». Составил В. Н. Баскаков, «Наука», М. – Л. 1966, № 2142–2144, 2190–2199, 2236–2255 и др. См. также У. А. Гуральник, Русская литература и советское кино, «Наука», М. 1968, стр. 177–208.
[Закрыть]. Слава создателя головлевской хроники перешагнула границы России. «Господа Головлевы» переведены и продолжают переводиться на все главные языки мира. Теодор Драйзер так вспоминал в 1939 году о первом своем чтении «основного труда» Салтыкова – «Господ Головлевых»: «Книга настолько по-особому, так живо и действенно изображала русскую семью и все ее окружение, что это заставило меня увидеть в авторе не только выдающегося писателя своего народа, но фигуру мирового значения. Это мое мнение осталось до сих пор неизменным <…> Для меня совершенно ясно, почему марксисты и все сторонники социального равенства, борющиеся с классовым угнетением, видят в нем своего единомышленника, на которого они опираются и у которого черпают примеры, укрепляющие их веру и закаляющие ненависть к еще более грубым формам унижения человека и к социальной несправедливости – где бы они ни проявлялись» [184]184
Теодор Драйзер, «…Изображать характер и дух действительности…» (Из переписки). – «Вопросы литературы», 1963, № 5, стр. 197.
[Закрыть].
Замысел «Господ Головлевых» сложился не сразу. Первый рассказ о Головлевых – «Семейный суд» – возник в рамках цикла «Благонамеренные речи». Судя по письму к Некрасову от 8 октября (27 сентября) 1875 года, Салтыков считал, что для завершения «Благонамеренных речей» ему остается, помимо печатавшегося «Семейного суда», написать «еще один рассказ» (он имел в виду очерк «Непочтительный Коронат», над которым в это время работал). Таким образом, в октябре 1875 года замысла головлевской хроники еще не существовало. Однако поощренный восторженными отзывами Некрасова и Тургенева (см. стр. 676), писатель в октябре – ноябре обратился к продолжению головлевской темы и написал второй рассказ – «По-родственному». Этот рассказ, вместе с «Непочтительным Коронатом», должен был заключать «Благонамеренные речи», а следовательно, и историю головлевского семейства, разрабатывавшуюся, в составе этого цикла. «На днях два рассказа в Питер послал; кто что, а я все стараюсь. Пишу да пописываю – благо, другого и делать нечего. С «Благонамеренными речами» покончил. Знаю, что много бы нужно еще сказать, да ведь и кончить когда-нибудь надо», – сообщал Салтыков 2 декабря (20 ноября) 1875 года Анненкову.
В январе 1876 года в Ницце Салтыков стал получать отзывы о рассказе «По-родственному». «Мне здесь показывали письма из Питера, в которых велят узнать, не будет ли продолжения. Хотя вопрос этот глупый, но он дал мне мысль написать еще рассказ», – писал Салтыков Некрасову 19 января 1876 года. В этом же письме содержится и его заявление о плане завершения головлевской темы: «К марту я постараюсь прислать Вам особый рассказ, в котором изображу конец головлевского семейства». И письмо Салтыкова, и заглавие рассказа дают основание полагать, что писатель намеревался рассказом «Семейные итоги» завершить головлевскую тему и возвращаться к ней не собирался. Однако в действительности получилось по-иному.
В апреле 1876 года Салтыков решил написать «конец Иудушки», то есть главу «Перед выморочностью». В процессе работы над нею у Салтыкова оформился замысел всего цикла. «Во время писания, – признавался он в письме к Некрасову 15 мая 1876 года, – получилось некоторое развитие подробностей, которое помешало кончитьсовсем эту материю. Так что будет еще новый рассказ в августе, окончательный». Именно тогда, когда художественные интересы Салтыкова сосредоточились на образе Иудушки, когда семейная тема стала приобретать больший масштаб и глубину, у Салтыкова появилось сожаление, что головлевские очерки были введены им в «Благонамеренные речи»: «Жаль, что я эти рассказы в «Благонамеренные речи» вклеил: нужно было бы печатать их под особой рубрикой: «Эпизоды из истории одного семейства».
Рассказ «Перед выморочностью» («Племяннушка») был последним произведением на головлевскую тему, появившимся в печати с обозначением принадлежности его к «Благонамеренным речам».
Последовавший за ним в 1876 году рассказ «Выморочный» был написан как самостоятельное произведение уже после окончания работы по подготовке отдельного издания «Благонамеренных речей», а «Семейные радости» («Недозволенные семейные радости») – даже после его выхода в свет. Таким образом, решение о превращении головлевских глав в независимый от «Благонамеренных речей» цикл было принято Салтыковым летом 1876 года.
Работа над романом, особенно над образом Порфирия Головлева, сопровождалась напряженными творческими исканиями. «Боюсь одного, – высказывал Салтыков свои опасения Некрасову 9 июля 1876 года, – как бы не скомкать Иудушку. Половину я уже изобразил, но в сбитом виде, надо переформировать и переписать. Эта половина трудная, ибо содержание ее почти все психологическое».
После публикации в декабре 1876 года главы «Семейные радости» в печатании «Господ Головлевых» наступает почти четырехлетний перерыв. Заключительная глава хроники появилась лишь в 1880 году. Однако в течение всего этого времени мысль писателя продолжала работать, отыскивая возможные варианты Иудушкина конца. Еще в 1876 году Салтыков получил отзывы А. М. Жемчужникова и Гончарова, заставившие его задуматься над исходом головлевской трагедии. 28 сентября 1876 года Жемчужников писал ему: «Очень я доволен Вашим «Выморочным» <…> я в восторге от Вашего Иудушки. Он, по моему мнению, одно из самых лучших Ваших созданий. Это лицо – совершенно живое. Оно задумано очень тонко, а выражено крупно и рельефно. Вышла личность необыкновенно типичная <…> В ней есть замечательно художественное соединение почти смехотворного комизма с глубоким трагизмом. И эти два, по-видимому, противоположные, элемента в нем нераздельны. Хотелось бы продолжать смеяться, да нет, нельзя; даже сделается жутко: он – страшен. Относиться к нему с постоянным негодованием и злобою также нельзя, потому что он бесспорно комичен, особливо когда творит самое, по его мнению, важное в нравственном отношении дело: когда рассуждает о боге или молится ему с воздеванием рук» [185]185
Изд. 1933–1941,т. XIX, стр. 415–416.
[Закрыть]. В отзыве же Гончарова, в письме от 30 декабря 1876 года, сообщалось, что последний из Головлевых может «делаться все хуже и хуже: потерять все нажитое, перейти в курную избу, перенести все унижения и умереть на навозной куче, как выброшенная старая калоша, но внутренне восстать – нет, нет и нет! Катастрофа может его кончить, но сам он на себя руки не поднимет! Разве сопьется – это еще один возможный, чисто русский выход из петли» [186]186
И. А. Гончаров, Собр. соч., т. 8, Гослитиздат, М. 1955, стр. 490.
[Закрыть]. К концу 1876 или началу 1877 года, то есть ко времени переписки с Гончаровым и Жемчужниковым по поводу Иудушки, относится незавершенный очерк «У пристани», развивавший тему Иудушки. Его содержание и заголовок дают представление о намечавшемся «варианте» окрашенного в уничижительно-комические, юмористические тона исхода Иудушки. От подобного окончания Салтыков отказывается.
Не без внутренней полемики с Гончаровым сатирик избирает иной путь.
В мае 1880 года в «Отеч. записках» появляется «Последний эпизод из головлевской хроники» – глава «Решение», а в июле осуществляется первое отдельное издание романа, получившего название «Господа Головлевы». При подготовке первого отдельного издания Салтыков провел большую работу по редактированию рассказов, написанных в 1875–1876 годах: изменил заглавия некоторых из них, провел стилистическую правку текста (кроме текста последней главы), сделал ряд вставок в рассказах «Семейный суд», «Семейные итоги», «Недозволенные семейные радости», произвел значительные сокращения в главах «Семейный суд», «Племяннушка», «Недозволенные семейные радости», сократил и переработал рассказ «Выморочный» (см. поглавные текстолог. прим.).
В помещаемой ниже таблице отражены изменения, произведенные Салтыковым в первоначальной (журнальной) последовательности глав головлевской хроники и в заглавиях их при подготовке Изд. 1880(цифры в скобках, предшествующие названию глав, обозначают последовательность, в какой они появлялись в «Отеч. записках» и в какой были напечатаны в отдельных изданиях).
Название очерков в журнальной публикации Изд. 1880, 1883
(1) Благонамеренные речи. XIII. Семейный суд. – ОЗ,1875, № 10 (1) Семейный суд
(2) Благонамеренные речи. XVII. По-родственному. – ОЗ,1875, № 12 (2) По-родственному
(3) Благонамеренные речи. XVIII. Семейные итоги. – ОЗ,1876, № 3 (3) Семейные итоги
(4) Благонамеренные речи. Перед выморочностью. – ОЗ,1876, № 5 (4) Племяннушка
(5) Выморочный. – ОЗ,1876, № 8 (6) Выморочный
(6) Семейные радости. – ОЗ,1876, № 12 (5) Недозволенные семейные радости
(7) Решение (Последний эпизод из головлевской хроники). – ОЗ,1880, № 5 (7) Расчет
Подготавливая второе отдельное издание (1883), Салтыков продолжил стилистическую правку глав и внес несколько мелких изменений в рассказ «По-родственному».
В настоящем издании «Господа Головлевы» печатаются по тексту второго отдельного издания с исправлением ошибок и опечаток по всем предшествующим изданиям и рукописям. Рукописный материал, относящийся к «Господам Головлевым», сосредоточен в Отделе рукописей ИРЛИ.
Семейный суд *
Впервые – ОЗ, 1875, № 10 (вып. в свет 18 окт.), стр. 565–614, под заглавием «Благонамеренные речи. XIII. Семейный суд».
Сохранилась наборная рукопись под заглавием «Благонамеренные речи. XIII. Семейный суд». Очерк опубликован под ошибочно поставленным в рукописи номером XIII. На самом деле «Семейный суд» был XVI главой «Благонамеренных речей».
Работу над очерком Салтыков начал в июле 1875 года в Баден-Бадене. «К сентябрьской книжке, не позже 1-го числа, пришлю еще рассказец «Благонамеренных речей». Почти уже готов», – сообщал он Некрасову 6 августа (25 июля). Однако «Семейный суд» был закончен позднее намеченного писателем срока. Ему помешали, по-видимому, и срочные работы по завершению начатых произведений из других циклов («Экскурсии в область умеренности и аккуратности», «Между делом»), и заботы, связанные с переездом из Баден-Бадена в Париж, и мало способствовавший литературному труду образ жизни писателя во французской столице («…целый день почти вне дома и ничего буквально не работаю» – письмо Анненкову, от 24 (12) сентября 1875). Уже в письме к Некрасову от 22 (10) августа Салтыков сообщает о возможной задержке очерка: «Я обещал еще фельетон для сентябрьской книжки; он у меня почти готов, но все-таки не могу еще сказать наверное, вышлю ли. До 1-го сентября подождите, а затем уж пусть остается до октября». Опасения оправдались: к сентябрьскому номеру «Отеч. записок» Салтыков действительно не успел закончить «Семейный суд», а поэтому в письмах к Некрасову от 29 (17) августа и 9 сентября (28 августа) уже намечен новый срок его окончания: 1 октября. Очерк выслан из Парижа в редакцию журнала 7 октября (26 сентября): «Вчера послал я <…> рассказ «Семейный суд» в редакцию. Поместите его, когда найдете удобным. Мне несколько прискучили «Благонамеренные речи», но в этом году я непременно их кончу. Останется еще один рассказ и больше не будет».
Очерк «Семейный суд» написан как очередная глава «Благонамеренных речей»; основное внимание в нем уделено проблеме разложения семьи, образ же Иудушки, будущего главного героя «Господ Головлевых», являясь еще эпизодическим, очерчен весьма бегло.
В первоначальной редакции очерка детские годы и служебная деятельность Порфирия Головлева освещались более подробно, но при подготовке рукописи к публикации фрагменты эти были вычеркнуты или заменены.
Стр. 15, строка 17. Вместо: «Порфирий был женат, Павел – холостой» – в рукописи было:
Порфирия Арина Петровна боялась и потому наружно оказывала ему большее доверие, хотя внутренно ненавидела. К Павлу она была равнодушна, и только потому не помещала его в разряд «постылых», что в таком случае все имение ее должно было перейти в руки мерзавца – Порфишки.
Стр. 15, строка 24. После слов: «…а иногда и слегка понаушничать» – было:
Послушлив он был необыкновенно, и притом послушлив не только за страх, но и за совесть.
Стр. 16, строка 14. После слов: «…глаза его подергивались слезою» – было:
– Ты бы, душенька, с братцем поиграл, – говорила ему Арина Петровна.
– Я, маменька, лучше на вас посмотрю!
– Что на меня смотреть! не бог знает какие узоры на мне нарисованы! Ступай, душенька, поиграй!
Но Порфиша медлил уходить и обдумывал, что бы ему такое сказать, что могло бы понравиться маменьке.
– Степка опять из кухни пирог утащил! – наконец доносил он, потупляя глаза и умалчивая о том, что он сам третью часть этого пирога съел.
При этом извещении Арина Петровна вскакивала с места, как ужаленная, и немедленно приступала к расправе с «балбесом». Но по окончании расправы глаза ее снова встречали неподвижный взор Порфиши, и снова шевелилось в ней предчувствие чего-то загадочного, недоброго.
Стр. 16, строка 28. После слов: «…смутную тревогу чего-то загадочного, недоброго» – было:
но ежели кроток и послушлив был Порфиша при обыкновенной домашней обстановке, то еще более кротким и послушливым являлся он – при «гостях». Он инстинктивно догадывался, что мнение «гостей» представляет для него такое убежище, в котором сама Арина Петровна не властна настигнуть его. И действительно, весь околодок был от него в восхищении, все соседки-помещицы не могли нарадоваться на его кротость и почтительность к матери, так что когда Арина Петровна, все еще преследуемая идеей, что Порфиша со временем будет ей злодеем, пробовала инсинуировать, что «нет ли, мол, в нем хитрецы», то «гости» в один голос восклицали: «Помилуйте! это такой ребенок! такой ребенок! Да посмотрите ему в глаза! Ну, могут ли эти глаза лгать! И т. д.».
Те же привычки покорливости и сердечной ясности детства перенес Порфиша и в дальнейшую жизнь. В школе начальники называли его «откровенным молодым человеком», на службе – «благородным юношей». Тут уже не было прозорливца вроде Степана-балбеса. Даже в товарищах он старался заискивать, ибо очень скоро постиг, что в том загадочном мире случайностей, который носит официальное название «прохождения государственной службы», сверстники играют, по крайней мере, такую же роль, как и начальники. «Я, маменька, писал он к Арине Петровне, так рассуждаю: будущее зависит от бога, а не от нас, и потому даже с подчиненными стараюсь быть ласковым, ибо кто же может заранее предвидеть, что мой сегодняшний подчиненный не будет завтра моим начальником?» И практика вполне оправдала этот образ действия, ибо ежели Порфирий Владимирыч и не занимал еще важного государственного поста (припомним, что дело было в начале пятидесятых годов, когда молодые люди не так-то быстро двигались по лестнице почестей, как теперь), то мог смело дерзать в будущем, потому что был на отличном счету и у начальства и у товарищей. А главное – он вполне заручился против угрожающих сомнений матери. Заручился и в мнении соседей, и в мнении начальников, так что Арина Петровна сама отлично сознавала, что Порфишка-кровопивец, словно вьюн, выскользнул из ее рук и что никакая каверза, вроде «выбрасывания куска», уже не может настигнуть его.
Приведенные фрагменты, зачеркнутые в наборной рукописи главы, впервые опубликованы Н. В. Яковлевым [187]187
«Жизнь и искусство», 1924, № 1, стр. 12–13.
[Закрыть], в 1927 году перепечатаны в комментариях к роману [188]188
М. Е. Салтыков(Щедрин), Сочинения, т. V, М. —Л. 1927, стр. 462–463.
[Закрыть], а в 1956 году воспроизведены в статье А. С. Саранцева «Из творческой истории романа Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» [189]189
«Уч. зап. Челябинского гос. пед. ин-та», 1956, т. II, вып. 1.
[Закрыть]. По-видимому, на первоначальной стадии работы над очерками, впоследствии составившими хронику головлевского семейства, Порфирий Головлев рассматривался писателем как второстепенный персонаж, не требующий специально углубленной характеристики [190]190
По этому поводу существует и другое мнение, изложенное в статье А. С. Саранцева, который полагает, что приведенные фрагменты исключены писателем ввиду их декларативности и преждевременности. В этой же статье дан содержательный анализ правки, произведенной Салтыковым при подготовке рукописи к печати и первого отдельного издания романа.
[Закрыть].
К первому очерку будущего головлевского цикла Салтыков относился сдержанно и даже высказывал сомнение в его художественных достоинствах. «Вероятно, Вам не понравилась, – писал он Некрасову 14 (2) октября 1875 года, – статья моя «Семейный суд». Я и сам вижу, что выходит и кропотливо и разорванно, да что же делать? – вообще мне за границей не пишется или пишется туго». Более четко эта мысль высказана в письме к Некрасову от 4 ноября (23 октября) 1875 года: «Кажется мне, многоуважаемый Николай Алексеевич, что чересчур уж Вы хвалите мой последний рассказ. Мне лично он не нравится. Кажется, что неуклюж и кропотливо сделан. Свободного, легкого творчества нет, а я всегда недоволен тем, что туго пишется».
В Изд. 1880(вып. между 1 и 16 июля) внесены следующие изменения.
Стр. 24, строка 3. После слов: «…Наша матушка-Русь православная!» – дополнено:
«Откупщики, подрядчики, приемщики – как только бог спас!»
Стр. 48, строка 18. После слов: «…что ему нечего ни ограждать, ни ухичивать» – сокращено:
Праздность одна была его уделом, и она до такой степени охватила его всего, что даже парализировала то бесконечное празднословие, которое так глубоко лежало в его природе. Он сделался молчалив или говорил отрывисто, односложными словами.
Последняя фраза была вычеркнута Салтыковым в связи с тем, что празднословие, здесь свойственное Степану Головлеву, стало в дальнейших главах основной характеристикой личности его брата Порфирия Головлева.
Начальная глава наиболее насыщена автобиографическими реминисценциями [191]191
См. подробнее Макашин,стр. 31, 41–42, 67–68.
[Закрыть]. Не случайно писатель взялся за первый головлевский очерк после смерти в 1874 году матери, Ольги Михайловны. За некоторыми образами и деталями «Семейного суда» угадываются подлинные имена, поступки, дела известных Салтыкову лиц.
Упоминание о «постылых детях» Арины Петровны, несомненно, связано с обычным в семье Салтыковых делением детей на «любимчиков» и «постылых». Назидательные поучения Арины Петровны Павлу («Помнишь ли, что в заповеди-то сказано: чти отца твоего и матерь твою – и благо ти будет…») живо напоминают наставления, бывшие в ходу в семействе Салтыковых. Отец писателя увещевал «непокорного» Николая Евграфовича: «Неужели тебе не известен закон божий, повелевающий чтить отца и матерь, да благо ти будет и долголетен будеши на земле, злословя же отца и матерь, смертию ты умрешь …» [192]192
Цитируется по кн.: Макашин,стр. 58. «Чти отца твоего и матерь твою» – это лейтмотив, – констатирует С. А. Макашин, – проходящий через все письма Евграфа Васильевича к сыну. При этом предметом его особой заботы является внушение чувства беспрекословной покорности и почтительности к матери, Ольге Михайловне» ( тамже, стр. 59).
[Закрыть]Рассказ Арины Петровны о «первых шагах на арене благоприобретения» отражает некоторые обстоятельства покупки О. М. Салтыковой в 1829 году ярославской части вотчины с селом Заозерье Угличского уезда.
В долгой и запутанной тяжбе о наследстве (1872–1874), которая затронула и Салтыкова, самая неприглядная роль принадлежала старшему брату, – писатель называет его «злым демоном», способным «вызуживать людей». «…Злой дух, обитающий в Дмитрии Евграфовиче, неутомим и, вероятно, отравит остаток моей жизни», – пишет он 7 апреля 1873 года матери. 22 апреля 1873 года Салтыков, отмечая, что у брата «одна система: делать мелкие пакости», довольно подробно живописует самый механизм, производящий эти пакости, набрасывает строки, в которых проглядывают контуры Иудушки: «…этот человек не может говорить резонно, а руководится только одною наклонностью к кляузам. Всякое дело, которое можно было бы в двух словах разрешить, он как бы нарочно старается расплодить до бесконечности… Не один я – все знают, что связываться с ним несносно, и все избегают его. Ужели, наконец, не противно это лицемерие, эта вечная маска, надевши которую этот человек одною рукою богу молится, а другою делает всякие кляузы?»
Последующие упоминания о Дмитрии Евграфовиче в салтыковских письмах выразительно дополняют его «Иудушкин» портрет. Так, летом 1873 года Дмитрий Евграфович сообщает свои соображения в форме письма к «милому другу маменьке», предварительно сняв с него копии для братьев. «Ну не досадно ли видеть этого празднолюбца, который свои письма (на целом листе) пишет в трех экземплярах?» – замечает Салтыков. Особым смыслом наполняется его обещание в письме к матери 20 ноября 1873 года: «Дмитрий Евграфович может быть уверен, что я попомню ему это». Через два года, 13 ноября 1875 года, в несохранившемся письме к Унковскому Салтыков, называя старшего брата «негодяем», заявляет: «Это я его в конце Иудушки изобразил» [193]193
Неизданные и несобранные письма Салтыкова (Публикация С. А. Макашина), ЛH, т. 67, стр. 531. Дата сожженного письма сообщена В. П. Кранихфельдом. Конец Иудушки означает здесь главу «Выморочный».
[Закрыть].
«Иудушкой, – вспоминала Панаева, – он звал своего родственника и через несколько лет воспроизвел его в «Головлевых» [194]194
А. Я. Панаева(Головачева), Воспоминания, Гослитиздат, М. 1956, стр. 362.
[Закрыть]. Даже «язык Иудушки является в основном пародированной речью Дмитрия Евграфовича» [195]195
E. M. Макарова, Жизненные источники образа Иудушки Головлева. – «Звезда», 1960, № 9, стр. 192.
[Закрыть].
Образ Арины Петровны вобрал в себя впечатления писателя от яркой и властной фигуры его матери. Исследовательская традиция сближает Владимира Михайловича Головлева с отцом сатирика, но, по-видимому, в еще большей степени своей набожностью и ханжеством Иудушка напоминает Евграфа Васильевича [196]196
См. Макашин, стр. 19–28.
[Закрыть].
Верные суждения об автобиографических истоках романа принадлежат близко знавшему писателя доктору Белоголовому: «Семья была дикая и нравная, отношения между членами ее отличались какой-то звериною жестокостью, чуждой всяких теплых родственных сторон; об этих отношениях можно отчасти судить по повести «Семейство Головлевых», где Салтыков воспроизвел некоторые типы своих родственников и их взаимную вражду и ссоры, – но только отчасти, потому что, по словам автора, он почерпнул из действительности только типы, в развитии же фабулы рассказа и судьбы действующих лиц допустил много вымысла» [197]197
«Салтыков в воспоминаниях», стр. 608.
[Закрыть].
«Семейный суд» сразу же был замечен читателями и критикой.
Восторженно отозвался об этой главе Тургенев: «Я вчера получил октябрьский номер – и, разумеется, тотчас прочел «Семейный суд», которым остался чрезвычайно доволен. Фигуры все нарисованы сильно и верно: я уже не говорю о фигуре матери, которая типична – и не в первый раз появляется у Вас – она, очевидно, взята живой – из действительной жизни. Но особенно хороша фигура спившегося и потерянного «балбеса». Она так хороша, что невольно рождается мысль, отчего Салтыков вместо очерков не напишет крупного романа с группировкой характеров и событий, с руководящей мыслью и широким исполнением? Но на это можно ответить, что романы и повести до некоторой степени пишут другие – а то, что делает Салтыков, кроме его, некому. Как бы то ни было – но «Семейный суд» мне очень понравился, и я с нетерпением ожидаю продолжения – описания подвигов «Иудушки» [198]198
Тургенев, Письма, XI, 149.
[Закрыть]. Соредактор Салтыкова и Некрасова по «Отеч. запискам» Г. З. Елисеев тоже приветствовал появление первого головлевского рассказа: «Мне он тоже очень нравится, но более нравятся те статьи, которые соприкасаются с вопросами и явлениями текущего времени» [199]199
Письма Г. З. Елисеева к М. Е. Салтыкову-Щедрину, М. 1935, стр. 26.
[Закрыть].
Благожелательные отклики в печати не обладали, однако, той же степенью проницательности и чуткости, какую обнаружил в своем отзыве Тургенев. Но и первые газетные рецензенты заметили необычность повествовательной манеры, отсутствие «нарочито-благонамеренных речей, отличающихся мнимым патриотизмом или поддельной гуманностью». Салтыкова оставляет «игривость веселой музы», и он возвышается, считал критик, до «мрачной торжественности, идущей к строгому моралисту». Строились догадки относительно продолжения «головлевского» сюжета: «..за этим очерком вероятно, последуют другие, потому что, по замечанию автора, нынешний рассказ посвящается преимущественно первому брату. Два остальные брата – Порфирий, прозванный за свое бесчувствие и лукавство «Иудушкою-кровопивушкою», и Павел, равнодушный флегматик».
Складывалось одностороннее представление об очерке, имеющем будто бы чисто историческое значение: «Это нечто вроде обличительной хроники из времен покойного крепостного права» [200]200
В. М. <В. В. Марков>, Лит. летопись. – « СПб. вед.», 1875, № 289, 28 октября.
[Закрыть]. «Но что же это значит, – спрашивал другой рецензент, – что наш сатирик снова обратился к своим старым темам и перенес обличение общественных недугов опять в область невозвратно прошедшего времени, давно уж им же разобранного и сведенного к итогу?» [201]201
В. С. <Вс. С. Соловьев>, Русск. журналы. – «Русск. мир», 1875, № 202, 25 октября, стр. 2.
[Закрыть]«…Это бытовая повесть, – писал А. Скабичевский, – и если хотите, историческая, потому что рисует нам нравы отжившего прошлого, которое хотя бы сделалось прошлым не далее, как вчера, но все-таки успело уже вступить в пределы истории» [202]202
Заурядныйчитатель<А. М. Скабичевский>, Мысли по поводу текущей литературы. – БВ, 1875, № 307, 7 ноября, стр. 1–2.
[Закрыть]. Особой удачей Салтыкова признавался образ Арины Петровны [203]203
Русск. литература, – «Сын отечества», 1875, № 302, 31 декабря, стр. 1–2.
[Закрыть].