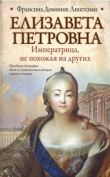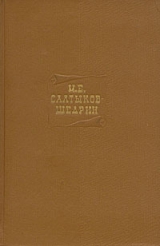
Текст книги "Том 13. Господа Головлевы. Убежище Монрепо"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 52 (всего у книги 61 страниц)
…в Москву для сбора оброков с проживающих по паспортам крестьян… – Крепостные, занятые «отхожими промыслами» и ремеслами, получали временныепаспорта и жили в городах на оброке, размер его произвольно определялся помещиками.
Рекрутское присутствие– учреждение, существовавшее в губерниях до 1874 года и ведавшее набором рекрутов– лиц мещанского и крестьянского сословия, предназначенных отбывать воинскую повинность.
Помещик нередко старался сбыть в рекруты всех наиболее «строптивых» и «непослушных».
…разузнавала по секрету об отношениях их владельцев к опекунскому совету… – В 1808 году при опекунскихсоветах– учреждениях, призванных заботиться о сиротах и вдовах преимущественно дворянского звания, – была учреждена ссудная касса, которая, для поддержки разоряющихся дворян, выдавала ссуды под залог имения и другого имущества. Имения владельцев, не уплативших в срок полученной ссуды, продавались с аукциона.
Надворный суд– учреждение для разбора гражданских и уголовных дел, касающихся собственности; надворныесудыпоявились в Москве и Петербурге еще при Петре I, часто реорганизовывались, просуществовав до 1866 года.
…он прогорел окончательно и был рад-радехонек поступить, в качестве заместителя, в ополчение… – 29 января 1855 года, во время Крымской войны, Николай I обратился ко всем сословиям с манифестом, содержавшим призыв «приступить к всеобщему государственному ополчению». Не желавшим воевать дворянам дозволялось нанимать себе за плату менее состоятельных « заместителей».
Суздаль-монастырь– Спасо-Евфимиевский мужской монастырь в городе СуздалеВладимирской губернии; кроме монахов, в нем содержались административно-заключенные, сосланные за преступления против веры и церкви (см. т. 6, стр. 685–686).
Выжига– здесь: чистое серебро, которое остается по сожжении пряденого или тканого серебра.
А мне водка даже для здоровья полезна… Мы, брат, как походом под Севастополь шли – еще до Серпухова не дошли, а уж по ведру на брата вышло! – Столичные и провинциальные газеты пестрели такими сообщениями: «Везде, где только останавливались ратники, их встречали духовенство с святыми иконами, почтеннейшие лица из дворянства и городских и сельских обывателей, угощали по чисто русскому обычаю водкою и закускою, а всем гг. офицерам давали, где только возможно, обеденный стол» («Русск. инвалид», 1855, № 212, 30 сентября). «По совершении молитвы ратники приглашены были к трапезе. Для любознательных приписываю, в чем состоял обед: чарка водки, щи с говядиной, пироги, каша с маслом и яблоки по два на ратника…» («Сев. пчела», 1855, № 182, 22 августа).
«А завтра – где ты, человек?» – Из оды Державина «На смерть князя Мещерского» (1779).
…говорил преосвященный Смарагд, когда мы через Обоянь проходили. Через Обоянь ли? А черт его знает, может, и через Кромы! – ПреосвященныйСмарагд(мирское имя Александр Крыжановский) – с 1844 по 1858 год архиепископ орловский, с 1858 г. рязанский и зарайский. Салтыков знал его по своей службе вице-губернатором в Рязани. Обоянь– городок Курской губернии, Кромы– Орловской губернии.
Земский– старший писарь при помещичьей «вотчинной» конторе или при бурмистре.
Полоток– половина распластанной птицы (соленой, вяленой, копченой).
Мытаря судить приехали?.. вон, фарисеи… вон! – По евангельским притчам, фарисеифискалят Христу на мытарей (Марк, II, 16, 18, 24), совещаются, как погубить Христа (Марк, III, 6).
Куранты —плутни, проделки. Ср. у Даля: «Это финти-фанты, немецкие куранты, т. е. плутни» (« Толковыйсловарь…», т. II, М. 1955, стр. 221).
Ухичивать– укрывать, защищать от холода, мороза, уготовить к зиме.
Соборне– служба с несколькими священниками.
Сорокоусты– молитвы об умерших; их читают в церкви в течение сорока дней после смерти.
В горних– то есть в небесах, в раю.
По-родственному *
Впервые – ОЗ,1875, № 12 (вып. в свет 21 дек.), стр. 337–378 под заглавием «Благонамеренные речи. XVII. По-родственному».
Сохранилась наборная рукопись с типографской разметкой и авторской правкой под заглавием «Благонамеренные речи. XVII. По-родственному». Первоначальное заглавие (зачеркнутое) «Благонамеренные речи. XVII. Наследство». Текст рукописи совпадает с журнальной публикацией.
Рассказ написан в Ницце в октябре – ноябре 1875 года. «У меня уже около ⅓ написано нового рассказа «Наследство», тоже принадлежащего к серии «Благонамеренных речей», – я пришлю его Вам, вероятно, к 1-му декабря старого стиля», – сообщает Салтыков Некрасову 10 ноября (29 октября), а 26(14) ноября уточняет: «Я в понедельник (20-го) Вам вышлю новый рассказ для декабрьской книжки. Вы получите его около 23-го ноября старого стиля».
При подготовке отдельных изданий автором проводилась небольшая стилистическая правка. Лишь в 1883 году (во втором издании) Салтыков добавил несколько мелких штрихов в характеристику Иудушки, в этом рассказе заметно выдвинувшегося на первый план и, по существу, ставшего уже центральной фигурой развертывающегося повествования. Так, в конце главы (стр. 86), где говорится о «злости» как одной из характерных черт Иудушки, Салтыков в Изд. 1883добавляет в скобках пояснение: («даже не злость, а скорее нравственное окостенение»). В журнальной публикации Арина Петровна, подавленная празднословием Иудушки, забывшего прежние ее наставления, думает: «А может быть, и не позабыл, а нарочно делает, мстит». В Изд. 1883эта мысль существенно дополнена: «А может быть, даже и не мстит сознательно, а так, нутро его, от природы ехидное, играет» (стр. 91). Эти дополнения сделаны после завершения работы над хроникой, когда тип Иудушки уяснился во всех мельчайших деталях. При подготовке Изд. 1880Салтыков изменил имя сына Иудушки: первоначально он назывался Мишенька.
В отличие от всех остальных глав, действие настоящего очерка происходит не в Головлеве, а в соседнем имении Дубровино, принадлежащем умирающему Павлу Владимирычу.
Рассказ о переживаниях Арины Петровны накануне крестьянской реформы, о «целой массе пустяков», которую рисовало ей воображение, перекликается с очерком «Госпожа Падейкова» («Сатиры в прозе», т. 3, стр. 295–310), героиня которого, Прасковья Павловна, известная в целом околотке «как дама, которой пальца в рот не клади» (один из первых набросков типа Арины Петровны Головлевой), страшно напугана и озлоблена вестями о предстоящих переменах, когда, может случиться, крепостная Феклуша «с барыней за одним столом будет сидеть».
Рассказ получил широкое признание в литературных кругах: «По поводу рассказа «По-родственному», – писал Салтыков Некрасову 19 (7) января 1876 года, – я отовсюду получаю похвалы. Анненков в умилении, даже Тургенев, который вообще предпочитает умалчивать, поздравляет меня…»
Среди немногочисленных печатных откликов на главу [204]204
См., например, положительный отклик: П. В-б-ъ <П. И. Вейнберг>, Русск. журналистика. – «Пчела», 1876, № 1, 18 января, стр. 7-10.
[Закрыть]выделяются рассуждения Скабичевского: «Знаете ли вы, приходило ли вам в голову подумать, что такое г. Щедрин. Ведь это один из тех народных и вместе с тем общечеловеческих сатириков вроде Рабле, Мольера, Свифта, Грибоедова и Гоголя, смех которых раздается громовыми раскатами под сводами веков». А. М. Скабичевский утверждал далее, что «в лице г. Щедрина мы имеем сатирика, который, наверное, будет со временем беспристрастными судьями-потомками поставлен не только на одну высоту с Гоголем, но во многих отношениях выше его» [205]205
Заурядныйчитатель<А. М. Скабичевский>, Мысли по поводу текущей литературы. – БВ, 1876, № 91, 2 апреля, стр. 1–2. Известен отрицательный отзыв Салтыкова на статью Скабичевского (см. письмо к Некрасову от 18 апреля 1876 г.).
[Закрыть].
«…Кувырком, кувырком, ку-выр-ком по-ле-тит!» – Популярная строка из арии Елены (опера-буфф Оффенбаха «Прекрасная Елена»). «Работа была не совсем легкая, – пишет А. Вольф об усилиях русских переводчиков либретто, – то есть не было возможности приискать на русском языке выражений, соответствующих парижско-бульварному жаргону. Например, долго ломали себе голову – как перевести: «cascader ma vertu», и, наконец, подыскали совсем не подходящее выражение «кувырком» (Хроника петерб. театров, СПб. 1884, ч. III,стр. 40).
Заволока– старинный способ лечения нарывов: при помощи иглы в воспаленное место вводится тесьма ( заволока), вбирающая в себя гной.
Сначала простые слухи, потом дворянские собрания с их адресами, потом губернские комитеты, потом редакционные комиссии… – В преддверии крестьянской реформы правительство обращалось с «призывами» к дворянству проявить инициативу в деле «улучшения быта сельского сословия». В «высочайшем рескрипте» Александра II, адресованном в 1857 году виленскому генерал-губернатору Назимову и поощрявшем намерения некоторых помещиков литовских губерний постепенно улучшать участь крепостных, содержалась характерная приписка: «Вы и начальники вверенных вам губерний обязаны строго наблюдать, чтобы крестьяне, оставаясь в полном повиновении помещикам, не внимали никаким злонамеренным внушениям и лживым толкам» ( MB, 1857, № 152, 19 декабря). Вопреки этим оговоркам слухиоботменекрепостногоправавызывали страх и панику в помещичьей среде. В течение 1858 года крестьянские комитетыбыли открыты во всех губерниях. Учрежденные в 1859 году редакционныекомиссии, назначавшиеся правительством, призваны были подвести итоги работы губернских крестьянских комитетов, рассмотреть представленные ими проекты и материалы, подготовить новое законодательство.
…в самом кумполе свет, и голубь на него смотрит! – По христианским представлениям, бог «троичен в лицах»: бог-отец, бог-сын и бог-дух. Бог-дух изображается в виде голубя.
Хотьков —Покровский-Хотьков девичий монастырь в Дмитровском уезде Московской губ. Там похоронена О. М. Салтыкова, мать писателя.
Узнает адвокат, что у тебя собственность есть, – и почнет кружить! – Намек на события, обсуждавшиеся русской прессой в пору работы Салтыкова над очерком. В связи с рядом скандальных процессов адвокатская тема не сходит со страниц петербургских газет. «Закон вызвал его к жизни в 1865 году, – писал об институте адвокатов Боборыкин. – Прошло всего пять лет, и общество уже переполнено было неодобрительными толками об этом новом сорте людей… Слово «адвокат» превратилось в целый ряд насмешливых и даже просто презрительных прозвищ: аблакат, дровокат, брехунец и т. д.» (« СПб. вед.»,1875, № 308, 16 ноября). Газеты сообщали, к примеру, как находившийся под следствием миллионер, мельник Овсянников, дал своему адвокату Думашевскому обязательство уплатить несколько десятков тысяч рублей за одно только умелое «составление жалоб» (« СПб. вед.», 1875, № 238, 7 сентября, и № 245, 14 сентября).
Начнет: Помилуй мя, боже, по велицей милости твоей, и вдруг сама не знает как, съедет на от лукавого. – Начальные строки псалма перебиваются заключительными словами молитвы «Отче наш» («Но избави нас от лукавого»).
…блажен муж… яко кадило… научи мя…– Начальные слова псалма III.
Месячина– содержание дворовых и крепостных, выдававшееся помесячно продуктами питания.
Не ве́сте– не знаете (церковнослав.).
«Начатки». – Имеется в виду один из распространенных первоначальных учебников по закону божию. Ср., например: Начатки. Приготовление к христианскому учению… СПб. 1873. Или: Начатки учения православной христианской веры… А. Свирелин, М. 1874.
Проскомидия– первая часть христианской обедни (литургии).
У ближнего сучок в глазу видим, а у себя и бревна не замечаем… – Слова из Евангелия: «Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего» (Матф., VII, 3–5).
Афон– православный греческий мужской монастырь на Халкедонском полуострове у Эгейского моря (см. также т. 3, стр. 634; т. 5, стр. 541).
…мамзель Лотар<…> в« Прекрасной Елене» <…> она на театре Елену играет. – Опера-буфф Ж. Оффенбаха, пародирующая античный сюжет о Троянской войне, пользовалась в 70-е годы в Петербурге необычайной популярностью. В сезон 1866/67 года на сцене Михайловского театра опереточная актриса Лотар играла в «Прекрасной Елене» Ореста, а не Елену (А. Вольф, Хроника петерб. театров, ч. III, СПб. 1884, стр. 158). См. т. 10, стр. 689.
Покойная Лядова– известная в 60-е годы в Петербурге опереточная актриса. Внезапная кончина В. А. Лядовой (1870 г.) «страшно поразила весь театральный мир; опереткоманы совсем приуныли, лишившись самой блистательной представительницы каскадного жанра» (А. Вольф, Хроника петерб. театров, ч. III, СПб. 1884, стр. 41).
Сергиева пустынь– мужской монастырь под Петербургом.
Трисвятую песнь припевающе– слова из «Херувимской», духовной песни, исполняемой во время обедни.
Ханаанская земля– Так в Библии названа Финикия, славившаяся исключительным плодородием.
…душа<…> в среднее какое-то место поступает. – Имеется в виду чистилище, где, согласно учению церкви, души умерших, прежде чем попасть в рай, испытаниями очищаются от грехов.
…в Париже, сказывают, крыс во время осады, ели. – В таком пошло преувеличенном виде доходили до провинциальных помещиков слухи, основывающиеся, в частности, на сообщениях газет, о голоде во время осадыПарижанемцами в 1870 году (эпизод франко-прусской войны). «Неделя» передавала подслушанный газетным репортером разговор парижан в дни осады города: «…нам предстоит научиться побеждать предрассудки нашего желудка. Даже те, кто не любит баранины, должны принести свой вкус в жертву своей родине. Очень легко может статься, через несколько недель и тем желудкам, которые имеют предубеждения против крыс, тоже придется победить этот предрассудок» («Неделя», 1870, № 40, 8 октября).
Семейные итоги *
Впервые – ОЗ,1876, № 3 (вып. в свет 22 марта), стр. 227–270, под заглавием «Благонамеренные речи. XVIII. Семейные итоги».
Сохранилась наборная рукопись (лл. 1-11, 14–16 рукой Е. А. Салтыковой, лл. 12–13, 17–23 – рукой Салтыкова) с типографской разметкой и правкой автора под заглавием «Благонамеренные речи. XVIII. Семейные итоги». Текст рукописи совпадает с журнальной публикацией.
Рассказ написан в Ницце в январе – феврале и выслан в Петербург в два приема: основная часть в последних числах февраля, конец рассказа – 4 марта.
При подготовке Изд. 1880Салтыков, помимо стилистической правки и устранения ошибок и опечаток, внес ряд исправлений в текст рассказа, устранив несоответствия с предыдущими главами: изменено имя второго сына Иудушки, уточнена сумма казенных денег, растраченных Петенькой, и т. д., но оставлено создающее хронологическое смещение в фабуле указание на 30-летнюю службу Головлева в департаменте. У 53-летнего Головлева к моменту отставки, случившейся 10 лет тому назад, не могло быть такого административного «стажа».
Глава мыслилась как завершающая, однако при продолжении романа автор сохранил первоначальный заголовок, подчеркивая, что домашние, «родственные» отношения в семействе Головлевых окончательно распадаются, обессмысливаются, оборачиваются своими противоестественно жестокими сторонами.
Встречающееся в главе изображение снежной русской зимы, исполненное мотивов умирания и щемящей грусти («…земля на неоглядное пространство была покрыта белым саваном»), непосредственно восходит к знаменитой картине природы в «Кузине Машеньке» («Благонамеренные речи». XII): «Саваны, саваны, саваны!»
«Семейные итоги» были положительно оценены критикой и читателями [206]206
См., например, Русск. литература. – «Сын отечества», 1876, № 86, 17 апреля.
[Закрыть]. «Прочтите в мартовской книге «Отечественных записок» Щедрина продолжение «Благонамеренных речей» о «Иудушке», – писал 9 апреля 1876 года П. М. Третьяков И. Н. Крамскому. – Огромный талант! До настоящего времени я его считал только прекрасным сатириком и, даже замечая повторение одного и того же, некоторое время не все читал даже, теперь же после таких типов, как Иудушка и маменька, да и вообще – мастерского рассказа, я его ужасно высоко ставлю и вперед не пропущу ни одной статьи его» [207]207
Переписка И. Н. Крамского, И. Н. Крамской и П. М. Третьяков. – Искусство, М. 1953, стр. 135.
[Закрыть]. Рецензенты отмечали усилившийся драматизм повествования. «Казалось, что после «Истории одного города» г. Щедрин ничего не напишет лучшего, что это chef d’oeuvre его деятельности, – размышлял Скабичевский. – Но в последних «Благонамеренных речах» его – в «Семейном суде», «По-родственному» и в «Семейных итогах» – открывается еще новая сторона его таланта: именно уменье выставлять не только одну смешную, пошлую сторону жизни, но и обнаруживать в этой пошлой стороне потрясающий трагизм. Главный герой этих трех рассказов, Порфирий Головлев, возбуждает в вас не один уже смех, но отвращение, смешанное с ужасом» [208]208
Заурядныйчитатель<А. М. Скабичевский>, Мысли по поводу текущей литературы. – БВ, 1876, № 91, 2 апреля.
[Закрыть].
Очерк Салтыкова – это «картина старопомещичьего вырождения, целая эпопея чисто трагического характера, несмотря на то, что она преисполнена самой обыденной прозы и даже пошлости». «Главные два лица семейной драмы: старуха и сын ее Порфирий, прозванный Иудушкой, достигают размеров вполне художественных и типических фигур. Это, действительно, продукты целой культурной полосы» [209]209
Литература и журнализм. «Благонамеренные речи», XVIII; «Семейные итоги» Н. Щедрина… – «Молва», 1876, № 14, 4 апреля.
[Закрыть].
…заговаривает о девах, погасивших свои светильники. – Евангельская притча о десяти девах, встречавших со светильниками жениха. Пять неразумных дев не взяли с собой масла, и, когда жених задержался, светильникиу них погасли, и девы не поспели на брачный пир (Матф., XXV, 1-12).
«Филозов без огурцов» – заключительные слова басни Крылова «Огородник и философ».
…в ту коронацию– в коронацию Николая I в 1826 году.
«Перикола» – оперетта Оффенбаха (1868 г.), с успехом шедшая на русской сцене (см. т. 10, стр. 771–772).
«Анютины глазки». – «Барская спесь и Анютины глазки» – переводный французский водевиль, переделанный для русской сцены в 60-е годы.
…один на Плеваку похож<…> Другой<…> вроде петербургского Языкова. – В газетах 70-х годов помещались подробнейшие отчеты о судебных заседаниях с воспроизведением адвокатских выступлений, что не в последнюю очередь создавало популярность их авторам. Ф. Н. Плевако– известный адвокат и судебный оратор, славу которому приносили его речи на различных «скандальных» процессах. А. И. Языков– петербургский адвокат 60-70-х годов, чье увлечение поэзией, сочинительством, переводами, публиковавшимися в «Вестнике Европы», послужило поводом к иронической строке: «…расстроил себе воображение чтением «Собрания лучших русских песен и романсов»
…помяни, господи, царя Давида и всю кротость его! – Молитва, предотвращающая гнев и немилость сильных (Псалт., 131, ст. 1–2).
У Иова <…> бог и все взял, да он не роптал… – По библейскому преданию, бог поразил праведника Иовапроказой, отнял у него все земные блага, чтобы испытать его благочестие (книга Иова).
Племяннушка *
Впервые – ОЗ,1876, № 5 (вып. в свет 23 мая), стр. 149–194, под заглавием «Благонамеренные речи. Перед выморочностью».
Сохранилась наборная рукопись, под заглавием «Благонамеренные речи. Выморочный», с типографской разметкой и правкой автора. На л. 14 об. карандашная надпись неизвестной рукой: «Перед выморочностью». Текст рукописи соответствует журнальной публикации.
Салтыков начал работу над рассказом 18 (6) апреля в Париже. В отправленном в этот день письме к Некрасову он сообщал: «Поощренный Вашим отзывом, об «Семейных итогах», я сегодня начал писать конец Иудушки. Не знаю, что еще выйдет, но ежели выйдет, то к 10–12 мая ст. ст. получите. Я думаю, для майской книжки это не поздно будет, потому что, по-видимому, сроки выхода книжек сами собой отдалились до 20-го. Впрочем, я 5-го числа ст. ст. телеграфирую Вам, нужно ли ожидать или нет. Я еще хорошенько и сам не наметил моментов развития, а тема в том состоит, что все кругом Иудушки померли, и никто не хочет с ним жить, потому что страшно праха, который его наполняет. Таким образом, он делается выморочным человеком». Салтыков работал над рассказом менее месяца: 8 мая (26 апреля) он отправил Некрасову первую половину рукописи, обещая к 10 мая ст. ст. прислать остальное. Однако закончил работу Салтыков раньше намеченного срока. В письме от 15 (3) мая он уже сообщал Некрасову: «Посылаю Вам <…> конец рассказа: слава богу, что ко времени кончил и даже прежде, чем обещал. Прошу Вас переменить заглавие: вместо «Выморочный» поставить «Перед выморочностью». Во время писанья получилось некоторое развитие подробностей, которое помешало кончить совсем эту материю».
При подготовке Изд. 1880Салтыков переменил заглавие очерка и, кроме того, произвел ряд сокращений, устраняя главным образом длинноты.
Так, в «Отеч. записках» было:
Стр 134, строка 14 сн. После слов: «Вот и ум твой!»:
Ты на ум надеялся, он, бог-то, сверху – тук-тук: не надейся на ум, а надейся на бога!
Стр. 135, строка 18 сн. После слов: «…и думал об том, как бы успокоить доброго друга маменьку»:
– Приедет она из Погорелки, – говорит он сам себе, – что ж, милости просим! Икорки захочется – икорку на стол ставь! индюшка есть – индюшку волоки! И тепленько у нас, и уютненько – чего бы еще, кажется!
Стало быть, это – только так, только померещилось милому другу маменьке. Полно, здорова ли она? не перед смертным ли часом ей вдруг бунтовать вздумалось.
Стр. 167, строка 20. После слов: «Аннинька торопливо глотала ложку за ложкой»:
– Ах, как ты скоро ешь! – продолжал он, покачивая головой, – уехать, видно, поскорее хочется, скучно со стариком дядей в деревне лишний часок побыть! Что ж, друг мой, извини! чем богаты, тем и рады! И при папеньке покойном, в Головлеве, балов не бывало, и маменька – дай бог ей царство небесное! – их не жаловала, а я так и терпеть не могу!
Стр. 169, строка 12. После слов: «…чтоб попрощаться с ним»:
– Погоди! – остановил он ее строго, – сперва дай богу помолиться, а потом и за обед благодари!
Помолились богу, поцеловались, а Иудушка все еще не выказывал намерения расстаться с милой племяннушкой.
– Посидим, как добрым людям следует, да побеседуем, да богу помолимся – и в путь!
Пошли в образную, сели.
– И куда только ты едешь? какую пользу для себя приобретешь? – беседовал Порфирий Владимирыч.
– Право, дядя, иначе не могу. Я сказала вам, что приеду… ну, ей-богу, приеду – уверяла Аннинька.
– А не то, осталась бы! право, осталась бы! стой, я велю лошадей распрячь!
– А сестра же как?
– Сестре и написать можно… добро! оставайся! оставайся!
– Письмо сестру не убедит. Непременно я должна лично переговорить с нею. Нет, уж вы отпустите меня!
– Отпустите да отпустите – заладила одно! Ты говори: приедешь ли?
– Приеду… ну, право, приеду!
– Честное слово?
– Честное слово. Прощайте, дядя!
– Ну, нечего с тобой делать – ступай! Так смотри же, возвращайся! Не обмани дядю, нехорошо дядю обманывать. До лета оканчивай дела, а к лету приезжай! Вместе грибы поедем в лес сбирать!
– Приеду, приеду, дядя! прощайте!
На этот раз Аннинька решилась во что бы то ни стало покончить. Она расцеловала дяденьку, простилась с Евпраксеюшкой, и хотя Порфирий Владимирыч предлагал ей и еще посидеть, но она притворилась, что не слышит, и убежала в переднюю.
Эпизод с Петенькой, по-видимому, навеян впечатлениями от реальных отношений брата Дмитрия Евграфовича с сыном. В ответ на просьбу сына о денежной помощи отец многословно наставлял: «Пора и тебе жить не по-теперешнему, но действительно честно и вполне нравственно. Пора и тебе отличать мишуру от золота, ложь от правды, подлость от честности и чистоту нравственности от безнравственности…» и т. п. [210]210
Частично опубликовано в ЛН(т. 13–14, стр. 462). См. также Л. В. Елизарова, К творческой истории романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». – Уч. зап. Дальневосточного ун-та, 1966, вып. 10.
[Закрыть]
Глава вызвала немало преимущественно благожелательных отзывов в прессе [211]211
L. V., Русск. журналы… – «Современные известия», 1876, № 204, 19 июня; Литература и журнализм. – «Молва», 1876, № 31, 1 августа, и др.
[Закрыть]. Критика отмечала выдающиеся художественные достоинства очерка, вновь сопоставляя Иудушку с мольеровским Тартюфом [212]212
С. С. <С. Сычевский>, Журн. очерки… – «Одесск. вестник», 1876, № 127, 11 июня.
[Закрыть]. Аннинька, «героиня нового рассказа», «очень удалась автору»; писатель «не станет спасать ее и наставлять на путь истинный, не заставит ее бороться там, где она по своему характеру бороться не в силах. Аннинька в рассказе г. Щедрина является совершенно живою фигурою; художественный талант автора не навешал на нее ни особенных добродетелей, ни особенных пороков»; «…доброе, грустное чувство мы заметили в новом <…> рассказе. Оно-то и придало художественное значение фигуре Анниньки» [213]213
Вс. С-въ <Вс. С. Соловьев>, Совр. литература… – «Русск. мир», 1876, № 147, 30 мая.
[Закрыть].
…что́ в Писании-то сказано: без воли божьей… – Это насчет во́лоса? – Имеется в виду известное библейское изречение: «ни один волос его не упадет» ( Третьякн. царств, I, 52).
Лития– молитва, установленная в православном богослужении, в частности для поминовения об умершем, совершаемая по желанию его родственников.
«Где стол был яств – там гроб стоит»,«… и бледна смерть на всех глядит». – Из оды Державина «На смерть князя Мещерского».
…проповедь Петра Пикардского… – Намек на знакомство героини с историей средних веков. ПетрПикардский– вдохновитель первого крестового похода (XII в.).
…дополнила их некоторыми биографическими подробностями из жизни великолепного князя Тавриды… – Вероятно, имеется в виду составленное С. Н. Шубинским и изданное в 1876 году «Собрание анекдотов о кн. Г. А. Потемкине с биографическими о нем сведениями и историческими примечаниями».
«Герцогиня Герольштейнская» – оперетта Оффенбаха (1876). См. т. 10, стр. 736.
ажитирован– сильно взволнован, возбужден (от франц.agiter).
Зажора– вода, оставшаяся под тонким слоем снега или льда.
Дагерротипные портреты– изображения на медных пластинках, покрытых слоем йодистого серебра (по имени фоанцузского художника Дагерра, который изобрел этот способ в 1829 г.). В 60-70-х годах дагерротипы заменила фотография.
Шалоновая ряска– священническая одежда, сшитая из шерстяной ткани, производившейся во французском городе Шалоне.
Недозволенные семейные радости *
Впервые под заглавием «Семейные радости» – ОЗ,1876, № 12 (вып. в свет 12 дек.), стр. 483–512.
Рукописи и корректуры не сохранились.
Рассказ написан, по-видимому, в конце октября – первой половине ноября. Возможно, что мысль об оформлении темы нового Иудушкина семейства в качестве самостоятельной главы навеяна Салтыкову восторженным отзывом поэта А. М. Жемчужникова о напечатанных главах головлевской хроники, в котором он, между прочим, писал: «Я пожалел, что Вы в своем месте не описали подробнее сцены родов Евпраксеюшки. Мне в это время представляется Иудушка ожидающим с одинаковой покорностью воли провидения – благополучного и несчастного исхода родов. Он только тревожится тем обстоятельством, что результат остается долго неизвестным, и принимается несколько раз за воздевание рук. Я говорю это не в виде «критики», а потому, что мне Иудушка очень интересен, и я хотел бы его видеть побольше живым» ( ЛН, 13–14, стр. 349). Таким образом, эта глава выросла из трехстраничного фрагмента в опубликованном ранее рассказе «Выморочный», что подчеркивается и примечанием в тексте главы: «Сцена эта была уже напечатана в рассказе «Выморочный», но, по обстоятельствам, оказывается здесь необходимою. В особом издании «Головлевской хроники» будут сделаны соответствующие изменения. Автор» ( ОЗ, 1876, № 12, стр. 508). Специальная разработка этой темы писателем не предусматривалась, а поэтому в примечании к заглавию рассказа ему пришлось обосновать перед читателем необходимость обращения к мотивам, затронутым в главе «Выморочный», напечатанной за четыре месяца до появления настоящего очерка: «Прошу у читателей извинения, что возвращаюсь к эпизоду, которого однажды уже коснулся. По напечатании рассказа «Выморочный» («Отеч. зап»., 1876, № 8), не раз приходилось мне слышать, что я недостаточно развил отношения Иудушки к его новой, приблудной семье, в лице второго Володьки. А так как отношения эти, действительно, представляют, в жизни Иудушки, момент очень характерный, то я и решился пополнить настоящим рассказом сделанный пробел. Для тех, которым история Иудушки успела уже прискучить, считаю не лишним заявить, что еще один рассказ – и семейная хроника головлевского дома будет окончательно заключена. Авт.» ( ОЗ, 1876, № 12. стр. 483).
При подготовке Изд. 1880Салтыков произвел тщательную стилистическую обработку текста, сопровождавшуюся небольшими дополнениями отдельных слов и фраз, и вычеркнул ряд фрагментов журнального текста, наиболее значительные из которых приводятся ниже:
Стр. 185, строка 16–17. После слов: «…Иудушка и перед самим собой сознаться не хотел»:
Даже молитвенные его стояния, прежде столь правильные и ясные, с наступлением «беды», в значительной мере замутились. Это была не молитва, а скорее какое-то отчаянное усилие убить «беду» словами молитвы. И так как «умная» молитва помогала слабо, то он начинал выговаривать слова вслух, как бы надеясь криком отвлечь свою мысль от ненавистного представления «беды». Но «беда» побеждала даже молитвенные уловки. Она предстояла всегда и везде; она запутывала язык и заставляла произносить слова совсем не подходящие (например, о «благополучном разрешении»), которые, яко соединенные с мыслию о прелюбодеянии (тьфу! тьфу!), до сих пор отнюдь не входили в план обыкновенного молитвенного стояния. Выходило, что не молитва убивала «беду», а наоборот. И в то время, как губы продолжали шептать слова, лишенные всякого внутреннего смысла, мысль, отданная в жертву каким-то беспорядочным и противоречивым мельканиям, в свою очередь, раздвоялась. То мелькнет нечто о «благополучном разрешении», то откуда-то издалека вынырнет предположение: а что, если б ничего этого не было? если бы вдруг?.. Эта последняя мысль особенно как-то назойливо мечется. Сначала она чуть брезжит, но потом разрастается – разрастается и начинает из области предположений переходить в область действительного воплощения. Иудушка стоит перед образом, сложивши руки ладонями внутрь, но губы его уже не шевелятся и глаза не поднимаются горе, а пристально и безучастно глядят через окно на бесконечно стелющееся царство зимы.
Мысленные мелькания так и давят его. Тут и железная дорога откуда-то появляется: вагон… тендер… камень на дороге… тррах! – и нет ничего! Потом тройки какие-то: сани… ухабы… несъезженные лошади… тррах! – и опять ничего нет! А наконец, и просто волшебство – нет ничего, да и все тут!
Словом сказать, внутри Иудушки, не переставая, совершался какой-то странный психологический процесс. Мысль официальная, насильственно введенная, усиливалась побить мысль коренную, возникшую естественно.
Стр. 186, строка 9. После слов: «…она ко всему относилась безучастно»:
…Была счастлива единственно тем, что имела возможность спать на пуховиках, без спросу брать сахар, есть огурцы и пить квас…
Стр. 187, строка 21 сн. После слов: «…не сбиваясь с однажды намеченной колеи»:
…и что самая плотская связь его основана преимущественно на том расчете, что она еще больше привяжет Евпраксеюшку к его интересам и подстрекнет ее ретивость.
Стр. 187, строка 18 сн. После слов: «…напоминало ему о предстоящей «беде»:
Ей было тем легче выполнить этот план, что фактически, ради освобождения Евпраксеюшки от беготни, обиход головлевского дома уже был у нее в руках. Она воспользовалась этим очень ловко, так что Порфирий Владимирыч не только не заметил разницы к худшему, но, напротив, на всем увидел руку еще более заботливую и при этом почувствовал себя уже вполне свободным от каких бы то ни было стеснений, неизбежных в сношениях с близким по плоти лицом.
Стр. 188, строка 6 сн. После слов: «…так, очертя голову, действовали!»: