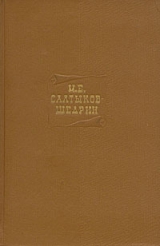
Текст книги "Том 13. Господа Головлевы. Убежище Монрепо"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 61 страниц)
«Кровопийца!» – так и вертелось на языке у Анниньки. Но она сдержалась, быстро налила себе стакан воды и залпом его выпила. Иудушка словно нюхом отгадывал, что в ней происходит.
– Что! не нравится! – что ж, хоть и не нравится, а ты все-таки дядю послушай! Вот я уж давно с тобой насчет этой твоей поспешности поговорить хотел, да все недосужно было. Не люблю я в тебе эту поспешность: легкомыслие в ней видно, нерассудительность. Вот и в ту пору вы зря от бабушки уехали – и огорчить старушку не посовестились! – а зачем?
– Ах, дядя! зачем вы об этом вспоминаете! ведь это уж сделано! С вашей стороны это даже нехорошо!
– Постой! я не об том, хорошо или нехорошо, а об том, что хотя дело и сделано, но ведь его и переделать можно. Не только мы грешные, а и бог свои действия переменяет: сегодня пошлет дождичка, а завтра вёдрышка даст! А! ну-тко! ведь не бог же знает какое сокровище – театр! Ну-тко! решись-ка!
– Нет, дядя! оставьте это! прошу вас!
– А еще тебе вот что скажу: нехорошо в тебе твое легкомыслие, но еще больше мне не нравится то, что ты так легко к замечаниям старших относишься. Дядя добра тебе желает, а ты говоришь: оставьте! Дядя к тебе с лаской да с приветом, а ты на него фыркаешь! А между тем знаешь ли ты, кто тебе дядю дал? Ну-ко, скажи, кто тебе дядю дал?
Аннинька взглянула на него с недоумением.
– Бог тебе дядю дал – вот кто! бог! Кабы не бог, была бы ты теперь одна, не знала бы, как с собою поступить, и какую просьбу подать, и куда подать, и чего на эту просьбу ожидать. Была бы ты словно в лесу; один бы тебя обидел, другой бы обманул, а третий и просто-напросто посмеялся бы над тобой! А как дядя-то у тебя есть, так мы, с божьей помощью, в один день все твое дело вокруг пальца повернули. И в город съездили, и в опеке побывали, и просьбу подали, и резолюцию получили! Так вот оно, мой друг, что дядя-то значит!
– Да я и благодарна вам, дядя!
– А коли благодарна дяде, так не фыркай на него, а слушайся. Добра тебе дядя желает, хоть иногда тебе и кажется…
Аннинька едва могла владеть собой. Оставалось еще одно средство отделаться от дядиных поучений: притвориться, что она, хоть в принципе, принимает его предложение остаться в Головлеве.
– Хорошо, дядя, – сказала она, – я подумаю. Я сама понимаю, что жить одной, вдали от родных, не совсем удобно… Но, во всяком случае, теперь я решиться ни на что не могу. Надо подумать.
– Ну видишь ли, вот ты и поняла. Да чего же тут думать! Велим лошадей распрячь, чемоданы твои из кибитки вынуть – вот и думанье все!
– Нет, дядя, вы забываете, что у меня есть сестра!
Неизвестно, убедил ли этот аргумент Порфирия Владимирыча, или вся сцена эта была ведена им только для прилику, и он сам хорошенько не знал, точно ли ему нужно, чтоб Аннинька осталась в Головлеве, или совсем это не нужно, а просто блажь в голову на минуту забрела. Но, во всяком случае, обед после этого пошел поживее. Аннинька со всем соглашалась, на все давала такие ответы, которые не допускали никакой придирки для пустословия. Тем не менее часы показывали уж половину третьего, когда обед кончился. Аннинька выскочила из-за стола, словно все время в паровой ванне высидела, и подбежала к дяде, чтоб попрощаться с ним. *
Через десять минут, Иудушка, в шубе и в медвежьих сапогах, провожал уж ее на крыльцо и самолично наблюдал, как усаживали барышню в кибитку.
– С горы-то полегче – слышишь! Да и в Сенькине на косогоре – смотри не вывали! – приказывал он кучеру.
Наконец Анниньку укутали, усадили и застегнули фартук у кибитки.
– А то бы осталась! – еще раз крикнул ей Иудушка, желая, чтоб и при собравшихся челядинцах все обошлось как следует, по-родственному. – По крайней мере, приедешь, что ли? говори!
Но Аннинька чувствовала себя уже свободною, и ей вдруг захотелось пошкольничать. Она высунулась из кибитки и, отчеканивая каждое слово, отвечала:
– Нет, дядя, не приеду! Страшно с вами!
Иудушка сделал вид, что не слышит, но губы у него побелели.
Освобождение из головлевского плена до такой степени обрадовало Анниньку, что она ни разу даже не остановилась на мысли, что позади ее, в бессрочном плену, остается человек, для которого с ее отъездом порвалась всякая связь с миром живых. Она думала только об себе: что она вырвалась и что теперь ей хорошо. Влияние этого ощущения свободы было так сильно, что когда она вновь посетила воплинское кладбище, то в ней уже не замечалось и следа той нервной чувствительности, которую она обнаружила при первом посещении бабушкиной могилы. Спокойно отслушала она панихиду, без слез поклонилась могиле и довольно охотно приняла предложение священника откушать у него в хате чашку чая.
Обстановка, в которой жил воплинский батюшка, была очень убогая. В единственной чистой комнате дома, которая служила приемною, царствовала какая-то унылая нагота; по стенам было расставлено с дюжину крашеных стульев, обитых волосяной материей, местами значительно продранной, и стоял такой же диван с выпяченной спинкой, словно грудь у генерала дореформенной школы; в одном из простенков виднелся простой стол, покрытый загаженным сукном, на котором лежали исповедные книги прихода, и из-за них выглядывала чернильница с воткнутым в нее пером; в восточном углу висел киот с родительским благословением и с зажженною лампадкой; под ним стояли два сундука с матушкиным приданым, покрытые серым, выцветшим сукном. Обоев на стенах не было; посередине одной стены висело несколько полинявших дагерротипных портретов * преосвященных. В комнате пахло как-то странно, словно она издавна служила кладбищем для тараканов и мух. Сам священник, хотя человек еще молодой, значительно потускнел в этой обстановке. Жидкие беловатые волосы повисли на его голове прямыми прядями, как ветви на плакучей иве; глаза, когда-то голубые, смотрели убито; голос вздрагивал, бородка обострилась; шалоновая ряска * худо запахивалась спереди и висела как на вешалке. Попадья, женщина тоже молодая, от ежегодных родов казалась еще более изнуренною, нежели муж.
Тем не меньше Аннинька не могла не заметить, что даже эти забитые, изнуренные и бедные люди относятся к ней не так, как к настоящей прихожанке, а скорее с сожалением, как к заблудшей овце.
– У дяденьки побывали? – начал батюшка, осторожно принимая чашку чая с подноса у попадьи.
– Да, почти с неделю прожила.
– Теперь Порфирий Владимирыч главный помещик по всей нашей округе сделались – нет их сильнее. Только удачи им в жизни как будто не видится. Сперва один сынок помер, потом и другой, а наконец, и родительница. Удивительно, как это они вас не упросили в Головлеве поселиться.
– Дядя предлагал, да я сама не осталась.
– Что ж так?
– Да лучше, как на свободе живешь.
– Свобода, сударыня, конечно, дело не худое, но и она не без опасностей бывает. А ежели при этом иметь в предмете, что вы Порфирию Владимирычу ближайшей родственницей, а следственно, и прямой всех его имений наследницей доводитесь, то можно бы, мнится, насчет свободы несколько и постеснить себя.
– Нет, батюшка, свой хлеб лучше. Как-то легче живется, как чувствуешь, что никому не обязан.
Батюшка тускло взглянул на нее, как будто хотел спросить: да ты, полно, знаешь ли, что такое «свой хлеб»? – но посовестился и только робко запахнул полы своей ряски.
– А много ли вы жалованья в актрисах-то получаете? – вступила в разговор попадья.
Батюшка окончательно обробел и даже заморгал в сторону попадьи. Он так и ждал, что Аннинька обидится. Но Аннинька не обиделась и без всякой ужимки ответила:
– Теперь я получаю полтораста рублей в месяц, а сестра – сто. Да бенефисы нам даются. В год-то тысяч шесть обе получим.
– Что ж так сестрице меньше дают? достоинством, что ли, они хуже? – продолжала любопытствовать матушка.
– Нет, а жанр у сестры другой. У меня голос есть, я пою – это публике больше нравится, а у сестры голос послабее – она в водевилях играет.
– Стало быть, и там тоже: кто попом, кто дьяконом, а кто и в дьячках служит?
– Впрочем, мы поровну делимся; у нас уж сначала так было условлено, чтоб деньги пополам делить.
– По-родственному? Чего же лучше, коли по-родственному? А сколько это, поп, будет? шесть тысяч рублей, ежели на месяца́ разделить, сколько это будет?
– По пятисот целковых в месяц, а на двух разделить – по двести по пятидесяти.
– Вона что денег-то! Нам бы и в год не прожить. А что я еще хотела вас спросить: правда ли, что с актрисами обращаются, словно бы они не настоящие женщины?
Поп совсем было всполошился и даже полы рясы распустил; но, увидев, что Аннинька относится к вопросу довольно равнодушно, подумал: «Эге! да ее, видно, и в самом деле не прошибешь!» – и успокоился.
– То есть как же это, не настоящие женщины? – спросила Аннинька.
– Ну, да вот будто целуют их, обнимают, что ли… Даже, будто, когда и не хочется, и тогда они должны…
– Не целуют, а делают вид, что целуют. А об том, хочется или не хочется – об этом и речи в этих случаях не может быть, потому что все делается по пьесе: как в пьесе написано, так и поступают.
– Хоть и по пьесе, а все-таки… Иной с слюнявым рылом лезет, на него и глядеть-то претит, а ты губы ему подставлять должна!
Аннинька невольно заалелась; в воображении ее вдруг промелькнуло слюнявое лицо храброго ротмистра Папкова, которое именно «лезло», и увы! даже не «по пьесе» лезло!
– Вы совсем не так представляете себе, как оно на сцене происходит! – сказала она довольно сухо.
– Конечно, мы в театрах не бывали, а все-таки, чай, со всячинкой там бывает. Частенько-таки мы с попом об вас, барышня, разговариваем; жалеем мы вас, даже очень жалеем.
Аннинька молчала; священник сидел и пощипывал бородку, словно решался и сам сказать свое слово.
– Впрочем, сударыня, и во всяком звании и приятности и неприятности бывают, – наконец высказался он, – но человек, по слабости своей, первыми восхищается, а последние старается позабыть. Для чего позабыть? а именно для того, сударыня, дабы и сего последнего напоминовения о долге и добродетельной жизни, по возможности, не иметь перед глазами.
И потом, вздохнув, присовокупил:
– А главное, сударыня, сокровище свое надлежит соблюсти!
Батюшка учительно взглянул на Анниньку; матушка уныло покачала головой, как бы говоря: где уж!
– И вот это-то сокровище, мнится, в актерском звании соблюсти – дело довольно сумнительное, – продолжал батюшка.
Аннинька не знала, что и сказать на эти слова. Мало-помалу ей начинало казаться, что разговор этих простодушных людей о «сокровище» совершенно одинакового достоинства с разговорами господ офицеров «расквартированного в здешнем городе полка» об «la chose». Вообще же, она убедилась, что и здесь, как у дяденьки, видят в ней явление совсем особенное, к которому хотя и можно отнестись снисходительно, но в некотором отдалении, дабы «не замараться».
– Отчего у вас, батюшка, церковь такая бедная? – спросила она, чтоб переменить разговор.
– Не́ с чего ей богатой быть – оттого и бедна. Помещики все по службам разъехались, а мужичкам подняться не́ из чего. Да их и всех-то с небольшим двести душ в приходе!
– Вот колокол у нас чересчур уж плох! – вздохнула матушка.
– И колокол, и прочее все. Колокол-то у нас, сударыня, всего пятнадцать пудов весит, да и тот, на грех, раскололся. Не звонит, а шумит как-то – даже предосудительно. Покойница Арина Петровна пообещались было новый соорудить, и ежели были бы они живы, то и мы, всеконечно, были бы теперь при колоколе.
– Вы бы дяде сказали, что бабушка обещала!
– Говорил, сударыня, и он, надо правду сказать, довольно-таки благосклонно докуку мою выслушал. Только ответа удовлетворительного не мог мне дать: не слыхал, вишь, от маменьки ничего! никогда, вишь, покойница об этом ему не говаривала! А ежели бы, дескать, слышал, то беспременно бы волю ее исполнил!
– Когда, чай, не слыхать! – молвила попадья, – вся округа знает, а он не слыхал!
– Вот мы и живем таким родом. Прежде хоть в надежде были, а нынче и совсем без надежды остаемся. Иногда служить не́ на чем: ни просфор, ни красного вина. А об себе уж и не говорим.
Аннинька хотела встать и проститься, но на столе появился новый поднос, на котором стояли две тарелки, одна с рыжиками, другая с кусочками икры, и бутылка мадеры.
– Посидите! не обессудьте! откушайте!
Аннинька повиновалась, наскоро проглотила два рыжичка, но отказалась от мадеры.
– Вот об чем я еще хотела вас спросить, – говорила между тем попадья, – в приходе у нас девушка одна есть, лыщевского дворового дочка; так она в Петербурге у одной актрисы в услуженье была. Хорошо, говорит, в актрисах житье, только билет каждый месяц выправлять надо… правда ли это?
Аннинька смотрела во все глаза и не понимала.
– Это для свободности, – пояснил батюшка, – а, впрочем, думается, что она неправду говорит. Напротив, я слышал, что многие актрисы даже пенсии от казны за службу удостоиваются.
Аннинька убедилась, что чем дальше в лес, тем больше дров, и стала окончательно прощаться.
– А мы было думали, что вы теперь из актрис-то выйдете? – продолжала приставать попадья.
– Зачем же?
– Все-таки. Вы – барышня. Теперь совершенные лета получили, имение свое есть – чего лучше!
– Ну, и после дяденьки вы же прямая наследница, – присовокупил батюшка.
– Нет, я здесь жить не буду.
– А мы-то как надеялись! Всё промежду себя говорили: непременно наши барышни в Погорелке жить будут! А летом у нас здесь даже очень хорошо: в лес по грибы ходить можно! – соблазняла матушка.
– У нас грибов и не в дождливое лето – очень довольно! – вторил ей батюшка.
Наконец Аннинька уехала. По приезде в Погорелку первым ее словом было: лошадей! пожалуйста, поскорее лошадей! Но Федулыч только плечами передернул в ответ на эту просьбу.
– Чего «лошадей»! Мы еще и не кормили их! – брюзжал он.
– Да отчего ж наконец! Ах, боже мой! точно все сговорились!
– Сговорились и есть. Как не сговориться, коли всякому видимо, что в ростепель ночью ехать нельзя. Все равно в поле, в зажоре просидите – так, по-нашему, лучше уж дома!
Бабенькины апартаменты были вытоплены. В спальной стояла совсем приготовленная постель, а на письменном столе пыхтел самовар; Афимьюшка оскребала на дне старинной бабенькиной шкатулочки остатки чая, сохранившиеся после Арины Петровны. Покуда настаивался чай, Федулыч, скрестивши руки, лицом к барышне, держался у двери, а по обеим сторонам стояли скотница и Марковна в таких позах, как будто сейчас, по первому манию руки, готовы были бежать куда глаза глядят.
– Чай-то еще бабенькин, – первый начал разговор Федулыч, – от покойницы на донышке остался. Порфирий Владимирыч и шкатулочку собрались было увезти, да я не согласился. Может быть, барышни, говорю, приедут, так чайку испить захочется, покуда своим разживутся. Ну, ничего! еще пошутил: ты, говорит, старый плут, сам выпьешь! смотри, говорит, шкатулочку-то после в Головлево доставь! Гляди, завтра же за нею пришлет!
– Напрасно вы ему тогда не отдали.
– Зачем отдавать – у него и своего чаю много. А теперь, по крайности, мы после вас попьем. Да вот что, барышня: вы нас Порфирию Владимирычу, что ли, препоручите?
– И не думала.
– Так-с. А мы было давеча бунтовать собрались. Коли ежели, думаем, нас к головлевскому барину под начало отдадут, так все в отставку проситься будем.
– Что так? неужто дядя так страшен?
– Не очень страшен, а тиранит, слов не жалеет. Словами-то он сгноить человека может.
Аннинька невольно улыбнулась. Именно гной какой-то просачивался сквозь разглагольствия Иудушки! Не простое пустословие это было, а язва смердящая, которая непрестанно точила из себя гной.
– Ну, а с собой-то вы как же, барышня, решили? – продолжал допытываться Федулыч.
– То есть, что же я должна с собой «решить»? – слегка смешалась Аннинька, предчувствуя, что ей и здесь придется выдержать разглагольствия о «сокровище».
– Так неужто же вы из актерок не выйдете?
– Нет… то есть я еще об этом не думала… Но что же дурного в том, что я, как могу, свой хлеб достаю?
– Что хорошего! по ярмаркам с торбаном ездить! пьяниц утешать! Чай, вы – барышня!
Аннинька ничего не ответила, только брови насупила. В голове ее мучительно стучал вопрос: господи! да когда же я отсюда уеду!
– Разумеется, вам лучше знать, как над собой поступить, а только мы было думали, что вы к нам возворотитесь. Дом у нас теплый, просторный – хоть в горелки играй! очень хорошо покойница бабенька его устроила! Скучно сделалось – санки запряжем, а летом – в лес по грибы ходить можно!
– У нас здесь всякие грибы есть: и рыжички, и волнушечки, и груздочки, и подосиннички – страсть сколько! – соблазнительно прошамкала Афимьюшка.
Аннинька облокотилась обеими руками на стол и старалась не слушать.
– Сказывала тут девка одна, – бесчеловечно настаивал Федулыч, – в Петербурге она в услуженье жила, так говорила, будто все ахтерки – белетные. Каждый месяц должны в части белет представлять!
Анниньку словно обожгло: целый день она всё этислова слышит!
– Федулыч! – с криком вырвалось у нее, – что я вам сделала? неужели вам доставляет удовольствие оскорблять меня?
С нее было довольно. Она чувствовала, что ее душит, что еще одно слово – и она не выдержит.
Недозволенные семейные радости *
Однажды, незадолго до катастрофы с Петенькой, Арина Петровна, гостя в Головлеве, заметила, что Евпраксеюшка словно бы поприпухла. Воспитанная в практике крепостного права, при котором беременность дворовых девок служила предметом подробных и не лишенных занимательности исследований и считалась чуть не доходною статьею, Арина Петровна имела на этот счет взгляд острый и безошибочный, так что для нее достаточно было остановить глаза на туловище Евпраксеюшки, чтобы последняя, без слов и в полном сознании виновности, отвернула от нее свое загоревшееся полымем лицо.
– Ну-тка, ну-тка, сударка! смотри на меня! тяжела? – допрашивала опытная старушка провинившуюся голубицу; но в голосе ее не слышалось укоризны, а, напротив, он звучал шутливо, почти весело, словно пахнуло на нее старым, хорошим времечком.
Евпраксеюшка, не то стыдливо, не то самодовольно, безмолвствовала, и только пуще и пуще алели ее щеки под испытующим взглядом Арины Петровны.
– То-то! еще вчера я смотрю – поджимаешься ты! Ходит, хвостом вертит – словно и путевая! Да ведь меня, брат, хвостами-то не обманешь! Я на пять верст вперед ваши девичьи штуки вижу! Ветром, что ли, надуло? с которых пор? Признавайся! сказывай!
Последовал подробный допрос и не менее подробное объяснение. Когда замечены первые признаки? имеется ли на примете бабушка-повитушка? знает ли Порфирий Владимирыч об ожидающей его радости? бережет ли себя Евпраксеюшка, не поднимает ли чего тяжелого? и т. д. Оказалось, что Евпраксеюшка беременна уж пятый месяц; что бабушки-повитушки на примете покуда еще нет; что Порфирию Владимирычу хотя и было докладывано, но он ничего не сказал, а только сложил руки ладонями внутрь, пошептал губами и посмотрел на образ, в знак того, что все от бога и он, царь небесный, сам обо всем промыслит; что, наконец, Евпраксеюшка однажды не остереглась, подняла самовар и в ту же минуту почувствовала, что внутри у нее что-то словно оборвалось.
– Однако, оглашенные вы, как я на вас посмотрю! – тужила Арина Петровна, выслушавши эти признания, – придется, видно, мне самой в это дело взойти! На-тко, пятый месяц беременна, а у них даже бабушки-повитушки на примете нет! Да ты хоть бы Улитке, глупая, показалась!
– И то собиралась, да барин Улитушку-то не очень…
– Вздор, сударыня, вздор! Там, провинилась ли, нет ли Улитка перед барином – это само собой! а тут этакой случай – а он на́-поди! Что нам, целоваться, что ли, с ней? Нет, неминучее дело, что мне самой придется в это дело вступиться!
Арина Петровна хотела было взгрустнуть, пользуясь этим случаем, что вот и до сих пор, даже на старости лет, ей приходится тяготы носить; но предмет разговора был так привлекателен, что она только губами чмокнула и продолжала:
– Ну, сударка, теперь только распоясывайся! Любо было кататься – попробуй-ка саночки повозить! Попробуй! попробуй! Я вот трех сынов да дочку вырастила, да пятерых детей маленькими схоронила – я знаю! Вот они где у нас, мужчинки-то сидят! – прибавила она, ударяя себя кулаком по затылку.
И вдруг ее словно озарило.
– Батюшки! да, никак, еще под постный день! Постой, погоди! сосчитаю!
Начали по пальцам считать, сочли раз, другой, третий – выходило именно как раз под постный день.
– Ну, так, так! это – святой-то человек! Ужо, погоди, подразню его! Молитвенник-то наш! в какую рюху попал! подразню! не я буду, если не подразню! – шутила старушка.
Действительно, в тот же день, за вечерним чаем, Арина Петровна, в присутствии Евпраксеюшки, подшучивала над Иудушкой.
– Смиренник-то наш! смотри, какую штуку удрал! Уж, и взаправду, не ветром ли крале-то твоей надуло? Ну, брат, удивил!
Иудушка сначала брезгливо пожимался при маменькиных шуточках, но убедившись, что Арина Петровна говорит «по-родственному», «всей душой», – и сам мало-помалу повеселел.
– Проказница вы, маменька! право, проказница! – шутил и он в свою очередь; но, впрочем, по своему обыкновению, отнесся к предмету семейного разговора уклончиво.
– Чего «проказница»! серьезно об этом переговорить надо! Ведь это – какое дело-то! «Тайна» тут – вот я тебе что скажу! Хоть и не настоящим манером, а все-таки… Нет, надо очень, да и как еще очень об этом деле поразмыслить! Ты как думаешь: здесь, что ли, ей рожать велишь или в город повезешь?
– Не знаю я, маменька, ничего я, душенька, не знаю! – уклонялся Порфирий Владимирыч, – проказница вы! право, проказница!
– Ну, так постой же, сударка! Ужо мы с тобой на прохладе об этом деле потолкуем! И как, и что – все подробно определим! А то ведь эти мужчинки – им бы только прихоть свою исполнить, а потом отдувайся наша сестра за них, как знает!
Сделавши свое открытие, Арина Петровна почувствовала себя как рыба в воде. Целый вечер проговорила она с Евпраксеюшкой и наговориться не могла. Даже щеки у ней разгорелись и глаза как-то по-юношески заблестели.
– Ведь это, сударка, как бы ты думала? – ведь это… божественное! – настаивала она, – потому что хоть и не тем порядком, а все-таки настоящим манером… Только ты у меня смотри! Ежели да под постный день – боже тебя сохрани! и засмею тебя! и со свету сгоню!
Призвали на совет и Улитушку. Сначала об настоящем деле поговорили, что и как, не нужно ли промывательное поставить, или моренковой мазью живот потереть, потом опять обратились к излюбленной теме и начали по пальцам рассчитывать – и все выходило именно как раз на постный день! Евпраксеюшка алела, как маков цвет, но не отнекивалась, а ссылалась на подневольное свое положение.
– Мне что ж! – говорила она, – мое дело – как «они» хотят! Коли ежели барин прикажут – может ли наша сестра против их приказаньев идти!
– Ну, ну тихоня! не лебези хвостом! – шутила Арина Петровна, – сама, чай…
Словом сказать, женщины занялись этим делом всласть. Арина Петровна целый ряд случаев из своего прошлого вспомнила и, разумеется, не преминула повествовать об них. Сначала рассказала про свои личные беременности. Как она Степкой-балбесом мучилась, как, будучи беременной Павлом Владимирычем, ездила на перекладной в Москву, чтоб дубровинского аукциона не упустить, да потом из-за этого на тот свет чуть-чуть не отправилась, и т. д., и т. д. Все ро́ды были чем-нибудь замечательны; одни только достались легко – это были роды Иудушки.
– Просто даже вот ни на эстолько тягости не чувствовала! – говорила она, – сижу, бывало, и думаю: господи! да неужто я тяжела! И как настало время, прилегла я этак на минуточку на кровать, и уж сама не знаю как – вдруг разрешилась! Самый это легкий для меня сын был! Самый, самый легкий!
Потом начались рассказы про дворовых девок: скольких она сама «заставала», скольких выслеживала при помощи доверенных лиц, и преимущественно Улитушки. Старческая память с изумительною отчетливостью хранила эти воспоминания. Во всем ее прошлом, сером, всецело поглощенном мелким и крупным скопидомством, сослеживание вожделеющих дворовых девок было единственным романическим элементом, затрогивавшим какую-то живую струну.
Это была своего рода беллетристика в скучном журнале, в котором читатель ожидает встретиться с исследованиями о сухих туманах и о месте погребения Овидия – и вдруг, вместо того, читает: Вот мчится тройка удалая… * Развязки нехитрых романов девичьей обыкновенно бывали очень строгие и даже бесчеловечные (виновную выдавали замуж в дальную деревню, непременно за мужика-вдовца, с большим семейством; виновного – разжаловывали в скотники или отдавали в солдаты); но воспоминания об этих развязках как-то стерлись (память культурных людей относительно прошлого их поведения вообще снисходительна), а самый процесс сослеживания «амурной интриги» так и мелькал до сих пор перед глазами, словно живой. Да и не мудрено! этот процесс, во времена о́ны, велся с таким же захватывающим интересом, с каким нынче читается фёльетонный роман, в котором автор, вместо того чтоб сразу увенчать взаимное вожделение героев, на самом патетическом месте ставит точку и пишет: продолжение впредь.
– Немало я таки с ними мученьев приняла! – повествовала Арина Петровна. – Иная до последней минуты перемогается, лебезит – все надеется обмануть! Ну, да меня, голубушка, не перехитришь! я сама на этих делах зубы съела! – прибавляла она почти сурово, словно грозясь кому-то.
Наконец следовали рассказы из области беременностей, так сказать, политических, относительно которых Арина Петровна являлась уже не карательницей, а укрывательницей и потаковщицей.
Так, например, у папеньки Петра Иваныча, дряхлого семидесятилетнего старика, тоже «сударка» была и тоже оказалась вдруг с прибылью, и нужно было, по высшим соображениям, эту прибыль от старика утаить. А она, Арина Петровна, как на грех, была в ту пору в ссоре с братцем Петром Петровичем, который тоже, ради каких-то политических соображений, беременность эту сослеживал и хотел старику глаза насчет «сударки» открыть.
– И как бы ты думала! почти на глазах у папеньки мы всю эту механику выполнили! Спит, голубчик, у себя в спаленке, а мы рядышком орудуем! Да шепотком, да на цыпочках! Сама я, собственными руками, и рот-то ей зажимала, чтоб не кричала, и белье-то собственными руками убирала, а сынка-то ее – прехорошенький, здоровенький такой родился! – и того, села на извозчика, да в воспитательный спровадила! Так что братец, как через неделю узнал, только ахнул: ну, сестра!
Была и еще политическая беременность: с сестрицей Варварой Михайловной дело случилось. Муж у нее в поход под турка уехал, * а она возьми да и не остерегись! Прискакала как угорелая в Головлево – спасай, сестра!
– Ну, мы хоть в то время в контрах промежду себя были, однако я и виду ей не подала: честь честью ее приняла, утешила, успокоила, да, под видом гощенья, так это дело кругленько обделала, что муж и в могилу ушел – ничего не знал!
Так повествовала Арина Петровна, и, надо сказать правду, редкий рассказчик находил себе таких внимательных слушателей. Евпраксеюшка старалась не проронить слова, как будто бы перед ней проходили воочию перипетии какой-то удивительной волшебной сказки; что же касается до Улитушки, то она, как соучастница бо́льшей части рассказываемого, только углами губ причмокивала.
Улитушка тоже расцвела и отдохнула. Тревожная была ее жизнь. С юных лет сгорала она холопским честолюбием, и во сне и наяву бредила, как бы господам послужить да над своим братом покомандовать – и все неудачно. Только что занесет, бывало, ногу на ступеньку повыше, ан ее оттуда словно невидимая сила какая шарахнет и опять втопчет в самую преисподнюю. Всеми качествами полезной барской слуги обладала она в совершенстве: была ехидна, злоязычна и всегда готова на всякое предательство, но в то же время страдала какою-то неудержимой повадливостью, которая всю ее ехидность обращала в ничто. В былое время Арина Петровна охотно пользовалась ее услугой, когда нужно было секретное расследование по девичьей сделать или вообще сомнительное дело какое-нибудь округлить, но никогда не ценила ее заслуги и не допускала ни до какой солидной должности. Вследствие этого Улитка и жаловалась, и языком язвила; но на жалобы ее не обращалось внимания, потому что всем было ведомо, что Улитка – девка злая, сейчас тебя в преисподнюю проклянет, а через минуту, помани ее только пальцем, – она и опять прибежит, станет на задних лапках служить. Так и промыкалась она, куда-то все выбиваясь и никогда ничего не успевая достигнуть, до тех пор пока исчезновение крепостного права окончательно не положило предела ее холопскому честолюбию.
В молодости ее был даже случай, который подавал ей надежды очень серьезные. В одну из своих побывок в Головлеве Порфирий Владимирыч свел с ней связь и даже, как гласило головлевское предание, имел от нее ребенка, за что и состоял долгое время под гневом у маменьки Арины Петровны. Поддерживалась ли эта связь впоследствии, при дальнейших наездах Иудушки в отчий дом – неизвестно; но, во всяком случае, когда Порфирий Владимирыч собрался в Головлево совсем на жительство, мечтаниям Улитушки пришлось рухнуть самым обидным образом. Немедленно по приезде Иудушки она кинулась к нему с целым ворохом сплетен, в которых Арина Петровна обвинялась чуть не в мошенничестве; но «барин» сплетни выслушал благосклонно, а на Улитку взглянул все-таки холодно и прежней ее «заслуги» не попомнил. Обманутая в расчетах и обиженная, Улитушка перекинулась в Дубровино, где братец Павел Владимирыч, из ненависти к братцу Порфирию Владимирычу, охотно принял ее и даже сделал экономкою. Тут ее фонды как будто поправились. Павел Владимирыч сидел на антресолях и выпивал рюмку за рюмкой, а она с утра до вечера бойко бегала по кладовым и погребам, гремела ключами, громко язычничала и даже завела какие-то контры с Ариной Петровной, которую чуть не сжила со свету.
Но Улитушка слишком любила всякие предательства, чтобы в тишине пользоваться выпавшим на ее долю хорошим житьем. Это было то самое время, когда Павел Владимирыч испивал уже настолько, что можно было с известными надеждами относиться к исходу этого беспробудного пьянства. Порфирий Владимирыч понял, что в таком положении дела Улитушка представляет неоцененный клад – и вновь поманил ее пальцем. Ей было дано из Головлева приказание – не отходить ни на шаг от облюбованной жертвы, ни в чем ей не противоречить, даже в ненависти к братцу Порфирию Владимирычу, а только всеми мерами устранять вмешательство Арины Петровны. Это было одно из тех родственных злодейств, на которые Иудушка не то чтоб решался по зрелом размышлении, а как-то само собой проделывал, как самую обыкновенную затею. Излишне было бы говорить, что Улитушка выполнила поручение в точности. Павел Владимирыч не переставал ненавидеть брата, но чем больше он ненавидел, тем больше пил и тем меньше становился способен выслушивать какие-либо замечания Арины Петровны насчет «распоряжения». Каждое движение умирающего, каждое его слово немедленно делались известными в Головлеве, так что Иудушка мог с полным знанием дела определить минуту, когда ему следует выйти из-за кулис и появиться на сцену настоящим господином созданного им положения. И он воспользовался этим, то есть нагрянул в Дубровино именно тогда, когда оно, так сказать, само отдалось ему в руки.








