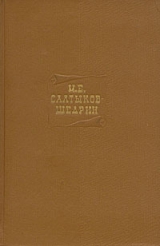
Текст книги "Том 13. Господа Головлевы. Убежище Монрепо"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 61 страниц)
Отдохнувши и напившись чаю, мы часов в десять отправились в Демидрон.
Но тут последовал целый ряд происшествий, до такой степени фантастичных, что я ничем другим объяснить их себе не могу, как разве тем, что от московского общества ревнителей российского благонравия была разослана во все петербургские увеселительные заведения особая циркулярная телеграмма, извещающая о предстоящем приезде в Петербург благородного юноши, который, будучи высечен папенькою, навсегда отказался от внутренней политики.
Уже при самом входе в сад меня поразила какая-то загадочная опрятность, вовсе несвойственная этому месту. Затем начался ряд сюрпризов. Прежде всего, когда мы подошли к кассе, чтоб взять билеты, нам объявили, что нас обоих велено пропустить даром, а товарищу моему, сверх того, предоставляется даровой билет в кресла и жетон на безвозмездное получение порции чая. Когда же мы вошли в сад, то взорам нашим представилась следующая картина: официанты в белых галстуках, взявшись за руки, стояли шпалерой и сдерживали напор публики, жадно караулившей наше появление; оркестр, усиленный несколькими посторонними хорами, гремел марш на мотив из «чижика»; несколько поодаль виднелась освещенная бенгальским огнем живая картина, изображающая аллегорические фигуры Родительского Сечения, Раскаяния и Откровенности, у ног которых корчилось и издыхало на смерть пораженное Обольщение, а наверху парил гений Благонравия. Не успели мы сделать несколько шагов, как навстречу нам, в предшествии околоточного надзирателя, вышел содержатель сада, сопровождаемый девицами Филиппо́ и Салинас (обе были «на сей только раз» одеты в трико́, наподобие древних статуй), и прочитал Сашеньке адрес. В этом адресе, рассказав подробно историю сечения и его благотворные последствия, г. Егарев объявил, что Демидрон считает себя счастливым, поднося Сашеньке диплом на звание почетного гражданина этого заведения. Причем объяснив, что звание это влечет за собой право на бесплатный вход в сад и на бесплатную же порцию чая – навечно! – и вручая соответствующие документы, присовокупил:
– Почтеннейшему же родителю вашему передайте, что, не имея возможности чествовать его лично, мы сделали распоряжение, дабы одна из шансонеток сегодняшнего репертуара была посвящена прославлению родительской спасительной строгости (действительно, шансонетка эта была в свое время выполнена, и когда речь шла о спасительной строгости, то исполнительница, девица Филиппо́), так выразительно хлопала себя по ляжке, что публика просто-напросто выла).
Кончивши приветствие, г. Егарев прослезился, а в ответ ему прослезился и Сашенька. Но что было всего неожиданнее – это роль, которая выпала в этот вечер на долю девицы Филиппо́. В начале церемонии поднесения адреса Сашенька был так отуманен, что все свое внимание исключительно сосредоточил на г. Егареве. Но когда адрес был уже вручен, то виновник торжества, облобызавшись с г. Егаревым, должен был, по правилам церемониала, облобызать и его ассистенток. Но едва он приступил к этому обряду, как из груди его вдруг вырвался пронзительный крик…
Что же оказалось! Что девица Филиппо́ некогда жила в семействе Ненарочных в качестве наставницы и первая посеяла в сердце Сашеньки семена благонравия! Вот какими загадочными и даже, можно сказать, непозволительными путями ведут нас судьбы для выполнения своих благих замыслов.
– Eh bien, morveux, es-tu content? [128]128
Ну, что, доволен, сопляк?
[Закрыть]– спросила очаровательница после первых горячих приветствий признательности и тут же, вынув из-за пазухи диплом на беспрепятственный вход за кулисы театра, вручила его виновнику торжества.
Я целый вечер ходил как в тумане. Я гордился моим юным другом и чувствовал, что его торжество отчасти простирается и на меня. Хотя мне не дали ни дарового билета в кресла, ни права на получение порции чая, но все-таки пустили в сад даром, а чаем, в порыве великодушия, угостил меня Сашенька – тоже даром. Сверх того, я понимал, что своим присутствием в моей квартире он, так сказать, обеспечивал мою жизненную несменяемость, а так как для меня это очень важно, то я начал даже опасаться, чтоб как-нибудь его от меня не сманили. Поэтому я с живейшим беспокойством следил, как некоторые вышедшие из лет отставные действительные статские советники, окружив его, наперерыв друг перед другом потчевали сластями. Но беспокойство мое превратилось в настоящий испуг, когда по окончании представления к нам подошла девица Филиппо́ и стала уговаривать Сашеньку, чтоб он поступил в труппу Демидрона. И очень возможно, что она успела бы в своем сатанинском намерении, если б преждевременно не оскорбила сыновних чувств Сашеньки, выразившись об кузине Маше: «Та vieille carcasse de mère» [129]129
Старая кляча, твоя мамаша.
[Закрыть]. Такой чересчур откровенный отзыв оскорбил юношу, и вследствие этого он не дал положительного ответа, а только обещал подумать.
Словом сказать, я успокоился только тогда, когда мы уже поздно ночью возвращались на извозчике домой. Вплоть до самого Невского мы молчали: он – потому что весь трепетал под наплывом новых ощущений, я – потому что не хотел нескромным словом потревожить сладостное чувство, охватившее все его существо. Но на углу Большой Морской и Невского он не выдержал и с какою-то стыдливой нежностью обнял меня.
– Ах, дяденька! как я счастлив! как я счастлив! – произнес он.
Я хотел ему многое возразить, но сдержался. И только когда мы поравнялись с Милютиными лавками, я сказал:
– Друг мой! не увлекайся! Популярность, конечно, соблазнительна, но имей в виду, что всякая популярность, хотя бы она свила себе гнездо в Демидроне, непременно источает из себя яд. И этот яд, ежели не принять против него мер…
Но он не дал мне докончить и, поцеловав меня в плечико, произнес:
– Благодарю вас, добрый дяденька! Ваши слова… отрезвили меня! Я… не боюсь больше!
И действительно, после этого мы благополучно воротились домой и разошлись каждый по своим комнатам.
Тем не менее я провел беспокойную ночь. Как ни благонравен Сашенька, думалось мне, но подобные торжества могут хоть кого сбить с толку. Слава и популярность – вот две вещи, наиболее соблазнительные и в то же время наиболее ядовитые. И обеих их Сашенька достиг разом, в один вечер, достиг легко, без всяких усилий, благодаря только тому, что папенька благовременно его высек! Как бы он не изнемог, если то же явление повторится два дня сряду (мы предполагали на другой день посетить Крестовский остров). Поэтому я решился несколько изменить программу наших увеселений и сначала повезти моего юного друга в Зоологический сад, чтобы познакомить его с более отрезвляющим зрелищем кормления зверей и с зулусами. А чтобы придать этому столичному искушению больше разнообразия, предположил, сверх того, сводить Сашеньку в кондитерскую братьев Назаровых и угостить мороженым. В этих размышлениях застала меня утренняя заря, и только тогда я забылся тревожным сном.
Наутро я сообщил о моих решениях Сашеньке, и он вполне их одобрил. И вдруг он ошеломил меня вопросом:
– А до Зоологического сада не позволите ли вы мне, дяденька, сходить к Луизе Селиверстовне?
По пылающим его щекам я догадался, что речь идет о девице Филиппо́, и сердце мое невольно сжалось.
– Послушай, мой друг! – сказал я, – выполним прежде первоначальную программу искушений, а посещение хранительницы твоей юности отложим до конца твоего пребывания в здешней столице! Ибо я знаю, что раз ты попадешь к Луизе Селиверстовне, она уж не выпустит тебя! И тогда может случиться, что родители, встревоженные твоим исчезновением, вынуждены будут вытребовать тебя в Пензу по этапу. Сообрази сам, не придется ли папеньке твоему вновь прибегнуть к тем мерам, которые хоть и доставили тебе популярность, но повторение коих может, однако ж, поселить недоумение в сердцах твоих сограждан!
Эта рассудительная речь не очень-то пришлась по вкусу Саше, потому что в течение ее он несколько раз то краснел, то бледнел. И будь я несколько менее энергичен в моих выводах, очень возможно, что воспоминание о Луизе Селиверстовне, облеченной в трико, пересилило бы мою нравоучительную прозу. Но когда я упомянул о возможности путешествия по этапу, он не мог не признать моей правоты…
Увы! в Зоологическом саду нас ожидало торжество еще более умилительное, нежели в Демидроне. Едва подъехали мы к решетке сада, как единодушный и радостный рев животных и птиц возвестил нас, что мы – давно желанные здесь гости. И действительно, совершилось нечто волшебное. Прежде всего, выступил вперед громадный жираф и, от лица всех своих товарищей, приветствовал Сашеньку краткою, но прочувствованною речью. Затем последовало общее представление. Мы поочередно переходили от тигра к слону, от слона к пернатым, и везде слышали самые лестные приветствия. Даже гиена вильнула хвостом в знак сочувствия, а попугаи так просто-напросто одурели и начали лопотать что-то совсем нескладное. Когда же звери умолкли, то вышел вперед начальник зулусов (впоследствии разъяснилось, что он в то же время состоит арапом в клубе художников) и объяснил собравшимся гимназистам и кадетам значение настоящего торжества. Он очень толково рассказал, в каких обстоятельствах Сашенька был высечен, как он сам сознал, что иначе поступить было невозможно, и вот за это теперь превознесен; потом похвалил энергию Ивана Алексеича и, в заключение, обратившись ко мне, присовокупил: «А ты, дядя, веселись!» Речь эта возбудила такой энтузиазм, что когда вслед за тем начался «большой танец зулусов», то вся присутствовавшая в саду молодежь вмешалась в их игры, и таким образом сам собою, без всяких мер строгости, образовался истинно семейный праздник.
Нет надобности упоминать, что ни с меня, ни с Сашеньки не было взято за вход ни копейки, а Сашеньке, кажется, даже была вручена какая-то мелочь, когда мы садились на извозчика.
Справедливость требует, однако ж, сознаться, что нынешнее торжество подействовало на Сашу несколько иначе, нежели вчерашнее. Вчера он был взволнован и стыдлив, сегодня – самонадеян и даже несколько нагл. Так что, когда я напомнил ему:
– Ну, вот если б ты давеча не послушался меня и ушел к Луизе Селиверстовне, то ничего бы этого не было! – то, к величайшему моему изумлению, он совершенно развязно ответил:
– Ах, дядя, я позабыл и думать об этих пустяках! Знаете ли, какая у меня теперь мысль: давайте-ка вместе издавать газету!
И так как я, онемев от неожиданности, безмолвствовал, то он продолжал:
– Теперь самое время. Я популярен, и газета моя будет покупаться нарасхват. А за мною и вы незаметно пройдете!
Ужели и я буду вынужден высечь его! мелькнуло у меня в голове, но, по счастию, мы в эту минуту поравнялись с кондитерской братьев Назаровых, и это лишило меня возможности сообщить моей мысли надлежащее развитие.
Оказалось, что и Назаровым все было уже известно, так что и тут с нас ничего не взяли за угощение. Этого мало: когда мы возвращались домой пешком, то от самой Караванной за нами шла толпа, провожавшая нас кликами: вот благонравный юноша, который, быв высечен папенькой, навсегда отказался от внутренней политики!
Я не буду описывать дальнейших триумфов Сашеньки. В «Баварии», в «Ливадии», на Крестовском, в «Эльдорадо», в «Шато-де-Флёр» – везде он был дорогим и желанным гостем, а из Озерков тамошние дамочки даже послали на имя кузины Маши телеграмму, в которой благодарили ее за вступление в брак, плодом которого был столь благонравный сын.
Когда же исчерпался репертуар торжеств в увеселительных заведениях, то на сцену выступили учреждения и установления.
Городская дума прислала Сашеньке патент на звание почетного члена трактирной депутации.
Государственный банк дал знать, что ежели у Сашеньки имеются ветхие ассигнации, то он во всякое время может переменить их на новенькие, причем присовокупил, что по предъявлении таковых выдается из разменной кассы банка соответствующее количество рублей серебряною или золотою монетою.
Общество взаимного кредита уведомило, что Сашенькины деньги могут быть без опасения помещены в оном на текущий счет, так как отныне растраты перестали быть для общества обязательными.
Из участка пришел запрос: не примет ли Сашенька место паспортиста?
И проч., и проч.
Словом сказать, депутации сменяли одна другую, и всякая выражала Сашеньке свое удивление и благодарность за то, что он, быв высечен папенькой, навсегда отказался от внутренней политики…
К сожалению, по мере того как росла Сашенькина слава, сам он становился все более и более самонадеянным. Нервы его уже притупились, а развязность дошла до того, что он начал требовать от депутатов каких-то статистических сведений * , и когда они, натурально, не умели удовлетворить этому требованию, то он откровенно называл их фофанами. И, к довершению всего, мысль об издании газеты не только не оставила его, но даже вполне в нем созрела, так что однажды он совсем уже грубо спросил меня:
– Что же, дядя? Надумались ли вы насчет газеты? Предупреждаю вас, что если вы будете мямлить, то я решусь издавать один!
Тогда я понял, что времена созрели, и, призвав на помощь всю силу родственной любви, на которую способно мое сердце, воскликнул:
– Ну, Саша! воля твоя, а в видах твоего же собственного спасения, я должен высечь тебя!
Первое октября *
Для писателя нет большей награды, как иметь публику, которая настолько ему верит, что даже от времени до времени удостаивает его непосредственным с собою общением. Я могу считать себя одним из таких счастливцев. Говорю об этом не ради хвастовства, но именно потому, что горжусь. Уверенность, что есть существо, которое откликается на вашу мысль и волнуется вашими волнениями, которое в вашей работе видит не балагурство, а убежденность, которое понимает, что служение литературе есть путь трудный и до известной степени даже сопряженный с калечеством, – эта уверенность, говорю я, не только приятная, но почти равняющаяся наслаждению. Наглотавшись от представителей современного русского критиканства разных эпитетов * , вроде «непочтительного хама», «балагура», «бессознательного шута», «ругателя» и т. д., приятно убедиться, что эпитеты эти не пользуются симпатиями в среде читающей публики. И я воистину имел возможность убедиться в этом, потому что, за все время моей литературной деятельности, отношения ко мне читателей имели характер почти исключительно благожелательный и симпатичный. Только раза два (один раз по поводу «Дворянской хандры», в другой раз не помню, по какому поводу) неизвестные корреспонденты писали мне: замолчи… бесполезный старик! И, помнится, я даже серьезно задумался над этим предостережением. В самом деле, думалось мне, не пора ли это занятие прекратить? Ведь настоящего-то слова, как ни бейся, все-таки не выговоришь * , так не лучше ли попросту без затей замолчать?. Но, сообразив все доводы pro и contra [130]130
за и против.
[Закрыть], я решил иначе. Очень возможно, сказал я себе, что «старикам» действительно приличнее думать о смертном часе, нежели о собеседованиях с живыми людьми, но ведь для дела тогда только бывает полезно, что вышедший из лет рабочий снимает с себя тягло, когда на место его уже явился новый рабочий, а, пожалуй, и целых два. Но в современной русской литературе мы видим явление совершенно противоположное: новые рабочие силы появляются туго, а старые сходят с арены сами собой, естественным путем. Стало быть, ежели, сверх того, старые тягольники будут еще добровольно обрекать себя на молчание, то, пожалуй, литература совсем течение свое прекратит, и останется одно цензурное ведомство. А сверх того, и то еще сдается, что старики не всё же одни праздные слова говорят. Иногда выдастся что-нибудь и не бесполезное: воспоминание, справка, забытый, но не лишний, по обстоятельствам, образ и т. д. Ужели все это уже такой ненужный сор, который заслуживает только укора? Словом сказать, взвесил, рассудил и решил дело в свою пользу, то есть стал продолжать писать.
Но как ни приятно, что читатели удостоивают меня доверием, а некоторые даже приносят жалобы и требуют распоряжения по оным, нужно сознаться, однако ж, что я не всегда и не все властен сделать. Для меня это тем необходимее объяснить, что, не имея в своем распоряжении канцелярии, я не могу быть вполне исправным корреспондентом и, вследствие этого, рискую подвергнуться упрекам в нерадивости и бездействии власти, совершенно мною незаслуженным, что со мною однажды уж и случилось.
Я помню, в период так называемого обличительного направления моей литературной деятельности я был буквально завален всякого рода жалобами на несправедливые и несогласные с интересом казны действия различных ведомств. И жалобы эти были не голословные, но поддерживались фактами, о которых и сообщалось, на предмет «отделки» в ближайшем «обличении». К сожалению, однако ж, я никаких существенных распоряжений к удовлетворению этих жалоб сделать не мог. С одной стороны, факты, изолированные от жизненной обстановки, которая их породила, представляют настолько скудный материал для воспроизведения, что я совершенно не мог воспользоваться ими для моих литературных работ, а с другой – я не имел в своем распоряжении подчиненных, при посредстве которых мог бы, по произволению, восстановить нарушенное право. Поэтому мне оставалось только указывать, что с подобными жалобами надлежит обращаться не ко мне, а в правительствующий сенат.
Понятно, однако ж, что такого рода указание не могло не подействовать на моих доверителей разочаровывающим образом. Вероятно, многие из них сказали себе: эге! ты, видно, прыток, а не силен! а другие прямо заподозрили, что я не то чтобы не могу, а не хочу, или, лучше сказать, берегу свою шкуру. Пошла худая молва, и хотя публика продолжала благосклонно относиться к моим трудам, но вера в могущество обличительного дела уже прекратилась. А вместе с тем, временно перемежилось и непосредственное общение между мною и моими доверителями.
Наступил период затишья * , в продолжение которого я очень страдал. Доверители уже не обращались ко мне с жалобами, но по-прежнему начали кому следует барашка в бумажке предлагать, приговаривая: этак-то будет прочнее. Выходило, что я как будто только спутал их: научил фордыбачить и кобениться, а как это фордыбаченье отстоять – средств не преподал. Ходили даже такие слухи, что многие, увлеченные моими обличениями, до такой степени оплошали, что впоследствии вынуждены были целыми стадами отчуждать баранов, лишь бы восстановить потрясенную фордыбаченьем репутацию. Все это, повторяю, серьезно огорчило меня, и хотя совесть моя оставалась спокойной, но я все-таки не счел себя вправе не воспользоваться уроком.
Я сказал себе: доныне я обличал мздоимцев и казнокрадов, но, в противоположность всем моим намерениям, произошло нечто совсем неожиданное: обличения не только не прекратили мзду, но даже удесятерили размеры ее. Правда, что одновременно и экономические условия чиновнического быта значительно осложнились, но главную причину увеличения мзды все-таки составляло обличение. Определяя размеры предстоящего приношения, мздоимец говорил: вот эта часть – по бывшим примерам, вот эта – по случаю увеличения цен на съестные припасы, а вот эта – на случай обличения. Причем последняя доля, наверное, равнялась семи десятым общей суммы приношения. Все это прямо указывало, что мздоимцев следует оставить в покое, по крайней мере, до тех пор, пока между ними и обывателями не состоится полюбовное соглашение, которое на прочных основаниях установит их взаимные отношения.
Сказано – сделано. Но вопрос: о чем же писать? Однажды мысль потревожена, надо дать ей пищу – какую? Вот тогда-то именно я и принял решение, при котором остаюсь и до сих пор: писать так, чтобы всем было одинаково приятно, и мздоимцам, и партикулярным людям.
Наша изба не одними мздоимцами красна; и между обывателями достаточно выжиг найдется, которых ежели начать перебирать, то, наверное, читатель останется доволен. Дерунов, Неугодов, Разуваев, Балалайкин – каких еще героев надо! Отечество продают, присных обездоливают, жен и дев в соблазн вводят – ужели та́к им это и простить?
А сверх того, и еще: очень уж жить тяжело становится; почти противно. И не от того одного, что харчи с каждым днем дорожают, а и от того, что вообще как-то не по себе. Все думается: когда же нибудь, однако, она начнется, эта самая жизнь, а она, вместо того, только пуще да пуще вглубь уходит. Пожалуй, та́к, наконец, схоронится, что и отыскать нельзя будет. Как хотите, а это тоже сюжет, о котором, хоть и без пользы, но все-таки можно поговорить…
Я знаю: критиканы, обзывающие меня балагуром, сейчас же изловят, меня. Зачем, скажут, ты вклеил фразу «хоть и без пользы»? ведь это ты сбалагурил? – нет; я не сбалагурил; напротив, я совершенно искренно и серьезно убежден, что, по нынешнему времени, говорить можно именно только без пользы, то есть без всякого расчета на какие-нибудь практические последствия. Но для чего ж тогда говорить? А для того, милостивые государи, чтобы от времени до времени напоминать самому себе, что дар слова не есть
Дар напрасный, дар случайный * , —
но действительное отличие человека от бессловесных. Только для этого.
И вот, настроивши лиру, я начал бряцать. И чем больше бряцал, тем шире растворялись сердца и прочнее восстановлялось интимное общение, которое временно пошатнулось под влиянием тщеты обличений. Должно быть, в сердцах читателей порядочно-таки наболело; должно быть, и им по горло надоели все эти неуклонные осуществители самоновейших принципов современности, эти проворные хищники, от которых ни в какую нору нельзя уйти, чтоб они не заползли следом и не присосались. Да надоел и самый жизненный процесс. Не живешь, а в оцепенении движешься, словно выморочное имущество * , которым всякий встречный помыкает, покуда, наконец, не выйдет решение: имущество сие, яко выморочное, отписать в казну.
Нет спора, что перспективы, на которые я указываю, не весьма заманчивы, но коль скоро они не отталкивают, но привлекают партикулярного человека, то это значит, что последний сам видит их неизбежность, сам болеет теми же болями, какими болею и я. Наш недуг общий, только он не для всех и не всегда ясен, и, в большинстве случаев, он выражается лишь в смутном сознании, что человека как будто не прибывает, а убывает. Но когда причины, обусловливающие тревогу, выясняются, то это не только не раздражает, но даже в известной степени смягчает причиняемое недугом страдание. Ибо уже в самом указании признаков недуга партикулярный человек почерпает для себя косвенное облегчение. Помилуйте! доныне он изнывал, как слепец, а отчасти даже суеверно трепетал перед обстановкой своего недуга, считая ее неизбывною, от веков определенною, – и вдруг, благодаря объяснениям, смешения эти устраняются! Явления утрачивают громадные пропорции, которые так давили воображение, и размещаются в том порядке, в каком им естественно быть надлежит… Ужели это не утешение? ужели не утешение сказать себе: сначала – ясность, а потом – что бог даст?
. . . . . . . . . .
В сентябре я получил целую массу писем, которые доказали мне, что публика именно с этой точки зрения относится к моим посильным литературным трудам. Моя хроника «Первое августа», по-видимому, произвела свое действие, то есть заставила даже таких упорных противников, как Тарас Скотинин и Дерунов, признать за моими писаниями некоторую пользу. Из числа этих писем, я позволяю себе привести здесь только несколько наиболее характерных.
«Руку, земляк! Собственность признаешь, семейство приемлешь, государство чтишь – на что́ лучше! Разумейте языцы – и разговору конец!
Так, сударь, и надо. Ах, очень нынче нужно об собственности почаще напоминать, ибо весьма на сей счет в нашей местности слабо стало. Даже племянник мой, Митрофан, и тот оными идеями заразился, и вот уж который год мы оба из камеры мирового судьи не выходим, всё судимся. По сей причине даже в Петербург сколько раз надумывал ехать: хочется от хороших адвокатов узнать, не могу ли я, как старший в роде, Митрофана в смирительный дом посадить? Сказывают, у вас такие адвокаты есть, которые могут доказать, что старшие даже сечь младших право имеют, но я сего уж не добиваюсь, а хотя бы в смирительный дом. Наши же пензенские адвокаты на сей счет трояко говорят: ежели я больше дам, то якобы можно; если Митрофан * больше даст, то якобы нельзя; а ежели я еще больше дам, то и опять выходит, что «можно. Так что и семейный союз будто бы от того зависит, кто лишний полтинник даст!
Да, слабо нынче вообще – это вы верно, мой друг, угадали. С тех пор как объявили ядовитую оную волю, и собственность, и семейство – все врозь пошло, а об государстве даже и не знаем, что́ сей сон означает. Еще в Пензе мы, по мере сил, крепимся, а что в соседней Саратовской губернии и в Войске Донском по сему случаю творится – даже я, Тарас Скотинин * , без слез взирать не могу! Уж на что́ сестрица моя, госпожа Простакова, * – и та с тех пор, как в балашовское свое имение переехала, сейчас же против священных сих основ вооружилась! Начала с того, что Митрофана прокляла, а ныне и на меня, старшего брата своего, войною пошла! Имел я с нею процесс о земле и, благодарение богу, успел ту землю в первой инстанции законным образом у нее оттягать. И что ж бы вы думали! вместо того чтоб покориться воле божьей и беспрекословно мне землю из рук в руки передать, а я бы ей, всеконечно, до смерти ее в доме моем приют дал, она подала на апелляцию, а Митрофан, сверх того, научил еще и прокурору заявление подать, будто бы с моей стороны подлог в деле сем совершен. И ныне, по апелляции, вновь это дело рассматривается, а обо мне следствие производится! Так вот в каком положении находится в Саратовской губернии семейный союз!
Итак, по сему случаю, а равно и по другим подобным, предвижу необходимость быть в Питере. Может быть, у вас насчет сего покрепче. И непременно у тебя, земляк, остановлюсь: авось-либо в литераторских палатах для старого друга угол найдется. Ведь, по правде-то сказать, мы не только земляки, но и родные: все от одного древнего Прогореловского рода линию-то ведем, и все одинаково с 61-го года в подсудимых значимся!
Тарас Скотинин».
«По приказанию его превосходительства г. действительного статского советника Рудина * , имею честь Вас, Милостивый Государь, уведомить, что выраженные Вами в статье-хронике «Первое августа» чувства, относительно собственности, семейственности и государственности, признаются его превосходительством вполне с обстоятельствами дела сходственными и одобрения достойными.
Делопроизводитель Лаврецкий * ».
Сбоку приписано рукою г. Лаврецкого:«Считаю приятным долгом с своей стороны присовокупить, что объяснения Ваши произвели столь благоприятное впечатление, что его превосходительство вызвал к себе автора огорчившей Вас статьи «Наши охранители и наши прогрессисты» и просил его, в личное для себя одолжение, из списка неблагонадежных элементов Вас исключить. На что и получено благосклонное уверение, что надлежащее по сему предмету распоряжение будет немедленно сделано».
«Душка Щедрин!
Вот в чем дело, расскажу поскорее. Когда умер папаша, ничего после него не осталось; даже дом наш в Миргороде – и тот оттягал ненасытный Довгочхун. И вот я переехала на житье к тетеньке Феодулии Ивановне Собакевичевой, которая, после смерти дяденьки, осталась совсем одна, потому что, во время воли, все дворовые, а в том числе и верный Неуважай-Корыто, разбежались. И вот приезжает к нам прошлою осенью Павел Иванович Чичиков и говорит, что теперь он уж адвокат и ездит по помещикам, разузнаёт, нет ли у кого процессов. И вот тетенька ужасно ему обрадовалась и говорит: можете ли вы похлопотать, чтоб крепостное право хотя на тех вновь распространить, которые для прислуг и полевых работ необходимы, а прочие чтобы оброк платили? И он охотно на это согласился, и доверенность тут же написали, а марки он с собой гербовые возит – сто́ит только послюнить, и делу конец. И вот тетенька сорок рублей задатку дала, а ночевать ему отвели ту самую комнату, в которой он в 1841 году ночевал. И адрес, уезжая, он нам оставил: «С.-Петербург – Москва, на станции, спросить буфетчика Петра, а вас, милостивый государь, прошу передать кому знаете». И как у нас нет прислуги, то мы поверили. И вот мы ждем. И вот через девять месяцев у меня рождается сын. А так как он взял вперед сорок рублей денег, то я и поверила, что будет твердо, он же хоть бы строчку написал, а между прочим, и насчет сына – разве это не подлость? И вот теперь за меня хороший человек сватается, Мижуев-Фетюк, и с сыном вместе берет, а я боюсь, и тетенька боится: вдруг ежели Павел Иваныч приедет! А теперь нам говорят, что Павел Иваныч все это на смех сделал и адрес будто бы фальшивый оставил – ведь это такая уж подлость, что мы с тетенькой думаем: неужто и этому верить? И вот мы не знаем, как в этом случае быть, потому что мы женщины, а для женского пола, говорят, закон не писан. Даже Неуважай-Корыто – и тот нас оглашенными называет, и мы не возражаем, боимся, как бы не вышло хуже. И вдруг тетеньке мысль пришла: напишем, говорит, к г. Щедрину! Он так собственность и семейство уважает, что непременно за нас заступится! А об государстве, говорит, покуда не проси! и так как-нибудь по женской своей должности проживем!
И вот я беру перо.
Душка! чудесный! голубчик! Нельзя ли все это в смешном виде представить, но так, чтобы Павел Иваныч непременно прочитал! Я уверена, что если вы захотите, то он раскается и опять к нам приедет. А комната у нас для него готова. И ежели он по тетенькиной доверенности ничего не выхлопотал, все-таки пусть приезжает или, по крайней мере, пусть хоть письмо пришлет, могу ли я за господина Мижуева выйти? А я как вам буду за это, голубчик, благодарна… вот увидите!
Ваша по гроб Гапочка Перерепенкова».
«Милостивый Государь.
Прочитав Вашу статью «Первое августа», я с удовольствием известился, что Вы собственность признаете, семейство приемлете, государство чтите. Посему, ежели при известном свидании [131]131
См. «Благонамеренные речи». ( Прим. M. E. Салтыкова-Щедрина.)
[Закрыть], в разговоре насчет армий и флотов, что-нибудь ненарочно сказалось, в том прошу великодушно меня извинить, отнеся оное насчет моей простоты.
При сем нелишним, однако ж, почитаю представить на благоусмотрение Ваше нижеследующие мои соображения:
Пишете Вы, Милостивый Государь, что негоциант, ежели доподлинно собственность чтит, обязан дела свои в таком виде иметь, чтобы ежечасно быть готовым во всяком рубле перед публикою чистосердечный отчет дать. Откуда тот рубль пришел и как составился? сколько в нем копеек законного прибытка и сколько – грабежа? С своей стороны, не отрицая пользы, которая от такового чистосердечия произойти может, позволяю себе возразить лишь то, что, по званию нашему, одно что-нибудь: или дела делать, или отчеты отдавать. Ибо звание наше на этот счет довольно-таки строго, так что, если нужное для операций время мы станем употреблять для чистосердечиев, то операции запустим, а чистосердечиями никому удовольствия не предоставим.








