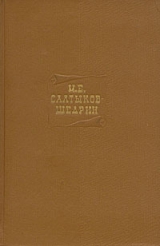
Текст книги "Том 13. Господа Головлевы. Убежище Монрепо"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 61 страниц)
– Ну, лестного-то немного, положим.
– Нет, лестно, даже очень лестно. Помилуй! ты гарцуешь, а Кузьки – без шапок в спасительном страхе обретаются… какой картины еще лучше желать!
– Ах, дядя, дядя! что ж делать, коли других средств нет!
– Оттого и средств нет, что мы искони думаем, ка́к бы полегче да попроще преуспеть. А ты коли хочешь новую эру в сфере мероприятий наметить, то рассуждай так: я желаю достигнуть того-то и того-то (так и начинай с подробного определения твоих желаний, а не с того, что у меня, дескать, руки чешутся), следовательно, обязываюсь в этом смысле потрудиться, а не бежать куда глаза глядят.
– Зачем же дело стало! потрудитесь вы, mon oncle!
Замечание это было не лишено язвительности и застало меня несколько врасплох. Но, разумеется, в конце концов я таки нашелся.
– Ты опять к инсинуациям прибегаешь, любезный друг, – сказал я, – сейчас только я объяснил тебе, как это неприлично в частной беседе, а ты уж и позабыл. Нехорошо это, даже коварно. Я к тебе обращаю мою речь * , к тебе, к человеку, до краев переполненному проектов об упрочении твоей карьеры, тебе говорю: потрудись! – а ты предательски перевертываешь мою речь и говоришь: потрудись сам! И говоришь, зная, что моя песня спета, что мне и жить-то противно, что я ни о чем так охотно не думаю, как о том, чтоб уйти, стушеваться, исчезнуть… Ах, молодой человек, молодой человек! из молодых, да ранний!
– Да ведь я, дядя, по-родственному. Вижу, что вы критикуете, – вот я и заключил: может быть, mon oncle и потрудиться не прочь?
– Я ничего не критикую, а лично тебе говорю: стыдись! * Извини, любезный друг, я тоже по-родственному!
Феденька ни слова не ответил на мою резкость (по-видимому, он даже не обиделся ею), а только с беспечным видом помахал в воздухе тросточкой и потихоньку, сквозь зубы, пропел:
– Понимаю, – сказал я, – ты хочешь дать мне понять, что мои иеремиады так же стары, как эта песенка. Что нынче в Демидроне уж совсем другие песни поют… Но уверяю тебя, что критики мои во́все не так устарели, как это кажется.
Но Феденька и на этот раз, вместо ответа, пропел:
– И эту песенку я знаю, – сказал я, – и знаю целое поколение таких, как ты, которое воспитывалось на подобных песенках. Когда одни гривуазные песни на уме, тогда, конечно, кажется, что на свете все распутывается легко.
– Послушайте, mon oncle! ужели вся эта материя сто́ит того, чтоб из-за нее огорчаться и говорить обидные слова!
– Разумеется, сто́ит. Ведь ты карьерист, пойми меня, Христа ради! Если б ты не был уверен в успехе, я бы не тратился на слова. Но ты уверен в себе и в то же время совершенно серьезно лелеешь подтягивательные идеалы, забывая, что они гораздо старее даже тех песенок, которые ты сейчас пропел. Надо же поколебать в тебе это убеждение! надо же высказать тебе, что подобные идеалы ни процветания, ни преуспеяния никогда не производили. Надо, чтоб ты понял, что на свете существуют не две только разновидности: человек-начальник и человек-бунтовщик, но есть еще средний человек, трудящийся и скромный, человек, который предпочитает спокойствие беспокойству, свободу стеснению, потому что видит в спокойствии и свободе единственную ограду своей личности и своего труда. Вот этого-то среднего человека и не следует тревожить.
– Даже если он принадлежит к числу сочувствователей?
– Умоляю тебя, не говори неопрятных слов! «Сочувствователь» – это одна из самых пакостных кличек, каких множество сочинено в последнее время и начертано на стенах ретирадных мест. Она придумана с тем, чтобы клеймить людей, не совсем утративших чувство человечности, и это придает ей еще более отвратительный смысл. К счастью для человечества, на свете больше добрых людей, нежели злых, больше чистых сердцем, нежели змееподобных ретирадников. Но ка́к ты думаешь, однако ж, весело ли этим людям видеть, как на них перстами указывают?
– C’est la fatalite, mon oncle * [100]100
Судьба, дядюшка.
[Закрыть]вот все, что могу вам на это сказать.
– Подумай, однако ж! какое может быть преуспеянье, когда ты об том только мечтаешь, как бы хорошенько испугать? какая может быть производительность, когда «средний человек» (он же и, несомненно, производительный) будет ежемгновенно видеть перед собою тебя, мелькающего, сверкающего, помахивающего, потрясающего…
– И оглашающего стогны непечатными словами… я знаю это, mon oncle! знаю наизусть, но и за всем тем остаюсь при своих убеждениях…
– Выражающихся в одном слове «подтянуть» – помилуй! разве это убеждение?
– Ну, там как хотите, а я знаю, что у меня есть убеждения, и знаю, в чем они состоят. И поверьте, не ошибусь.
– Эй, Федя, не ошибись! Не вечно ведь будут проповедовать, что крестьянская реформа есть источник всех зол, что суд присяжных – злонамеренная комедия, что свободная печать – вертеп мошенников пера, что человечность равна сочувствию… Нынче это, конечно, в моде, но завтра, быть может, и выйдет из моды.
– А ежели ошибусь, так и отвечу. Нынче мы все так настроены. Согласитесь, что иначе не было бы конца ерунде. А ерунда всего опаснее * , и надо во что бы то ни стало выбраться из нее. Согласны?
– Согласен, что в ерунде мало хорошего, но знаешь ли, по совести говоря, у меня сердце все-таки больше лежит к ерунде, нежели к неуклонному шествию.
– У всякого свой вкус. Однако ж я с вами заболтался, mon oncle. Семь часов, пора и за работу. До свидания; надеюсь, что вы на меня не в претензии?
– Помилуй, дружок, за что? Вот ты на меня… ах, да скажи же, пожалуйста, ка́к maman? давно ты не получал от нее писем?
– Вчера получил. Пишет, что здорова и собирается сюда.
– Вот как!
– Да; но признаюсь, я все еще сомневаюсь. Боюсь, как бы она, вместо Петербурга, не очутилась в стране зулусов, в качестве сестры милосердия при принце Наполеоне * . Во всяком случае, ежели она приедет – мы ваши гости, mon oncle. A bientôt et sans rancune.
С этими словами он пожал мне руку и побрел вдоль по аллее к выходу.
Первое июля *
Почти весь июнь я посвятил семейным радостям.
Это было утром; часов около двух раздался звонок.
Выхожу; вижу, в гостиной расположилась дамочка. Маленькая, но уже слегка отяжелевшая, рыхлая; с мягкими, начинающими расплываться чертами лица, с смеющимися глазками, с пышно взбитым белокурым ореолом вокруг головки. Но сколько было намотано на ней всяких дорогих ветошек – это ни в сказке сказать, ни пером описать. Вероятно, она не меньше трех часов сряду охорашивалась перед целым сочетанием зеркал, прежде нежели явиться во всеоружии. При моем появлении дамочка устремилась ко мне, но, видя, что я ее не узнаю, остановилась в горестном недоумении.
– Cousin! [101]101
Братец.
[Закрыть]стало быть, я очень подурнела, если ты меня не узнаешь! – вылетело горестное восклицание из ее крепко схваченной корсетом груди.
И в один миг две крошечные слезки затуманили крошечные глазки.
Да, это была Nathalie. Все та же маленькая, с тем же вопрошающим и как бы изумленным личиком, с теми же порывистыми, почти необъяснимыми телодвижениями. Та же, да не та. Что же, однако, случилось с нею? Точно кто-нибудь, проходя мимо этой еще не так давно тому назад свеженарисованной картинки, неосторожно задел рукавом и слегка затушевал мягкие очертания.
– Nathalie! голубушка моя! Ну, разумеется… разумеется, это ты! – воскликнул я в умилении, – но ка́к ты могла подумать, что подурнела! Подурнела… ты!
Две новые слезки блеснули в крошечных глазках, но это были уж слезки радости.
– Не только не подурнела, – продолжал я, – но даже удивительно как похорошела! Пополнела, выражение какое-то приобрела… Ах, милая, милая! наконец!
Она жадно вслушивалась в мои похвалы и, вся переполненная счастием, крепко сжимала мою руку.
– А помнишь, cousin, как мы однажды заблудились в саду, в куртине? Какой ты был тогда… дурной! – вдруг совсем неожиданно вспомнила она и – о, неисповедимые глубины женского сердца! – кажется, даже застыдилась.
Это произошло ровно тридцать два года тому назад. Ей было с небольшим пятнадцать лет (почти невеста), мне – двадцать три года. В то время я был ужаснейший сорвиголова – просто, как говорится, ничего святого. Увижу хорошенькую дамочку или девочку и сейчас же чувствую, как все внутри у меня поет: rien n’est sacré pour un sapeurrrrre! [102]102
для сапера нет ничего святого!
[Закрыть]Я помню, я гостил у tante Babette [103]103
тети Вари.
[Закрыть](так звали Наташину maman, тоже куколку); однажды, гуляя с Наташей по дорожкам сада, мы бегали, перегоняли друг друга и, бегая и перегоняясь, все забирали влево да влево. И вдруг очутились бог знает где, в совсем диком месте, среди четырех кустов.
– Где мы? – спросила Наташа взволнованная.
Я помню: я обнял ее, поцеловал, погладил по головке и… вывел на правый путь!! Однако весь остальной день после этого Наташа ходила несколько томная и удивительно-удивительно нежная…
Я думал, что она давно об этом забыла, как забыл и я сам, а оказывается, что она помнила, всегда помнила. И не только помнила, но хранила секрет, не говорила ни maman, ни мужу, штабс-ротмистру Неугодову. О благодарное женское сердце! Только ты можешь с таким благоговейным упорством хранить память о заблуждении среди четырех кустов!
И теперь, как тогда, я обнял ее, поцеловал и погладил по головке – все как тогда. И, обнимая, чувствовал, как на моей груди чуть слышно поскрипывает ее корсет…
– Милая, милая! – повторил я в восхищении, – о, если бы!..
Я хотел сказать: о, если бы мне не было пятидесяти пяти лет! но вспомнил, что ежели из пятидесяти пяти вычесть восемь, то это все-таки составит ровно сорок семь лет, возраст очень и очень не маленький, – и замолчал.
– У кого ты заказываешь корсеты? – спросил я ее.
– У Lavertujon, Paris, rue… numéro… [104]104
У Лавертюжон, Париж, улица… №…
[Закрыть]– заспешила она, – a что?
– Изумительный!
– Ах, ты не можешь себе представить, какие это корсеты! Я совсем, совсем не чувствую, есть ли на мне корсет или нет!
– Изумительно! Но все-таки скажу: охота вам, таким «душкам», кирасирские доспехи на себя надевать!
– А ты все такой же дурной, как тогда… помнишь?
Она опять застыдилась и погрозила мне пальчиком. Я не выдержал, поймал этот пальчик и поцеловал… Душка-пальчик! плутишка-пальчик!
Я вспомнил окончательно… все как было. Вспомнил и смотрел на нее с восхищением. Да, это она, это моя «куколка», несмотря на то, что пополнела и налилась больше чем нужно, чтобы быть à point [105]105
как раз в меру.
[Закрыть]. Она никогда и не переставала быть куколкой, а только постепенно зрела и, наконец, совсем поспела, сделалась куколкой, вполне сформировавшеюся, способной переносить вояжи и даже некоторые – конечно, небольшие – огорчения. В последний раз, как мы виделись, в ней все еще замечались признаки чего-то несовершенного, сделанного на живую нитку. Но теперь ничего подобного уже не было: нитки от времени заплыли, все уставилось на своем месте, улеглось. Вышла куколка на диво, с ответом без починки на сколько угодно лет.
И что всего приятнее, у этих куколок всегда все принадлежности в уменьшительном. Нет ни руки, ни ноги, ни носа, ни рта, а ручка, ножка, носик, ротик. Это делает речь чрезвычайно учтивою. И притом: ручка-душка, ножка-плутишка, носик-цыпка, ротик-розанчик. А грудка – так это даже сказать нельзя, что́ это такое! Точь-в-точь малюсенькое гнездышко, в котором сидят два беленьких голубо́чка и тихонько под корсетом трепещутся! Ах!
– А помнишь, Наташа, – воскликнул я, – как, бывало, твой Simon [106]106
Семен.
[Закрыть]возьмет тебя в охапку и унесет неведомо куда… знаешь ли, ведь это было отчасти даже скандально!
– Ах, не вспоминай… я так была тогда счастлива! И опять две слезки.
– А ты как? – спохватилась она, – все такой же… дурной?
Очевидно, что лексикон ее был не разнообразен. Но и это опять-таки мило. Она знает, что она куколка и что les messieurs [107]107
мужчины.
[Закрыть]любят куколок совсем не за лексикон. Они любят потому, что они… дурные. Это слово запало в ее голову, и она повторяет его, как повторяла и ее куколка-maman. Они дурные, но, вместе с тем, они и милые, хотя об этом не принято говорить, а можно только по секрету думать. И maman ее по секрету так думала, и в доказательство, что les messieurs бывают и милые, большая куколка произвела на свет маленькую куколку. Дурные и милые – весь круг ее мыслей тут, а в то же время и весь лексикон. Ужели это не трогательно?
– Ну, что́ обо мне говорить! – ответил я, – нет, ты лучше вот что скажи: где ты это платьице шила?
– У Worth… я всегда у него, весь туалет делаю. Ах, он такой милый! Et gentleman – jusqu’au bout des ongles! [108]108
У Ворта… И джентльмен – до кончика ногтей!
[Закрыть]Когда он снимает мерку, я всегда хохочу. А тебе нравится это платье?
Она инстинктивно встала, подошла к зеркалу, посмотрелась спереди, отошла, потом повернулась, опять отошла, оглянулась и поправила сзади складочку.
– Не правда ли, хорошо?
– Восхитительно!
– И что ужасно приятно: я почти совсем не чувствую, что я одета. А впрочем, это достается не легко, потому что он (Worth) ужасно как строг! Когда он снимает мерку или примеривает – это целый урок… Он командует, à la lettre [109]109
буквально.
[Закрыть]командует. Представь себе, не позволяет дышать: tâchez de ne plus respirer… parfaitement! oui, c’est ça! [110]110
старайтесь не дышать… прекрасно! вот так!
[Закрыть]Приказывает принимать всевозможные позы: mélancolique, suppliante, impérieuse… [111]111
меланхолическую, умоляющую, повелительную.
[Закрыть]заставляет поднимать руки… И это… иногда без рукавов!
– Ах!
– Да, и мне ужасно было в первый раз страшно. Но потом привыкла – и ничего!
– Ну, а перчатки где берешь?
– Перчатки – у Boivin [112]112
Буавэн.
[Закрыть], шляпки – у Coralie [113]113
Корали.
[Закрыть]. Ну, посмотри: разве можно сказать, что это – шляпка?
Она опять подошла к зеркалу и повернулась перед ним.
– Какая это шляпка! Это – воздушное безе́! Это «шпанские ветры»… помнишь, у вас был повар Кузьма – как он отлично «шпанские ветры» приготовлял!
– Ах, Симон так любил это пирожное!
– И это пирожное, и тебя…
– Нет, он любил еще Милэди! помнишь, у нас рыженькая лошадка была, еще я верхом на ней всегда ездила? Еще однажды я так неловко свалилась?
– Помню, помню! Стало быть, три вещи Симон любил: «шпанские ветры», кобылку и тебя. Все вместе это составляет ваши семейные les pieux souvenirs [114]114
благоговейные воспоминания.
[Закрыть]. Но ножки твои, Наташа? Я непременно хочу твою ножку видеть!
Она слегка сжалась, молвила: ах, ты все такой же… дурной! но ножку все-таки показала… Ах, это была ножка!!
– Прелесть! – воскликнул я от глубины души, – и как обута – восхищенье!
– Да, но это уж не в Париже, – заметила она очень серьезно, – туфли и ботинки мне Теодо́р отсюда присылал от Auclair [115]115
Оклэр.
[Закрыть].
– Вот как! Что ж, впрочем, это и резонно. Я и сам: вино от Рауля беру, но балыки… о, балыки непременно надо в Москве на монетном дворе покупать… янтарь!
Упоминание о балыке, по-видимому, подействовало на нее возбудительно, потому что она инстинктивно потерла ручкой корсет в том месте, где даже у куколок предполагается желудочек. Куколка куколкой, а покушать тоже хочется.
– Покушать захотелось? – спросил я, – пожалуйста, не церемонься! приказывай!
– Да… крылышко… если можно! – прошептала она стыдливо.
– Зачем крылышко? котлеточку? бифштекцу?
Я поспешно распорядился, и через полчаса мы уже сидели за столом.
– Наташа! как тебе угодно, а я сяду поближе, рядышком. Помнишь, как в тот день? Утром мы заблудились, а за обедом, как ни в чем не бывало, сидели рядышком.
– И ты… ах, какой ты тогда был!
– Сорвиголова? Гм… я и теперь… А впрочем, нет – что́ уж теперь! Самая малость во мне теперь осталась, да и то больше вроде как напоминание…
– Ах, бедненький!
– Да, но тогда… тогда я действительно… Больших усилий мне стоило, чтоб вывести тебя… на правый путь! Ах, какие это были минуты!
Наташа глубоко-глубоко вздохнула, потом вдруг приподнялась и поцеловала меня в лоб.
– Это тебе за то, что ты помнишь… дурной!
– Не только это помню, но даже и еще многое вспомнил. Помнишь, в тот день у вас за обедом подавали суп-рассольник из цыплят, a maman положила тебе в тарелку пупочек?
– Ах, я обожала пупо́чки!
– Да, ты любила их, но, несмотря на это, зная, что я тоже люблю пупо́чки, и повинуясь влечению сердца, ты взяла и переложила пупочек в мою тарелку… я никогда, никогда этого не забуду!
– Но знаешь ли ты, что maman заметила это и после обеда ужасно меня забранила?
– Ужели? и ты скрыла от меня это!
– Зачем говорить! Я знала, что это тебя огорчит.
– Из-за меня пострадала! Нет, воля твоя, а я не могу. Я еще раз поцелую тебя за это!
И поцеловал.
Таким образом пролетело полчаса; но к концу этого срока les pieux souvenirs начали истощаться. Истощались, истощались и вдруг совсем иссякли. Был даже такой страшный момент, когда мне показалось, что я зевнул. К счастию, Наташа не заметила моей невежливости, потому что она в это время отвернулась… тоже чтобы зевнуть. Но вдруг она оживилась.
– А ведь я об чем-то сбиралась тебя попросить… ах, какая я глупенькая! об главном-то чуть-чуть не позабыла! Ты Филофея Иваныча помнишь?.. ах, ну да того самого Филофея Иваныча, который при Теодоре был воспитателем?
– Длинный такой?
– Совсем он уж не такой длинный… ты всегда, cousin, преувеличиваешь! Конечно, у него рост…
– Ну, словом сказать, того, с которым покойный Simon однажды распорядился… *
– И это ты преувеличиваешь: совсем это не так было. Конечно, Филофей Иваныч был тогда дурной, а я ничего не понимала и пожаловалась… Впрочем, Simon был всегда к нему несправедлив… Ah! les hommes sont si méchants! [116]116
Мужчины такие злые!
[Закрыть]
Она остановилась, и на этот раз уж не две, а ровно четыре слезинки выкатились из ее глазок.
– Ну, не огорчайся, душа моя, ведь я пошутил! – постарался я утешить ее, – говори же, что́ нужно тебе для Филофея Иваныча?
– Ты знаешь, как много наше семейство ему обязано. Даже Simon – и тот отдавал ему справедливость. Так что ежели Теодор имеет христианские правила, то это именно только благодаря ему.
– Ну-с, так чем же я могу быть ему полезным?
– Нельзя ли, голубчик, как-нибудь устроить его при вашей литературе?
– Ка́к это – при литературе?
– Ну, да, место какое-нибудь… ты это можешь, cousin! он говорил мне, что ты все, все можешь!
– Разве он пишет?
– Ах, он ужасно пишет! он целый день, целый день пишет! и даже один сам с собою декламирует! Некоторое он и мне читал… право, нисколько не хуже «Бедной Лизы»… Голубчик! прочти!
При этой просьбе les pieux souvenirs окончательно исчезли. Мне вдруг показалось, что я очутился в каком-то темном складе, где грудами навалены куколки, куколки, куколки без конца. Отличные куколки, лучшие в своем роде. Одеты – прелесть; ручки, ножки, личики, грудки – восторг; даже звуки какие-то издают, делают некоторые несложные движения головкой, глазками. Словом сказать, любую из них посадил бы в гостиную и любовался бы, как она глазки заводит. И вдруг одна из куколок встает и говорит: покажите, пожалуйста, как мне пройти в литературу! это я не для себя прошу… фи! а для Филофея Иваныча! И при этом начинает лепетать: «Бедная Лиза» * , «Марьина Роща» * , «Сарепта», «Вадим» * …Куколка, куколка! да ведь ты картонная! * ка́к это язычок твой выговорил: ли-те-ра-ту-ра? – Ах, это не я, это Филофей Иваныч… Как тут быть? Начать объяснять, что литература есть нечто серьезное и совсем не кукольное – не поверит; доказывать, что «Бедная Лиза» давно уж не представляет достаточного мерила для сравнения – не поймет…
Но тем-то именно и сильны куколки, что они ничего не понимают. И ежели, при этой силе непонимания, найдется мудрец, который овладеет ею и добьется, что куколка что-нибудь затвердит, то она, в пользу этого затверженного, способна будет на всякие доступные куколке подвиги. Будет с утра до вечера повторять одно и то же слово, будет сердиться, ронять слезки, жаловаться на судьбу. И непременно в конце концов чего-нибудь добьется: если не прямо несообразность какую-нибудь вынудит сделать, то заставит наобещать с три короба, налгать.
– Послушай, Наташа, неужели ты не знаешь, что литература – это своего рода республика, в которой таких мест, куда бы можно было «пристроить», не полагается? – спросил я, вместо ответа.
Я нарочно употребил такой оборот речи, чтоб она не сразу могла понять. Я думал: надо ее поразить чем-нибудь помудренее, заставить ее сначала прислушаться, постараться заучить. Она заучит, перескажет Филофею и, разумеется, переврет. Выйдет сначала одно недоразумение, потом еще недоразумение, потом десятки, сотни недоразумений – смотришь, ан время-то и прошло. Однако ж она даже и этой перспективы меня лишила.
– Значит, вакансий в эту минуту нет? – воскликнула она с неподдельной горестью.
– Не только в эту минуту… ах, пойми меня, ради Христа! ни в эту, ни в другую минуту, никогда вакансий не полагается! От природы их нет.
– Ах, ты меня обманываешь!
– Да нет же! если мне не веришь, кого хочешь спроси. Ну, Теодора.
– Теодор, напротив, говорит, что у вас беспрестанно места открываются. Да это так и должно быть, потому что как же иначе, без подчиненных, вы книжки бы издавали!
– Да очень просто; напишет кто-нибудь с воли хорошую вещь, ее и печатают!
– Ах, так ведь у него – много! Он целый большой сундук с собою привез!
– Ну, вот ты ему и скажи: пускай принесет. Конечно, не сразу весь сундук, а понемножку.
– И ты сейчас ему жалованье положишь?
Мне вдруг надоело. Мне даже показалось, что совсем это не куколка, а просто замоскворецкая тетеха, которая дремлет и во сне веревки вьет.
– Ну да! назначу! назначу! – крикнул я, чтоб как-нибудь покончить.
Однако ж мой тон огорчил ее.
– Вот ты и рассердился! – пролепетала она сквозь слезки, – сейчас был милый, а теперь… дурной! А я все-таки тебе благодарна. Хоть рассердился, а доброе дело сделал. И я доброе дело сделала… хоть и рассердила тебя.
С этими словами она встала и начала прощаться.
– Ну, до свидания, мой родной. Благодарю, что побаловал. За все, за все благодарю вообще… И за себя, и за Теодора, и за Филофея Иваныча.
– Что ж ты заспешила! скажи, по крайней мере, что предполагаешь делать летом! ведь Монрепо́-то уже нет?
– Да, уж нет! И как мне было грустно, если бы ты знал, когда Теодор написал, что наше милое Монрепо́ продано… Ведь там мой добрый, милый Simon…
Опять les pieux souvenirs. И слезки, счетом две.
– Теперь теснимся как-нибудь у Теодора, а там… Скучно у вас, cousin! Нет, что ни делайте, а все-таки не Париж! Нет, ты представь себе: Париж, да если при этом Henri Cinq * [117]117
Генрих Пятый.
[Закрыть]– ведь это что-то волшебное!
– Ну, этого-то, пожалуй, не дождешься!
– Нет, это непременно будет. Вообрази себе, какой однажды со мной случай был. Стою я в la Chapelle [118]118
в церкви Сент-Шапель.
[Закрыть]и молюсь. И вдруг – сама не знаю как – запела Vive Henri Quatre! vive ce roi vertgalant! [119]119
Да здравствует Генрих Четвертый! Да здравствует король, поклонник женщин!
[Закрыть]И с тех пор я верю, что французы когда-нибудь одумаются и обратятся к Henri Cinq.
– А покуда тебя за пенье, конечно, au violon? [120]120
в кутузку.
[Закрыть]
– Нет, там на это сквозь пальцы смотрят. Не знают, что будет впереди * , ну, и пропускают. А не правда ли, какая прелестная песенка? Впрочем, и Marseillaise… quel chant grandiose! [121]121
Марсельеза… какая величественная песнь!
[Закрыть]
– Ты, конечно, и Марсельезу пела!
– Я, cousin, все пела. Однажды я даже Паризьену * пела в честь герцога Омальского.
– Прекрасно; так и надо. Любезность – прежде всего. Впрочем, что ж мы о пустяках болтаем; скажи-ка лучше, довольна ли ты Теодором?
– Я – счастливейшая из матерей. Теодор – сокровище! Представь себе, отдал мне свою комнату, а сам с Филофеем Иванычем расположился на биваках в кабинете. Но знаешь ли что? мне кажется, он чересчур уж усерден. Все докладывает. Беспрестанно, с утра до глубокой ночи, все докладывает. Утром, часов в десять, придет ко мне, пока я еще в постеле, я его благословлю – и исчезнет на целый день.
– Зато и превознесен будет.
– Да, он пойдет; кажется, это одно его и поддерживает. Филофей Иваныч так об нем выразился: хотя ныне для Федора Семеныча и не без труда, но зато сколь сладко будет впоследствии держать в своих руках судьбы возлюбленного отечества! Вот как Филофей Иваныч говорит! и точно так пишет.
– Прекрасно.
– Очень рада, что тебе понравилось, потому что от тебя теперь все зависит. А как он читает! Особливо описания какие-нибудь: ветер, бурю – все так и слышишь! Ах, только бы ты ему жалованье поскорее назначил!
– Постараюсь, мой друг. Да что ты все об Филофее Иваныче! тебе-то у нас скучно – вот что меня беспокоит!
– Нет, я не скучаю. От тебя к Auclair поеду, от Auclair к Andrieux, потом еще куда-нибудь. А вечером Теодор обещал нас в Зоологический сад свозить, ежели успеет отделаться.
– А вчера что делали?
– Вчера отдыхали. Утром я все спала, а вечером купили карт и с Филофеем Иванычем в вист с двумя болванами играли. Только считать ужасно трудно.
– Еще бы! Но ты не церемонься! ежели скучно, то приезжай ко мне, а не то так и просто пришли за мной. Я и в Демидов сад, и в Ливадию, и на Крестовский… Только вот Филофей Иваныч… неужто и он будет участником наших экскурсий? ну, зачем он нам?
– Cousin! ты ужасно, ужасно, ужасно… дурной!
– То есть милый, хотела ты сказать?
– И дурной и милый… помнишь, тогда? А как меня maman забранила! Я целых три дня думала, что я… погибшая! Ну, так до свиданья; спешу к Auclair! непременно, непременно за тобой пришлю! милый!
Она три раза поцеловала меня и вдруг – не могу даже представить себе, что́ ей вообразилось – перекрестила меня и сказала: вот так! Потом вприпрыжку побежала по направлению к передней и, не добежав, опять остановилась.
– Ах да! и забыла… cousin, не можешь ли ты…
Сердце у меня так и похолодело: сейчас, думаю, денег попросит. Однако на этот раз обошлось благополучно. Как истинная куколка, она постояла немного и, не досказавши начатого, продолжала:
– Нет, впрочем, это когда-нибудь после. Так до свидания, голубчик!
И через минуту она уже действительно спускалась по лестнице.
Целых две недели после этого я провел в чаду безумных удовольствий. По нескольку раз перебывал и в Демидроне, и в Ливадии, и на Крестовском, и даже в Баварии. Но Феденьку не видал ни разу. По-видимому, он был очень доволен, что свалил на меня обузу развлекать и увеселять Наташу и своего бывшего воспитателя, и являлся домой только ночевать. Но мне эти удовольствия стоили массу денег, издерживать которые я, по-родственному, обязывался без ропота.
В это же время я должен был возиться и с Филофеем Дроздовым и выслушивать кроткие напоминания Наташи относительно скорейшего приискания ему места в литературе. Очень скоро весь чемодан произведений Филофея Иваныча очутился у меня на квартире. Тут были: и «Мысли у подножия памятника Минину и Пожарскому», и «Ночь с милой в лесу», роман в двух главах, и «Не стая воронов слеталась, или Ай да нигилисты!» – водевиль в двух действиях. Разумеется, ничего этого я не читал и не намерен был читать, но Дроздов все таскал, все таскал и, наконец, совсем обратил мою квартиру в свиной хлев.
Одним словом, никогда я так несносно, глупо-хлопотливо не проводил времени.
И вот однажды вечером, когда мы втроем наслаждались в Демидроне, Nathalie отвела меня в сторону и сделала странное признание.
– Cousin, – сказала она, – у меня есть секрет, который я должна тебе сообщить.
– Ах, голубушка ты моя! куколка, да еще с секретом – ведь это прелесть!
– Нет, не шути этим! это секрет… ах, это очень, очень важный секрет!
– В чем же дело? скажи! не мучь!
– Я хочу…
Она остановилась и крепко сжала мою руку, на которую опиралась, словно требуя, чтобы я, сильный человек, защитил ее, слабенькую куколку, против нее самой.
– …выйти замуж, – прошептала она наконец, потупляя глазки.
Я думал, что я сплю. Не знаю почему, но среди целой массы предположений о путях, коими провидение ведет куколок, именно одно это никогда не приходило мне в голову.
– За кого? – спросил я, однако ж.
Она вздрогнула и показала глазами на Дроздова, который в эту самую минуту всем своим рылом так и впился в девицу Филиппо́.
– Феденька знает об этом?
– Нет, покуда… Впрочем, я и не спешу ему объявить. Знаешь ли, мне кажется, что он будет против этого брака.
– И мне тоже кажется.
– Но ведь я – мать! Я знаю, что дети должны почитать своих родителей. Наконец я не обязана сыну отчетом. И ежели понадобится, то знаю, как нужно поступить.
– Неужели ты захочешь скандала?
– Ах, нет! какой ты! Я просто попрошу, чтоб его посадили в смирительный дом, покуда он не раскается.
Я взглянул на нее, думая, не прочту ли что-нибудь на ее лице. И что ж! – ничего! куколка, ну просто куколка – и ничего больше.
– Чем же вы будете жить?
– Мы рассчитываем на тебя, cousin. Когда ты все прочитаешь, что Филофей Иваныч тебе передал, и положишь ему жалованье, мы наймем маленькую квартирку и совьем там себе гнездышко.
Во второй раз я подумал, что сплю. Со страхом, почти с ужасом смотрел я на нее, а она между тем продолжала:
– Я знаю, что ты очень большого жалованья на первый раз дать не можешь – мы и не ждем этого. Но тысячи две-три… пожалуйста, три! подумай, как мне будет трудно! Ах, я ничего, ничего не умею! Никогда я не занималась этим, а теперь надо будет везде самой. И заказать обед, et les provisions, et la viande, et la blanchisseuse, et les trotteurs… enfin, tout, tout, tout! [122]122
и провизия, и мясо, и прачка, и полотеры… словом, всё, всё, всё!
[Закрыть]Конечно, Филофей Иваныч будет меня руководить, но все-таки представь: везде сама!
Я молчал в немом изумлении, а она все ворковала, перескакивая от одной хозяйственной статьи к другой. И, наконец, заключила:
– Теперь ты понимаешь, почему я так тороплю тебя насчет жалованья. Ах, это так нас устроит!
Таким образом, к прежней массе пустяков прибавились еще новые. Но пустяки имеют ужасную силу, особливо родственные. Возвратившись домой, я чуть не растоптал «Ночь с милой в лесу» и положительно до белого дня проворочался с боку на бок, передумывая, предупредить ли Феденьку или не предупреждать.
Наконец я решил предупредить. Может быть, думалось мне, как-нибудь и обойдется. Он объяснится, убедит, найдет средство устранить Филофея… Всплакнет куколка, выронит две слезки, ну, четыре, ну, шесть – и все пройдет.
Руководясь этими мыслями, я отправился в одиннадцать часов утра в то место, где он обыкновенно докладывает. Он был уже там и сейчас же вышел ко мне, несколько изнуренный непосильным трудом, но не побежденный и нимало не унывающий. В коротких словах я объяснил ему суть вчерашнего разговора с Наташей.
– Я давно это угадывал, – сказал этот получивший христианские правила молодой человек, нимало не смутившись моим рассказом.
– Но что же ты предполагаешь делать?
– Ровно ничего. Если это устроивает maman… с богом!..
– Однако чем же они будут жить?
– Они все рассчитывают на какое-то жалованье, которое будто бы вы им обещали…
– Да ведь это наконец сказки! ведь это волшебное представление какое-то!
– Я ничего не знаю и ни во что вмешиваться не желаю. J’en ai jusqu’ici [123]123
С меня довольно – по сих пор.
[Закрыть](он резнул себя ладонью по горлу)! Я даже не понимаю, как я могу делами заниматься среди этого хаоса.








