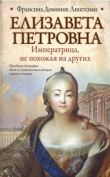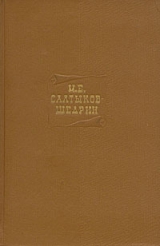
Текст книги "Том 13. Господа Головлевы. Убежище Монрепо"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 53 (всего у книги 61 страниц)
Мало-помалу, он, однако ж, припоминает, что закон дозволяет и шесть процентов брать, а ежели капитал принадлежит малолетнему, то и до десяти. Опять начинаются выкладки, сначала из шести, потом… «ну хоть из осьми», и, наконец, из десяти процентов. Капитал оказывается уже более или менее серьезный.
«Вот оно что! – размышляет Иудушка, – вот это… «распорядительностью» называется! вот это – настоящее хозяйство! А то взял да, очертя голову, что рубликов на ветер бросил – разве это хозяйство!»
«Вот мчится тройка удалая…» – Первая строка народного песенного варианта, представляющего часть стихотворения Ф. Н. Глинки «Сон русского на чужбине».
Муж у нее в поход под турка уехал. – Речь идет о войне с Турцией в 1828–1829 годах.
«Утоли моя печали» – одно из изображений богородицы в православной иконографии.
…«страха иудейская» – евангельское выражение, употребляемое в значении страха перед какой-либо силой (Иоанн, XIX, 38).
Выморочный *
Впервые – ОЗ, 1876, № 8 (вып. в свет 25 авг.), стр. 521–558.
Рукописи и корректуры не сохранились.
Рассказ написан в июне – первой половине июля 1876 года. Салтыков в письме к Некрасову от 9 июля 1876 года сообщал: «…к 7-му или 8-му <номеру «Отеч. записок»> вышлю, вероятно, и другую статью. <…> Другая статья – конец Иудушки – разумеется, никаких препятствий не представит. <…> Боюсь одного: как бы не скомкать Иудушку. Половину я уже изобразил, но в сбитом виде, надо переформировать и переписать. Эта половина трудная, ибо содержание ее почти все психологическое. Вторая будет легче». В головлевской серии «Выморочный» – первый рассказ, напечатанный без указания на принадлежность его к «Благонамеренным речам».
При подготовке Изд. 1880рассказ был подвергнут значительным сокращениям (в сорока трех местах сокращено около четырехсот строк, то есть около четвертой части текста произведения) и стилистической обработке. Салтыков вычеркнул начало рассказа, связывавшее его с «Племяннушкой» («Перед выморочностью»), убрал сцену родов Евпраксеюшки, из которой выросла глава «Недозволенные семейные радости», сделал много купюр во второй половине произведения, где изображается одолевающее Иудушку празднословие, изменил финал рассказа и т. д.
В настоящем томе журнальная редакция рассказа печатается в разделе «Из других редакций» (стр. 557).
В откликах на публикацию главы критика отмечала общественную содержательность, типичность и злободневность сатиры Салтыкова. «Писатель рисует нам, – писал рецензент, – одну из самых страшных язв современного русского человека: пустоту душевную и стремление к наживе, как идеал. Конечно, у Иудушки черты эти возведены в перл создания; но в наше коммерческое время, когда нравственные идеалы поблекли, можно найти многие черты Иудушки в весьма почтенных людях <…> Те психические процессы, которые происходят в его душе, представляют весь интерес современности. Эта умственная беспомощность, это отсутствие воли и решимости, эта склонность к фантазированию – все это черты современного русского человека, которые можно встретить на каждом шагу. Конечно, Иудушкино ехидство составляет его личную черту, независимо от которой в нем есть много общего, бытового, современного. В этом-то и заключается текущий интерес щедринского рассказа» [214]214
С. С. <С. П. Сычевский>, Журн. очерки… – «Одесск. вестник», 1876, № 198, 10 сентября.
[Закрыть].
Особое внимание критики привлекли страницы, где воспроизводятся картины «умственного распутства» и пустоутробного словесного запоя Иудушки [215]215
См.: Заурядныйчитатель<А. М. Скабичевский>, Мысли по поводу текущей литературы… – БВ, 1876, № 250, 10 сентября; Русск. литература… – «Сын отечества», № 223, 25 сентября, и др.
[Закрыть].
Одновременно некоторые критики находили личность Порфирия Головлева «крайне искусственной, придуманной, очень далекой от психологической правды», а весь тон повествования «обличительно-дидактическим»: «Характер Иудушки обрисован так, как мог его обрисовать только самый завзятый сатирик, видящий в человеческой природе только темные ее стороны. Это голая, резкая сатира и ничего более, но для правильного сатирического впечатления здесь недостает освежающего, просветляющего смеха, который придает высшее значение сатирическому изображению» [216]216
В. М. <В. В. Марков>, Лит. летопись… – « СПб. вед.»,1876, № 285, 25 сентября.
[Закрыть].
«Не шей ты мне, матушка…» – Из одноименной песни Варламова на слова Н. Г. Цыганова.
Заказничок– заповедная роща или лес, запрещенный, заказанный для вырубки.
Старая десятина– площадью в 3200 кв. саженей.
Тридцатка– казенная десятина, площадью в 2400 кв. саженей.
Правду и бог любит, да и нам велит любить. – Часто повторяющийся мотив о любящем правду боге: «Господь праведен – любит правду» или «Господи! кто может пребывать в жилище твоем?.. Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем», и т. п. (Псалт., 10, 14).
Расчет *
Впервые – ОЗ, 1880, № 5 (вып. в свет 20 мая), стр. 295–330, под заглавием «Решение (Последний эпизод из головлевской хроники)».
Сохранились четыре фрагмента черновой рукописи, отличающейся от опубликованного в «Отеч. записках» текста большим числом вариантов стилистического характера, а также следующим рассуждением о «решительных молодых людях»:
Стр. 252, строка 4 сн. После слов: «…иметь за душой что-либо солидное»:
Ныне же требуется только предъявление свежести и бойкости. Всякий, вероятно, видал этих проворных, неизвестно откуда явившихся, но несомненно решительных молодых людей, которые с изумительной цепкостью внедряются всюду, где об них даже не помышляли, создавая себе карьеру и радуя престарелых родителей. Я сам знаю шестерых братьев, которых родители отличаются только земскою свежестью и которые, несмотря на неблагоприятную фамилию, – отец их корнет Иван Слабительный, – поделили между собой административную Россию и всюду вторглись: и в юстицию, и в дипломатию, и в просвещение, и во внутренние дела, и в пути сообщения, и в финансы. И везде сделались необходимыми и до такой степени преуспели, что отныне нет уже затруднений относительно выбора лица, ибо все затруднения разрешаются очень просто: призвать или послать одного из братьев Слабительных. И это при такой неблагоприятной фамилии. Но что же будет тогда, если будет уважено ходатайство братьев Слабительных о присовокуплении к их фамилии таковой же их матери, урожденной баронессы Кокетине, и когда они будут уже называться не просто Слабительными, но баронами Слабительными-Кокетине? Ведь тогда, пожалуй, сразу они завоюют себе то право на пожизненное ликование, о котором родоначальник их, корнет Иван Слабительный, не смел и мечтать!
Время создания главы устанавливается лишь предположительно: март – апрель 1880 года, хотя не исключено, что ее замысел складывался на протяжении ряда лет и в названное время получил лишь свое окончательное оформление.
Рассказ, видимо, одновременно набирался для журнала и для отдельного издания, которое вышло из печати между 1 и 15 июня. Этим объясняется немногочисленность и незначительность вариантов, отличающих текст главы в отдельном издании от его журнальной публикации.
При работе над главой частично использован текст незаконченного рассказа «У пристани». Из него взята полностью картина въезда Ганечки в головлевскую усадьбу, но Ганечка заменен здесь возвращающейся в Головлево Аннинькой.
Рассказ «У пристани» печатается в разделе «Из других редакций».
Замена первоначального журнального заголовка «Решение» в Изд. 1880на «Расчет» весьма существенна для авторской концепции: если «решение» предполагает осознанность, обдуманность в действиях, то «расчет» означает уже и расплату, возмездие, кару, настигшую «выморочного» героя.
«Расчет» вызвал особый интерес и современной Салтыкову, и позднейшей критики, что связано было с неожиданным, как казалось многим, драматическим финалом Порфирия Головлева: в «выморочном» салтыковском герое проснулась совесть, и образ его обрел поистине трагическое звучание. «В конце концов, – писал Михайловский в 1889 году, – Иудушка сам испугался облегшей его со всех сторон мертвой пустыни и не выдержал этого страшного одиночества» [217]217
Н. К. Михайловский, Полн. собр. соч., т. V, СПб. 1908, стр. 206.
[Закрыть].
Обилие откликов на окончание романа связано как с выходом в свет первого отдельного издания его, так и с нашумевшей инсценировкой «Господ Головлевых», осуществленной H. H. Куликовым (первое представление «Иудушки» состоялось в Москве в ноябре 1880 года) [218]218
См.: Вл. <Вл. И. Немирович-Данченко>, Драм. театр… – «Русск. курьер», 1880, № 310, 13 ноября; Игла<П. А. Андреевский>, «Иудушка» (Спектакль драматического общества 21 декабря). – «Заря», Киев, 1880, № 43, 23 декабря, и др.
[Закрыть]. В рецензии на спектакль Боборыкин утверждал, что Салтыков «не написал ничего глубже, сильнее, художественно-образнее и беспощаднее семейной хроники «Господа Головлевы», что «нарисована необычайно могучая картина вырождения помещичьей семьи» и «эта помещичья эпопея полна внутреннего драматизма». Рецензент высказал опасение, что сценический эквивалент этому произведению найти чрезвычайно трудно: «Для перенесения ее <эпопеи> на сцену нужно очень многое присочинить, переделать, изменить и суть самого Иудушки». Из пьесы оказались исключены «поразительные» финальные сцены, «когда Иудушка застает пьянство своей племянницы, сам втягивается в то же, и оба они душат друг друга нареканиями и старыми счетами» [219]219
П. Боборыкин, «Иудушка» в театре Пушкина… – «Русск. ведомости», 1880, № 297, 18 ноября. Об отрицательном отношении Салтыкова к инсценировке «Господ Головлевых» см. письмо в редакцию газеты «Голос» (20 декабря 1880 г.).
[Закрыть].
Окончание романа дало повод некоторым критикам приписать Салтыкову отвлеченно-моралистические взгляды, приглушая общественный, антидворянский пафос «Господ Головлевых». Об оправдании автором своего героя писал, в частности, М. Протопопов: «Салтыков заканчивает свою эпопею как моралист – торжеством высшей нравственной правды. Он реабилитирует Иудушку в наших глазах, он заставляет его оплакивать жгучими слезами позднего раскаяния свою бессмысленно и бесчеловечно прожитую жизнь» [220]220
М. Протопопов, Совр. обозр. Характеристики современных деятелей. М. Е. Салтыков. – «Дело», 1883, № 6, стр. 33.
[Закрыть]. «Образ вышел таким ужасающим, – рассуждал в 1914 году А. А. Дробыш-Дробышевский, – что сам Щедрин, под суровой внешностью которого скрывалось нежное, чувствительное сердце, испугался этого образа и немного испортил его в конце произведения, заставив Иудушку покаяться» [221]221
А. Ум-ский <А. А. Дробыш-Дробышевский>, К 25-летию смерти М. Е. Салтыкова-Щедрина. – «Нижегор. листок», 1914, № 113, 28 апреля.
[Закрыть].
Иначе воспринял финал головлевской хроники заключенный в Петропавловскую крепость революционер-землеволец: «Последняя часть «Семьи Головлевых», в которой описываются последние дни Иудушки, потрясла меня до глубины души <…> Мастерскою рукою художник набросал потрясающую картину душевного расстройства Иудушки, – все равно какого: дело не в названии, не в форме! Сошел со сцены отживающий представитель отживающей общественной категории и сошел чуждый не только всему новому, но и чуждый самому себе, т. е. душевнобольным. Я не мог оторваться от этой семейной хроники. Сколько горя, сколько отчаяния! забытые личности, выморочениые существования и, как заслуженный конец всего этого, – сумасшествие!..» [222]222
О. В. Аптeкман, Из воспоминаний землевольца. Петропавловская крепость. – «Минувшие годы», 1908, № 5–6, стр. 319–320.
[Закрыть]
Снежные сувои– сугробы, образованные вихревым движением снега.
«Полковник старых времен» – комедия-водевиль И. Мелесвиля, Габриэля и Анжела (СПб. 1838).
«Дочь Рынка» – «Дочь мадам Анго», комическая опера в трех действиях Клервиля, Сиродэна и Кененга. Музыка Лекока. Для русской сцены переделано В. Курочкиным (СПб. 1875).
Святая– пасха, весенний церковный праздник.
Фомина —неделя, следующая за пасхальной неделей.
Квартальный надзиратель– полицейский чиновник, офицер, в ведении которого находился квартал города.
«Уголино», трагедия в 5-ти действиях, соч. Н. Полевого. – Историческая трагедия «Уголино» впервые ставилась на русской сцене в 1837–1838 годах (см. т. 1, стр. 425).
Страстная неделя– предшествует пасхальной «святой»; в эту неделю в церкви читаются главы Евангелия, повествующие о распятии Христа (« Страстигосподни»).
«И сплетше венец из терния, возложиша на главу его, и трость в десницу его». – Отрывок из евангельского текста, повествующего о распятии Христа (Матф., XXVII, 29).
Оцет с желчью– горькое питье, которым, по евангельскому сказанию, поили Иисуса Христа после распятия (Матф., XXVII, 34). Оцет– уксус.
Убежище Монрепо *
Цикл «Убежище Монрепо» создавался в пору творческой зрелости Салтыкова. Нарисованная здесь картина социально-политического и экономического «оскудения» «ветхого человека» – помещика сопровождается элегическими «мелодиями» дворянского интеллигента; она закономерно и естественно включает в себя мотивы « чумазовского» торжества, « столпования» буржуазного хищника, всемерно поддерживаемого властью при пассивном, « бессознательном» отношении к этому процессу со стороны « серогочеловека».
«Убежище Монрепо» – итог длительных раздумий писателя над вопросами о судьбах послереформенной русской деревни, поднятыми в свое время апрельским (1863) и февральским (1864) обозрениями «Нашей общественной жизни», а также очерком «В деревне» (см. т. 6).
В «Убежище Монрепо» проставлены, однако, несколько иные тематические акценты. В цикле отсутствуют, например, «подробности мужицкого быта», занимающие столь значительное место в произведениях 60-х годов. Основное внимание автора сосредоточено на попытках поместного дворянина выйти из того социально-исторического кризиса, в который поставило его пореформенное развитие, а также на надеждах « культурногочеловека» обрести настоящее делона путях «рационального» хозяйствования.
Всем своим художественно-публицистическим содержанием «Убежище Монрепо» убеждало, что эти попытки и надежды несостоятельны, безрезультатны.
В этом, собственно, и смысл названия цикла, куда введен характерный в дворянской буколике и помещичьем речевом обиходе галлицизм «Монрепо» (mon repos – мой отдых), служивший обозначением тихого, уединенного уголка, места покоя и отдохновения от житейских забот. В ироническом осмыслении Салтыкова «Монрепо» – «собственный угол», последнее пристанище вытесняемого с общественной сцены помещика, символ оскудевающего «дворянского гнезда».
Чуждый народнических иллюзий, Салтыков показывает неотвратимость процесса смены «ветхого» человека «чумазым». В «Убежище Монрепо» запечатлен тот исторический период, когда буржуазия, становясь «дирижирующим сословием», утверждалась повсеместно, «не только в фабрично-заводской промышленности, а и в деревне и вообще везде на Руси» [223]223
В. И. Лeнин, Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 393.
[Закрыть].
При этом смена «столпов» сопровождалась не ослаблением, а усилением политической реакции, насаждавшей повсюду систему полицейского сыска и шпионажа – « сердцеведения».
Власть в ее пореформенной модификации, представленная становым Грациановым, стремится провести эту систему в жизнь, опираясь на «плодотворное содействие <…> господ кабатчиков» и «не вредное содействие <…> господ бывших помещиков».
Всячески испытывая благонамеренность владельца Монрепо, заставляя его пережить полосу спасительных «тревог», Грацианов вовсе не выступает против дворянства как социального института. Цель власти – создание «охранительного» союза из старых и новых столпов. Глубокий сатирический анализ тактики Грациановых предваряет следующую ленинскую характеристику русской бюрократии: «Это – постоянный флюгер, полагающий высшую свою задачу в сочетании интересов помещика и буржуа» [224]224
В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 301.
[Закрыть].
Салтыков, вынужденный прервать работу над «Современной идиллией», вернулся к мотивам «о прелестях умирания». Знакомые «дворянские мелодии», однако, оказались в высшей степени «проникнуты современностью». В прямой и скрытой форме писатель продолжил здесь, на почве «аграрного вопроса», острую полемику с ревнителями помещичьего землевладения, дворянскими идеологами, с одной стороны, а также с либерально-народническими пропагандистами деревенского дела– с другой. Полемика эта имеет длительную историю, включая в себя различные стороны, акценты и имена.
Вслед за Чернышевским Салтыков отстаивал трудовое начало в землевладении. Он скептически отнесся к призывам, после крестьянской реформы, из дворянского лагеря браться за «дело», хотя и сам, вначале, отдал некоторую дань этим иллюзиям. Оптимизму «ревнителей», их заявлениям вроде: «честной деятельности землевладельцев с каждым шагом открывается обширное и благодатное поле. Надобно только, чтобы они все более и более проникались сознанием важности своей задачи» [225]225
А. Фeт, Из деревни, PB, 1863, № 1, стр. 470.
[Закрыть], – писатель противопоставил свой вывод об упадке помещичьих хозяйств, о неминуемом разрушении «ветхой плотины» (см. т. 6, стр. 286). Этот вывод, подкрепленный впоследствии многими наблюдениями автора «Благонамеренных речей» и «Господ Головлевых», послужит основой всей концепции «Убежища Монрепо». Это будет ответ не только откровенным апологетам помещичьих интересов, но и умеренно-либеральным идеологам вроде В. П. Безобразова, утверждавшим, что кризиса нет, что «в огромной части России земледелие, и крестьянское, и помещичье, возросло в неслыханных прежде размерах» [226]226
В. П. Безобразов, Наши охранители и наши прогрессисты. – PB1869, № 10, стр. 439.
[Закрыть].
В статье Безобразова «Наши охранители и наши прогрессисты» (1869), вызвавшей памфлет Салтыкова «Человек, который смеется» (см. т. 9) и вновь упомянутой во втором очерке настоящего цикла, содержался, помимо прочего, и призыв бороться с чувством «уныния», порождаемым «неизбежными затруднительными обстоятельствами некоторых наших землевладельцев». «Впрочем, надо вообще удивляться, – писал Безобразов, – к чести нашего дворянского сословия, преимущественно среднего, как быстро оно сжилось с новыми нравственными условиями своего быта, так круто изменившимися; еще более надо удивляться, как силятся отнять у него эту честь люди, говорящие во имя его интересов и привилегий» [227]227
В. П. Безобразов, Наши охранители и наши прогрессисты. – PB, 1869, № 10, стр. 445.
[Закрыть]. Безобразов обращается здесь к пессимистам-«охранителям», но, несомненно, имеет в виду и другой, особенно неприемлемый для него пессимизм «прогрессистов».
В этой статье можно отметить ряд мест, с которыми легко устанавливается едва ли не прямая полемическая соотнесенность «Убежища Монрепо». Вот одно из них:
«Всеми на свете, даже иностранцами, побывавшими в России, признано, что нет убежища более успокоительного для души и нервов, как русская деревня <…> Глубокий мир, почиющий на русской деревне, превосходит все, что только в этом роде известно в какой бы то ни было стране <…> Это, впрочем, сознается всеми, ибо, несмотря на чрезвычайные нынешние облегчения заграничных путешествий, несмотря на привычку к ним, развившуюся в нашем высшем классе почти до болезненности, и наконец несмотря на действительные очарования множества летних резиденций в Западной Европе, все-таки никогда не жило столько людей в русских деревнях и помещичьих усадьбах, как теперь…» [228]228
Тамже, стр. 446.
[Закрыть]
Салтыков «обыграет» в своем новом цикле самый термин «убежище», сделает полемические выводы о «глубоком мире» в деревне, иронически посоветует «культурным людям» бежать из своих Заманиловок в «Эмсы, Баден-Бадены, Трувили, Буживали, Лозанны и проч.», а затем в проникновенном лирическом слове о любви к России «до боли сердечной», об «истинно русском культе» пояснит настоящую причину предпочтения родных палестин, пусть и «усыпальниц», «благорастворенным заграничным местам». Следует заметить, что ни в каком другом своем произведении Салтыков столь проникновенно и страстно не высказывал своей любви к России и с такой предельной ясностью и четкостью не формулировал сущность истинного патриотизма, резко противостоящего официальному, казенно-верноподданническому.
Внимание автора «Убежища Монрепо» могли остановить и такие признания Безобразова: «Не спорим, что многие наши сельские хозяева, воспитанные исключительно в понятиях обязательного труда, никак не могут справиться с вольнонаемными рабочими, что, чуждые всяким коммерческим основаниям хозяйства, они терпят только убытки там, где, при тех же самых местных условиях, даже без всяких агрономических сведений, подле них, или в тех же имениях, вслед за ними, на том же самом деле, получают барыши люди другого воспитания: купцы, мещане, крестьяне…» [229]229
Тамже, стр. 453.
[Закрыть]
Салтыкова не смущало сближение его «мрачных» выводов и прогнозов с «безотрадностью» взглядов «охранителей». Он охотно использовал в своих целях свидетельства последних об аномалиях деревенской жизни. Вполне возможно, им принято в расчет и следующее рассуждение автора охранительной брошюры «Земля и воля» о нежелании помещиков заниматься земледелием и предпочтении ими городской службы (рассуждение это цитируется в статье Безобразова): «Нужно ли удивляться этому? С одной стороны, доходы с имений в северных губерниях сделались равными нулю или обратились в минус, и жизнь в деревне сопряжена с бо́льшими, чем прежде, затруднениями, неприятностями и лишениями, а с другой – содержание по всем отраслям государственного управления возвышено, по некоторым ведомствам даже в четыре или пять раз против прежнего. Прежде деревня служила эмблемою лени и безмятежного покоя. Люди, предпочитавшие душевное спокойствие шумной городской жизни, уезжали отдохнуть в деревню. Теперь наоборот: теперь деревня представляет гораздо более сильных ощущений и может скорее расстроить нервы, чем город» [230]230
П. Л. <П. Ф. Лилиенфельд-Тоаль>, Земля и воля, СПб. 1868, стр. 61.
[Закрыть].
На творческий замысел «Убежища Монрепо» оказала влияние и оживленная дискуссия вокруг изданного в 1876 году в Петербурге двухтомного труда кн. Васильчикова «Землевладение и земледелие в России и других европейских государствах». В небольшой рецензии журнала «Свет» на очерк «Убежище Монрепо» (в окончательной редакции «Общий обзор») прямо указывалось, что «новый очерк даровитого автора» «обрисовывает характер нашего современного крупного землевладения и, таким образом, служит бойким, живым ответом на тот шум, который в последнее время поднят снова по вопросу о преимуществах крупного землевладения известной брошюрой проф. Герье и Чичерина» [231]231
«Свет», 1878, № 9, стр. 315.
[Закрыть](«Русский дилетантизм и общинное землевладение». М. 1878). В предыдущем номере «Света» появление этой тенденциозной, «направленной против известного сочинения кн. Васильчикова» брошюры названо «одним из наиболее громких явлений за последние месяцы» [232]232
Тамже, № 8, стр. 281.
[Закрыть].
«Отеч. записки» приняли живое участие в обсуждении книги Васильчикова, опубликовав два отклика, из которых первый, очевидно, принадлежит Н. К. Михайловскому (1877, № 8), а автором второго был А. А. Головачев (1877, № 9). Кроме того, на выход брошюры В. Герье и Б. Чичерина журнал отозвался саркастическим «Письмом к гг. Герье и Чичерину», написанным Михайловским и напечатанным как раз за месяц до появления названного очерка «Убежище Монрепо» («Общий обзор»).
И в рецензиях, и в ответе на брошюру Герье и Чичерина «Отечественные записки» поддержали общинно-демократические устремления автора «Землевладения и земледелия…», в то же время отметив его непоследовательность в «практических советах», особенно по вопросу о размерах крестьянских наделов. Руководимый Салтыковым журнал резко выступил против либерально-охранительных критиков Васильчикова; он обнажил помещичью корысть «патентованных ученых», которых не устраивал прежде всего вывод о «неправильном распределении между разными классами жителей поземельной собственности <…> проведенном с беспощадной строгостью в ущерб крестьянского сословия и в пользу поместного» [233]233
См. А. Васильчиков, Землевладение и земледелие в России и других европейских государствах, т. 1, СПб. 1876, стр. 11–12.
[Закрыть]. «Покуда публицисты, энциклопедисты и государственные люди сочиняли и поправляли проекты эмансипации рода человеческого, – писал Васильчиков, – половина этого рода была обобрана другой» [234]234
Тамже, стр. 21.
[Закрыть].
Герье и Чичерин протестовали против мысли Васильчикова, «что и в настоящем и в будущем крестьянскому сословию принадлежит первенство в русской земле», считая, что «эти социалистические начала никогда не найдут доступа в русское законодательство» [235]235
В. Герьеи Б. Чичерин, Русский дилетантизм и общинное землевладение, М. 1878, стр. 223, 240.
[Закрыть].
Салтыков своим новым «деревенским» очерком включался в получавшую острый политический смысл полемику по «аграрному вопросу», поддерживая те прогрессивные тенденции, которые нашли некоторое отражение в книге Васильчикова (см. далее постраничные прим.).
Одним из источников «Убежища Монрепо» были многочисленные статьи известного ученого-агронома Энгельгардта, популяризировавшие его опыт организации «рационального хозяйства» в имении Батищево («Из деревни», «Из истории моего хозяйства»). Призыв Энгельгардта, подкрепленный ссылкою на собственный успех, «садиться на землю», идти «в мужики», образовывать «интеллигентные деревни» получал в условиях пореформенной неустроенности и разлада дворянских хозяйств большую притягательную силу, одновременно приобретая для определенной части русской интеллигенции, переживавшей «трудное время», особый смысл выхода, дела.
Убежденный, что в пореформенной деревне успешно хозяйствовать способны лишь те, которые «сами всегда могут притеснить», Салтыков не заблуждался относительно буржуазной природы «опыта» Энгельгардта.
Два десятилетия спустя В. И. Ленин в книгах «От какого наследства мы отказываемся?» и «Развитие капитализма в России» прямо укажет на капиталистическую подкладку батищевского дела, на несовместимость хозяйственной системы Энгельгардта с его народническими теориями. «Задавшись целью поставить рациональное хозяйство, – подчеркнет Ленин, – он не мог сделать этого, при данных общественно-экономических отношениях, иначе, как посредством организации батрачного хозяйства» [236]236
В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 3, стр. 213.
[Закрыть], «приемами чисто капиталистическими» [237]237
Тамже, т. 2, стр. 526.
[Закрыть].
Не только современники Энгельгардта (см. статью М. Протопопова «Хозяйственная деловитость», «Дело», 1882, № 9), но и сам он догадывался о подлинной природе предпринятого дела. В письме к одному из учеников Энгельгардт признается: «Эксплуататорское хозяйство, которое я веду в Батищеве, давно уже перестало меня интересовать» [238]238
Цит. по кн.: А. И. Фарeсов, Семидесятники, СПб. 1905, стр. 26.
[Закрыть].
Еще менее «удовлетворения» испытывал автор «Убежища Монрепо», наблюдавший стремление превратить частный батищевский опыт во всеобщий спасительный рецепт.
Можно указать на целый ряд мест (вплоть до отдельных деталей и терминов) в тексте энгельгардтовских статей, так или иначе отраженных в «Убежище Монрепо» (сопоставление «полной чаши» – дореформенного помещичьего быта – с «пустодомством» и «оскудением» дворян после «Положения» [239]239
ОЗ, 1876, № 1, стр. 88, 97, 110.
[Закрыть], описание безуспешных попыток некоторых из них организовать «рациональное хозяйство» по Бажанову и Советову [240]240
Тамже, стр. 90.
[Закрыть]и пр.). Салтыков сознательно шел на «перекличку», обращая свое внимание на те же, что и Энгельгардт, явления и факты, чтобы в конечном счете, по рассмотрении всех пунктов, отвергнуть его программу.
Уже современная Салтыкову критика обращала внимание на то обстоятельство, что материалы, помещаемые в том или ином номере «Отеч. записок», и его произведения тесно связаны между собой, поясняют друг друга. «…Почти каждая книжка «Отечественных записок», – констатировал С. И. Сычевский, – может быть <…> сплошным комментарием сатиры Щедрина, напечатанной в ней» [241]241
С. И. Сычевский, Новая сатира Щедрина и ее комментарий. – «Правда», 1880, № 269, 15 октября.
[Закрыть].
Среди «поясняющих» и «подтверждающих» материалов восьмой книжки «Отеч. записок» за 1878 год, где была начата публикация «Убежища Монрепо», прежде всего следует назвать статью В. И. Чаславского «Вопросы русского аграрного устройства».
Будучи начальником статистического отделения в департаменте земледелия и сельского хозяйства и располагая, таким образом, богатейшим фактическим материалом, автор «Вопросов» свидетельствует крайне неудовлетворительное состояние «деревенского дела». «Из 120 десятин, – цитирует он одного из землевладельцев, – засеянных мною в начале апреля, пшеницы не получено ни одного снопа, а между тем употреблено семян на 1000 рублей, на оранку и волочнику при боронении издержано более 1000 рублей. Словом, из затраченных мною денег не получено ничего. Полнейшее разорение постигает наше полевое хозяйство, которое вести долее немыслимо» [242]242
В. Чаславский, Вопросы русского аграрного устройства. – ОЗ, 1878, № 8, стр. 312 (Окончание опубликовано в ОЗ, 1879, № 1, стр. 219–232).
[Закрыть]. Помещичье хозяйствование несостоятельно, считает В. Чаславский, а между тем в его пользу была обобрана основная масса земледельцев-крестьян, получившая самые жалкие наделы. В интересах самих же помещиков необходимо отказаться от крупной поземельной собственности, отдать часть земли крайне нуждающемуся в ней крестьянству.
Достаточно обратиться к тем суждениям Салтыкова, в которых говорится о необходимости для культурного человека «сокращать и суживать границы своих земельных владений», отделываться от своих Тараканих и Летесих – «непременно и безотложно, хотя бы задаром», чтобы заметить близость пафоса статьи Чаславского и направленности «Убежища Монрепо», с тою, впрочем, разницею, что писатель делает акцент не на отсутствии капиталов («Говорят, что у культурных людей нет достаточных капиталов…» – см. стр. 279), а на полнейшей непригодности дворянских землевладельцев к серьезному деревенскому делу. Формулируя главную мысль «Общего обзора», критик «Киевлянина» указывал, что автор его «возбуждает вопрос о том, полезно ли иметь сколько-нибудь значительную поземельную собственность или промышленное заведение культурному человеку нашего времени…» [243]243
«Киевлянин», 1878, № 115, 28 сентября.
[Закрыть].
Связь статьи Чаславского и очерка Салтыкова не осталась незамеченной тогдашней критикой: ее констатировал « Заурядный читатель» (Скабичевский) в своем очередном обзоре текущей литературы [244]244
Заурядныйчитатель, Мысли по поводу текущей литературы. – БВ, 1878, № 234, 25 августа.
[Закрыть].
Утверждая мысль о бесперспективности помещичьего хозяйствования, о заведомом проигрыше «утопистов вольнонаемного труда и плодопеременных хозяйств», писатель одновременно отрицательно высказывается и относительно другой части деревенской миссии «культурного человека» – «просветительства».
Сама по себе задача просвещения «серого человека», освобождение его от ига «призраков», внесения в его жизнь начала «сознательности» важна и благородна: «Сказать человеку толком, что он человек, – на одном этом предприятии может изойти кровью сердце».
Однако такое «существование», то есть подлинное, подвижническое революционное просветительство, не по плечу «культурному человеку», «взлелеянному на лоне эстетических преданий», «начиненному азбучными истинами», « афоризмамипрописнойморали» и так или иначе согласующему свою просветительскую деятельность с идеалами станового.
Вывод Салтыкова бескомпромиссен: дела «культурному человеку» в деревне нет. Нет и «покоя», «свободы», «почвы», «убежища», «глубокого мира» (см. высказывания Безобразова, Энгельгардта и др.), а есть становые – «сердцеведы», деятельно испытывающие благонамеренность владельцев Монрепо; есть прожорливые, свободные от всяких нравственных принципов и уверенные в своей безнаказанности хищники – «чумазые», есть, наконец, возможность частых бесед с «батюшкой» – доброхотным собирателем « материалов», то есть доносчиком. Жизнь в Монрепо – сплошные «тревоги» в преддверии неизбежного «finis’a». Даже заманчивая возможность «умирать, освобождаться от жизни постепенно, непостыдно, сладко» в тиши деревенского «убежища» не может быть гарантирована ввиду безудержных притязаний Разуваева.
Так развивается мысль Салтыкова, вызывая к жизни вслед за «Общим обзором» очерки «Тревоги и радости в Монрепо», «Монрепо – усыпальница», «Finis Монрепо» и публицистически-обобщающее «Предостережение». Объединенные целостным сюжетом, глубокой идейно-художественной концепцией, очерки «Убежище Монрепо» являются своеобразными главами того типа романа, который в течение ряда лет теоретически и художественно утверждался писателем и образцами которого являются «История одного города», «Дневник провинциала в Петербурге», «Господа Головлевы», «Современная идиллия» [245]245
См. об этом: А. С. Бушмин, Роман в теоретическом и художественном истолковании Салтыкова-Щедрина. – В кн.: «История русского романа», т. 2, «Наука», М. – Л. 1964, гл. VIII.
[Закрыть].
«Убежище Монрепо» включает в себя широкий круг тем и проблем общественно-политического, экономического и психологического плана. Тут взят, говоря словами Салтыкова, «целый период нашей жизни», хотя повествование об этом периоде и состоит «как бы из отдельных рассказов». «Вещь совершенно связная», чуждая фактографического пристрастия фельетона к «происшествиям дня», «Убежище Монрепо» одновременно включает в себя и публицистико-«злободневное» очерковое начало, выявляя характерную для сатирического романа Салтыкова диалектику жанровых тенденций.