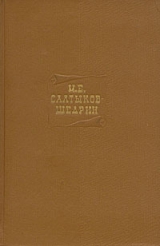
Текст книги "Том 13. Господа Головлевы. Убежище Монрепо"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 61 страниц)
Прощайте, господа! Передайте мой привет сотским, и да благословит бог наши общие начинания!
Господа рассыльные! покажите пример!»
По этому слову произошло нечто умилительное. Рассыльные, в числе шести человек, взялись за руки и стройно запели «ура!»; урядники подхватили. Мы (я, батюшка и трое кабатчиков), стоявшие тут в качестве посторонних зрителей, тоже увлеклись и, взявши друг друга за руки, с пением «ура!» три раза прошлись взад и вперед по селу.
В этот день кабатчик Прохоров безвозмездно угощал урядников огурцами с квасом.
Замечательно, что тот же Прохоров, расставаясь со мною и намекая на то место в речи станового пристава, где говорилось о троякого рода содействии, сказал:
– А вас, господин, по второму нумеру зачислили!
– А может случиться, что и по третьему! – не без ехидства присовокупил присутствовавший при этом другой кабатчик, купец Колупаев.
Хотя мнения кабатчиков и не имели, в данном случае, официального характера, но нервы мои были до того возбуждены, что мне почудилась в них целая программа. В самом деле, думалось мне, по какому нумеру зачислил меня Грацианов: по второму или по третьему? На первый нумер я, конечно, и сам не претендовал – куда уж мне за кабатчиками гнаться, – но вот во второй… ах, хорошо, кабы во второй попасть! И вдруг – в третий!!! Правда, он сам дал мне слово, что жизнь моя не будет неожиданным образом прервана, но ведь недаром гласит история, что по нужде и закону премена бывает – кто же может поручиться, что и относительно меня не представится такой нужды?
Под влиянием этой горькой мысли я начал задумываться и хиреть и все чаще и чаще обращал взоры в ту сторону, где благоденствовал беспечальный купец Разуваев. Вот кабы сбыть ему Монрепо, и со всеми потрохами: и с земским цензом * , и с политическим будущим, и с перспективою пользоваться дружеским расположением станового пристава! Вот так бы шутка была!
Между тем Грацианов не только не лишал меня своего покровительства, но все больше и больше сближался со мною. Обыкновенно он приходил ко мне обедать и в это время обменивался со мной мыслями по всем отраслям сердцеведения, причем каждый раз обнадеживал, что я могу смело быть с ним откровенным и что вообще, покуда он тут, я не имею никакого основания трепетать за свое будущее.
Я должен сказать правду, что собеседник он был вообще чрезвычайно приятный. Не вдруг раскрыл он мне свою душу, но все-таки сразу дал понять, что он либерал, а иногда даже обнаруживал такое парение, что я подлинно изумлялся смелости его мыслей. Так, например, однажды он спросил меня, как я думаю, не пора ли переименование квартальных надзирателей в околоточные распространить на все вообще города и местечки империи, и когда я ответил, что нахожу эту меру преждевременною, то он с большою силою и настойчивостью возразил: а я так думаю, что теперь именно самая пора. В другой раз, он как бы мимоходом спросил меня, какого мнения я насчет фаланстеров, и когда я выразился, что опыт военных поселений * достаточно доказал непригодность этой формы общежития, то он даже не дал мне развить до конца мою мысль и воскликнул:
– А я, напротив того, полагаю, что если бы военные поселения и связанные с ними школы военных кантонистов * не были упразднены, так сказать, на рассвете дней своих, то Россия давно уж была бы покрыта целою сетью фаланстеров, и мы были бы и счастливы и богаты! Да-с!
Разумеется, я слушал эти рассуждения и радостно изумлялся. Не потому радовался, чтобы самые мысли, высказанные Грациановым, были мне сочувственны – я так себя, страха ради иудейска, вышколил, что мне теперь на все наплевать, – а потому, что они исходили от станового пристава. Но по временам меня вдруг осеняла мысль: зачем, однако ж, он предлагает мне столь несвойственные своему званию вопросы, и, признаюсь, эта назойливая мысль прожигала меня насквозь.
Однажды он засиделся у меня после обеда дольше обыкновенного и, начав с утопических мечтаний о том, как было бы хорошо, если бы в обществе не существовало разделения на богатых и бедных, кончил, разумеется, тем, что дал полный ход своей искренности.
– Скажу вам откровенно, – сознался он, – терпеть не могу я этих буржуа, хотя, по обязанностям службы, и должен их поддерживать. Деньжищ у них пропасть – это правда, но ни благородных манер, ни благородных чувств, ни порядочных привычек – ничего! Даже едят безобразно. Зазвал меня, например, на днях к себе кабатчик Колупаев обедать, и представьте, чем угостил! Во-первых, подали щи с солониной, во-вторых, лапшу, в-третьих, ушно́е из баранины, потом крошево из огурцов и кусочков коренной рыбы с квасом и, наконец, па́пушник с медом… И, в довершение всего, ни вилок, ни ножей. Согласитесь, что если они даже начальство так угощают, то можно себе вообразить, как они едят, когда у них нет гостей! И, что всего прискорбнее, наш милый батюшка, который тоже присутствовал на этом обеде, не только ел за обе щеки, но даже, как мне кажется, спрятал кусок па́пушника за пазуху!
Не скрою, что и на меня перечисление сейчас приведенного обеденного меню подействовало болезненно, но так как при этом, очевидно, не без преднамеренности, проводилась связь между кушаньями и представлением о политической роли буржуазии, то обстоятельство это невольно налагало на меня известную осторожность.
– С своей стороны, я нахожу, что обед был хотя и простой, но сытный, – сказал я, – а это, по моему мнению, главное. Единственный серьезный недостаток, в котором можно упрекнуть перечисленное вами меню, – это обилие супов, сообщающее трапезе однообразие и даже некоторую унылость. Но недостаток этот вовсе не присущ буржуазии, а зависит преимущественно оттого, что Колупаев живет в захолустье, где не имеется в виду образцов…
– Но вы! вы сами? ведь вы в том же захолустье живете, а между тем…
– Я… что ж я? Не забудьте, Милий Васильич, что я получил воспитание в высшем учебном заведении. Поэтому я, конечно, понимаю, что суп обязателен только в единственном числе и что затем существуют еще соусы, жаркие, пирожные и т. д. Но можно надеяться, что в недальнем будущем все эти представления будут не чужды и буржуазии. Я даже думаю, что и ныне, по мере приближения к центрам цивилизации, буржуазия ведет себя несколько иначе, нежели Колупаев. Так что, например, Поляков, Кокорев, Губонин – ну, я готов держать пари, что Поляков сморкается не в горсть, а в платок, и притом не в клетчатый бумажный, а в настоящий батистовый, быть может, даже вспрыснутый духами!
– Может быть… может быть-с! – сказал он задумчиво, но потом с живостью продолжал: – Нет! далеко кулику до Петрова́ дня, купчине до дворянина! Дворянин и маленькую рыбку подаст, так сердце не нарадуется, а купчина тридцатипудовую белугу на стол выволочет – смотреть омерзительно! Да-с, обидели! обидели в ту пору господ дворян!
Увы! при этом воспоминании я чуть-чуть не выдал себя. Есть у меня зияющая рана, прикосновение к которой всегда находит меня чувствительным и отзывчивым. Эта рана – воспоминание о дворянской обиде.
– Ах, как обидели! – воскликнул я, простирая руки… Но взглянув на него, опомнился: по всему его лицу бродила какая-то сомнительная улыбка.
– То есть, лучше сказать, не обидели, – продолжал я уже спокойнее, – а каждому воздали должное. Прежде у нас была одна опора – дворяне, нынче две опоры – дворяне и буржуа. Стало быть, мы не потеряли, а приобрели.
– А про мужичка-то и позабыли?
– И мужичок – тоже опора, – согласился я.
– Нет-с, не «тоже опора», а самая настоящая опора – вот как-с! потому что мужичка в какую сторону хочешь, туда и поверни.
– И с этим согласен.
– По секрету скажу вам: хоть это и не входит в крут моих обязанностей, но, по убеждениям моим, – я демократ! А вы?
– Что касается до меня, то я никогда об этом не думал. Вообще, я живу не думаючи – так по нынешнему времени удобнее. Но ежели начальству угодно…
– Начальству! но разве начальство где-нибудь, когда-нибудь сознавало свои истинные пользы?!
Это было уже слишком. Я почувствовал, что еще минута – и мы вступим на такую покатость, с которой легко можно спуститься в самую преисподнюю. Поэтому я разом пресек недостойный разговор, с силой воскликнув:
– Нет! с этим я никогда не соглашусь! Слышите, Грацианов! никогда! никогда!
Я помню, после этого разговора я целый вечер был беспокоен и все испытывал себя, не проврался ли я в чем-нибудь. И хотя совесть моя оказалась совсем чистою, но все-таки я долго ночью ворочался с боку на бок, прежде нежели сон смежил мои очи.
Но, увы! чем чаще мы сходились, тем скабрезнее и скабрезнее делались наши собеседования. Ни одного краеугольного камня не оставил он без исследования, и обо всех отозвался с одинаковым ехидством. О браке, согласно с определением присяжного поверенного Пржевальского, выразился, что это могила любви * ; о собственности сказал, что область ее «в настоящее время» слишком сужена, что надо расширить ее пределы, допустив приток свежих элементов, хотя бы, например, казнокрадства, причем указывал на купца Разуваева, который поставкою гнилых сухарей приобрел себе блаженство, и т. д. О религии пробормотал что-то такое, от чего у меня уши разом завяли, а о начальстве…
Хотя мое положение во время этих разговоров было очень выгодное, потому что мне приходилось только защищать, но наконец мне так наскучило постоянно выслушивать это бюрократическое сквернословие, что я решился в свою очередь испытать его.
– Скажите, пожалуйста, Милий Васильич, – обратился я к нему, – отчего же вы в речи, обращенной к урядникам, утверждали совершенно противное?
– Странный вопрос! – ответил он мне, нимало не смущаясь, – но разве я имею право быть откровенным с урядниками? Я откровенен с начальством – потому что оно поймет меня; я откровенен с вами – потому что вы благородный человек… * Но с урядниками… Извините меня, я даже удивляюсь вашему вопросу…
– Хорошо-с. А помните, когда я исповедовался перед вами при батюшке?..
– И тогда существовали те же самые причины. «При батюшке»! Но что такое батюшка?
– Извольте, согласен и с этим. Но надеюсь, что теперь вы убедились, что я совсем не разделяю тех воззрений, которые, по-видимому, исповедуете вы?
– Да-с, убедился-с… хотя и с болью в сердце, но… убедился-с!
– Ах, Милий Васильич! как хотите, голубчик, а вы для меня сфинкс!
– К сожалению, я совсем не сфинкс, а только становой пристав! – отвечал он печально, как бы подразумевая при этом: будь я сфинкс, давно бы ты узнал, как Кузькину мать зовут!
– Но заклинаю вас именем всего священного! Ответье мне откровенно: врете вы или нет? – воскликнул я, почти не помня себя от страха.
– Вы меня оскорбляете, наконец! – ответил он, взвиваясь во всю длину своего роста, – хоть я и не что иное, как становой пристав, но скажу вам от души: для благородного человека это даже больно… «Врете вы или нет?»… Ах!
Несколько дней он как будто будировал и не ходил ко мне. В это время из кухни начали долетать до меня звуки гармоники, и я, не без удивления, узнал, что они извлекаются каким-то вольнопрактикующим незнакомцем * . Увы! Этот загадочный для меня человек настолько коротко сошелся с моей прислугой, что не только ел и пил, но даже по временам ночевал у меня на кухне… И я ничего не знал об этом! Разумеется, это меня встревожило, и я несказанно обрадовался, когда Грацианов после недельной разлуки опять в обеденный час явился в моей столовой.
– Слушайте! – обратился я к нему, – у меня в кухне поселился какой-то незнакомец… скажите, могу ли я, по крайней мере, запретить ему играть на гармонике? Я не выношу этого инструмента.
– Кто же это?! – удивился он.
– Вероятно, вы очень хорошо знаете, и кто и зачем.
– Зачем? – повторил он за мной и вслед за тем залился добродушным смехом, – да очень понятно зачем! Наверное, у вас на кухне лишние куски остаются, так вот… Ах, все мы говядинку любим! – прибавил он со вздохом, – но, разумеется, ежели вы протестуете…
– Нет, я не протестую. Говядина и даже телятина… не в том дело! Но я желаю уяснить себе следующее: не должен ли я считать пребывание постороннего человека в моей кухне за нарушение неприкосновенности моего очага?
– Нисколько.
– Очень рад, что таково ваше мнение. Садитесь, пожалуйста, и будем обедать.
– Но, может быть, вы еще сомневаетесь? – успокоивал он меня, – в таком случае скажу вам следующее: человек, о котором вы говорите, есть не что иное, как простодушнейшее дитя природы. Если вы его попросите, то он сам будет бдительно ограждать неприкосновенность вашего очага. Испытайте его! потребуйте от него какой-нибудь послуги, и ни увидите, с каким удовольствием он выполнит всякое ваше приказание!
Одним словом, он вновь успокоил меня. Наши отношения возобновились, и я тем скорее забыл недавние недоразумения, что по части краеугольных камней я, в сущности, не уступил бы самому правоверному из становых приставов. В одном только я опять не остерегся – это по вопросу о дворянской обиде.
– Обидели! – восклицал я, – так обидели, что даже в истории не бывало примеров более горькой обиды! В истории – понимаете? – в истории, которая потому только и признается поучительною, что она сплошь из одних обид состоит!
Затем я закусывал удила и начинал доказывать. Доказывал горячо, с огоньком и в то же время основательно. Во-первых, нас не спросили; во-вторых, нас не вознаградили за самое главное… за наше право! в-третьих, нас поставили на одну доску… с кем!!! в-четвертых, нам любезно предоставили ликвидировать наши обязательства; в-пятых, нас живьем отдали в руки Колупаевым и Разуваевым; в-шестых…
Хорошо, однако ж, что я, в пылу доказательств, имею привычку от времени до времени взглядывать на моего собеседника. И вот однажды, подняв глаза на Грацианова, я увидел, что все лицо его светится улыбкою.
– Чему вы смеетесь? – воскликнул я на этот раз довольно грубо, потому что решился наконец вывести эти улыбки на свежую воду.
Однако он и тут очень ловко вывернулся.
– Тому и смеюсь, что наконец-то и вы убедились, – сказал он. – Помните наш недавний разговор? Я говорил, что обидели господ дворян, а вы утверждали, что не обидели, а только воздали каждому должное… Радуюсь, что, по крайней мере, хоть теперь…
Но я уже не верил коварным оправданиям и с запальчивостью ответил:
– Нет, нет! не тому вы смеялись, а совсем другому… Вы думаете, что я наконец проговорился… ну, так что ж! Ну, обидели! допустим даже, что я сказал это! Ну, и сказал! Ну, и теперь повторяю: обидели!.. что́ ж дальше? Это мое личное мнение – понимаете! мнение, а не поступок – и ничего больше! Надеюсь, что мнения… ненаказуемы… черт побери! Разве я протестую? разве я не доказал всею своею жизнью… Вон незнакомец какой-то ко мне в кухню влез, а я и то ни слова не говорю… живи!
Одним словом, неуместною своею горячностью я чуть было не довел дело до размолвки. К счастию, он выказал в этом случае замечательное самообладание и, вместо того чтоб обидеться моими подозрениями, начал очень мило и ловко меня урезонивать. Говорил ласковые слова, и притом не на дьячковский манер, без знаков препинания, а тепло, сердечно, с очевидным участием. Просил довериться ему, убеждал, что хотя лично и не имеет чести называться дворянином, но всегда сочувствовал дворянской обиде… И вдруг, в то самое время, когда сердце мое уже начало раскрываться навстречу его речам, он совершенно неожиданно присовокупил:
– А что, попротестовать-то, чай, все-таки хочется?
Это уж было такое явное подстрекательство, что я не выдержал.
– Никогда! – ответил я решительно и холодно.
– Чего уж там: никогда! но глазам вижу, что хочется! хочется! хочется!
– Повторяю вам: никогда!!!
– Но почему же, наконец?
– Потому, во-первых, что протест несочувствен для меня лично, а во-вторых, потому что он не согласуется с нашими традициями. Знайте, сударь, что наши предки могли сва́риться друг с другом, могли выщипывать друг у друга бороды по волоску, но протестовать… не могли! нет! никогда!
Я не без достоинства встал из-за стола и удалился в кабинет, оставив его на досуге размыслить, насколько имела успеха, по отношению ко мне, его пресловутая «система вопрошения».
И вот однажды он пришел ко мне утром и, не говоря худого слова… поцеловал меня!
– Давно уж я выжидаю этого момента и наконец теперь могу исполнить мое давнишнее и искреннее желание! – воскликнул он, облизывая губы.
Разумеется, я смотрел на него испуганными глазами.
– Не удивляйтесь, – продолжал он, – и выслушайте меня. При самом вступлении моем в должность, услышав от батюшки о ваших опасениях, я сразу принял в вас самое горячее участие. После того вы лично подтвердили мне эти опасения, причем чистосердечно во всем сознались, и это еще больше меня тронуло. Я решился устроить вашу жизнь настолько прочно, чтоб вы не могли иметь никаких сомнений насчет ее непрекратимости. Но, разумеется, по долгу службы, я должен был предварительно убедиться, что вы действительно этого заслуживаете. С этою целью я, по обыкновению, прибегнул к системе вопрошения и теперь, после месячного испытания, могу, положа руку на сердце, свидетельствовать: вы не только удовлетворили всем моим требованиям, но даже предъявили несколько более, чем я ожидал. Я прикидывался ненавистником буржуазии, но вы доказали мне, что последняя имеет несомненные права на существование. Я облыжно называл себя демократом, но вы благородно мне отказали в вашем сочувствии по этому предмету. Я кощунственно утверждал, что начальство само не сознает своих польз, но вы с негодованием отвергли сами предположение о таковом несознании. Когда же я с притворным участием отнесся к дворянской обиде, то вы хотя и не отрицали таковой, но при этом выказывали такую беззаветную покорность судьбе, которая неоднократно вызывала на мои глаза слезы умиления. Наконец, сознаться ли до конца? Я командировал к вам на кухню особого доверенного человека, с тем чтобы он собрал под рукой вернейшие о вас сведения, и добытый этим исследованием результат представляется в следующем виде: никогда в целом околотке не видали столь твердого в бедствиях землевладельца, как вы! Самые кабатчики – и те о том с умилением засвидетельствовали. Итак, отныне все недоразумения кончены. Вы – наш, и мы – ваши!
Высказавши это, он, конечно, ожидал, что я брошусь в его объятия; но я молчал. Тогда он продолжал:
– Забыл. Вы даже мне лично оказали неоцененную услугу, разъяснив разницу, которая существует между помышлениями обывателей и их поступками. Это в значительной степени упрощает задачи внутренней политики, хотя, с другой стороны, в такой же степени умаляет их блеск. Во всяком случае… благодарю!
Он протянул ко мне обе руки, но я с самого начала этой сцены до того растерялся, что руки эти так и остались протянутыми в пространстве. Тогда он фамилиарно потрепал меня по плечу и произнес:
– Привыкнете, друг мой, привыкнете!
В тот же день кабатчик Колупаев пригласил меня к себе на вечёрку, предупредив, что у него соберется вся наша сельская интеллигенция для игры в стуколку.
И я был там, играл с Грациановым и другими гостями в стуколку, проиграл целую уйму пятаков, говорил комплименты кабатчице Колупаевой, ухаживал за ее дочкой, пил водку, закусывал рыжей икрой, а за ужином ел говяжий студень с хреном. Вообще по оказанному мне радушному приему я убедился, что кабатчики наконец примирились со мной и допустили меня в свою среду. Нет сомнения, что я был обязан этим Грацианову.
После этого у нас началось настоящее веселье, и Грацианов оказался истинным мастером по части соединения общества. Вечера следовали за вечерами, сначала у кабатчика Прохорова, потом у другого кабатчика, Осьмушникова, а наконец, я и сам задал пир на весь мир. Мало того: когда Грацианов по секрету сообщил мне, что ему нравится дочка Колупаева, то я охотно принял участие в сватовстве и очень ловко выведал у родителей, что за невестой будет дано пятьсот рублей деньгами и, кроме всякого платья, лисий «монтон», четыре перины, два самовара и мериносовый платок.
Но жизнь моя уже была надломлена: я каждый день ожидал, что Грацианов опять поцелует меня. Не то чтобы мне были антипатичны собственно административные поцелуи, но, будучи характера нелюдимого и малообщительного, я вообще не имею к поцелуям пристрастия.
И вот я вспомнил, что в губернии служит, в качестве очень авторитетного лица, один из моих товарищей по школе, и отправился в город с целью во что бы то ни стало разъяснить себе вопрос: имеет ли право Грацианов целовать меня по своему усмотрению? Мой старый друг очень благосклонно выслушал всю историю моих сношений с Грациановым и все действия последнего нашел в высшей степени легкомысленными. Во-первых, он не имел права принимать мою исповедь и, во-вторых, еще меньшее право имел подвергать меня испытанию. Он просто-напросто должен был ожидать поступков.
– Что же касается до поцелуев, – прибавил мой друг, – то я ничему другому не могу приписать это, как дурной привычке, приобретенной им, вероятно, еще в училище для детей канцелярских служителей.
Но этого мало: он убедил меня, что в настоящее время порядочный человек не только не имеет причин опасаться внезапных жизненных метаморфоз, но даже обязывается жить для славы своего отечества.
– Ты сам виноват, душа моя, – сказал он, – с одной стороны, ты слишком мрачно смотришь на вещи, а с другой – чересчур уж смирен и не выказываешь ни малейшей самостоятельности. Будь тверже, голубчик, и живи! Живи, потому что и твоя жизнь еще может быть полезною.
И я живу.








