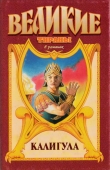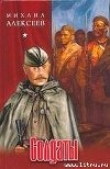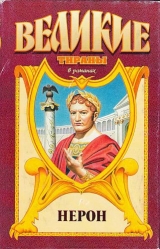
Текст книги "Меч императора Нерона"
Автор книги: Михаил Иманов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
Глава девятнадцатая
Сначала Нерон сказал «нет». Никий не пытался его убеждать, смотрел виновато. Они были одни и разговаривали вполголоса. Время от времени император поглядывал на дверь. Никий подумал, что власть над Римом – одно, а власть в собственном дворце – совсем другое. У императора во дворце было не так уж много власти.
– А этот человек,– недовольно сказал Нерон,– как его...
– Онисим.
– Онисим,– повторил Нерон.– Ты говоришь, что он принадлежит к сообществу христиан.
– Да, принцепс, я знал его еще по Александрии.
– Ты знал его еще по Александрии! – вскричал Нерон (ему очень хотелось по-настоящему рассердиться, даже впасть в неистовство, но почему-то не получалось. Дело было слишком серьезным, и его все равно надо было решать).– Значит, ты знался с врагами Рима! – Он гневно округлил глаза, но проговорил последнее значительно тише.– Отвечай: ты знался с врагами Рима? Может быть, ты и сам враг?!
– Я не знался с ним, принцепс,– рассудительно и спокойно отозвался Никий, впрочем, глядя на императора по-прежнему виновато,– я просто знал его по Александрии. У него с моим отцом были торговые дела, я в этом плохо разбираюсь. Я был значительно моложе, чем даже сейчас, и плохо понимал, кто враги, а кто нет. Мне стыдно, принцепс, но тогда мне не было до этого никакого дела.
– Но ты встречался с ним здесь, тайно встречался!
– Я видел его только раз. Он остановил мои носилки, наверное, следил за мной. Он знал, что я бываю во дворце, и просил помочь ему.
– А ты? Что ответил ты? – Нерон подошел к Никию вплотную и, прищурившись, вгляделся в его лицо.
– Он сказал, что его разыскивают, просил помочь.
– Чем? Чем помочь? Отвечай!
Никий пожал плечами:
– Деньгами, принцепс. Он просил денег.
– И ты дал?
– У меня было немного, и я сунул ему, вот и все.
– Значит, ты знал, что он враг Рима, а следовательно, и мой враг, и ты отпустил его, не рассказав об этом, к примеру, Афранию Бурру. Не-ет, ты не рассказал, ты отпустил его да еще дал ему денег. Ну, что ты скажешь на это?!
– Я боялся, принцепс, но я...– Никий помедлил, прежде чем продолжить, посмотрел на императора особенно нежным взглядом.– Я не чувствовал за собой никакой вины.
Нерон угрожающе усмехнулся:
– Но если ты не чувствовал, как ты говоришь, за собой никакой вины, то почему же ты боялся?
На глазах у Никия выступили слезы, когда он сказал:
– Я жалкий провинциал, что я значу при твоем дворе, принцепс! Даже то, что я люблю тебя, вызывает у других злобу. После покушения Афраний обвинил меня в сношениях с христианами. Что бы он сделал, расскажи я ему о встрече с этим Онисимом? Боюсь, принцепс, даже ты не смог бы защитить меня. Но посуди сам, если бы я чувствовал за собой вину, разве бы я сказал тебе о том, о чем сказал? В конце концов, я мог бы избавиться от Онисима совсем по-другому, для этого не нужно придумывать то, что я придумал. Я делаю это лишь ради тебя, потому что люблю тебя больше всего на свете, больше себя самого и больше собственной жизни. Если ты считаешь меня виновным, то вправе убить, Но даже ты не сможешь заставить меня перестать любить тебя.
У Никия перехватило дыхание, он приложил руку к груди, дышал прерывисто. Некоторое время Нерон молча смотрел на него – Никий почувстьовал, что его слова произвели впечатление. Наконец император медленно выговорил:
– Ты красноречив, Никий,– и, отойдя, опустился в кресло, сел вполоборота к Никию и, глядя в стену, закончил: – Я и сейчас не верю тебе, но при этом,– он грустно усмехнулся,– ты убедил меня. Если это игра, Никий, то очень хорошая игра, а ты знаешь, я люблю искусство больше, чем жизнь. В конце Концов, нет никакой правды, есть лишь умение убедить собеседника в ее существовании. Ты умеешь, Никий, и это вызывает во мне уважение.
Никий не ответил, стоял неподвижно, думал: «Самое время потерять сознание». Но тут же остановил Себя: «Нет, это лишнее. Тут главное – не переиграть».
Нерон искоса посмотрел на него, сказал так, будто не было предыдущего выяснения, будто он был заранее согласен с планом Никия и только прояснял детали:
– Значит, ты уверен, что Агриппина напишет такое письмо?
– Она уже написала его, принцепс,– шагнув к императору, тихо сказал Никий.– Она сделала это при мне.
Нерон поднял голову:
– Не знал, что ты пользуешься таким доверием моей матери. Скажи, Никий, ты спал с ней?
Никий, не ответив, прерывисто вздохнул.
– Говори,– Нерон приободрил его улыбкой, смотрел на Никия с любопытством.
– Я виноват перед тобой,– жалобно выговорил Никий,– но я сделал это...
Он не закончил. Нерон, порывисто повернувшись к нему и пригнувшись, заглянул в лицо:
– Только не говори, что ты сделал это из любви ко мне,– рассмеялся он.– Она же красивая женщина, ты же хотел ее. Ну, говори, хотел?
– Да,– в крайнем смущении произнес Никий.
– Она очень опытна в таких делах,– продолжал Нерон.– Я это видел всего один раз, когда был еще юношей. Поверь, я многому от нее научился,– он возвел глаза к потолку, смакуя воспоминание.– Она казалась неистовой, ей всегда не хватало мужчин. А мой отец, Домиций, он был, скажу тебе, не очень. В не.л осталось много злобы, она съела всю страсть. Я стоял за занавеской окна, когда она привела этого солдата. Просто солдата из отряда охранявших нас. Кажется, он был красив – тогда я плохо разбирался в мужской красоте,– двухметрового роста, сложенный почти как Аполлон. Правда, чуть грубовато, но не в этом дело. Ты не представляешь, Никий, какое у него было лицо! Настоящий зверь – тяжелый подбородок, глубоко посаженные глаза. Такого не расшевелишь, такой и понятия не имеет, что страсть существует. И что ты думаешь, через пять минут он вопил как ребенок: кричал, стонал, едва ли не плакал! Да, моя мать способна расшевелить самого Юпитера! А однажды...
Нерон вошел во вкус и рассказывал с настоящим удовольствием, перечисляя те приемы, которыми пользовалась Агриппина, и оценивая их качество. Само по себе это почему-то не особенно беспокоило Никия. Может быть, он сумел бы выслушать все это вполне равнодушно, если бы не имена. Но Нерон называл имена тех, с кем была его мать, и подробно описывал достоинства и недостатки каждого. Так, будто в любовных занятиях своей матери он неизменно присутствовал рядом.
Каждое имя, которое называл Нерон, болью отдавалось в сердце Никия. Он никогда бы не подумал, что такое может с ним произойти. Она, Агриппина, первая женщина, с которой он почувствовал себя мужчиной, изменяла ему, отдавала свою любовь и страсть другим.
Да еще, судя по рассказам Нерона, так неистово, так изощренно. Она обманула его, обманывала каждодневно, он ненавидел ее, он готов был ее убить! Боль, вызванная в его сердце Нероном, уже не уйдет просто так. Ее нужно вырвать из себя с кровью. С кровью Агриппины. Она обманула его, и она умрет, она должна умереть!
– Что с тобой, Никий? – услышал он голос Нерона и, с трудом возвратившись к действительности, проговорил, моргая глазами:
– Да, принцепс, я внимательно слушаю тебя.
– Не очень внимательно,– недовольно заметил Нерон и, оставив прежнюю тему, спросил: – Ты уверен, что ее человек явится вовремя?
Никий кивнул:
– Да, принцепс, он явится в нужную минуту.
Нерон помолчал, потом медленно поднялся и, глядя на Никия уже совсем другим взглядом, взглядом императора на подданного, произнес:
– Хорошо, я разрешаю тебе сделать это. Но ты должен знать, что при малейшей ошибке с твоей стороны твоя жизнь перестанет стоить...– Он так и не сказал, сколько будет стоить жизнь Никия, только добавил, величественно поведя рукой: – Ты понимаешь меня.
– Я люблю тебя! – выдавил из себя Никий, преданно глядя на императора, тогда как перед глазами его была Агриппина.
Нерон не ответил, и лицо его сделалось похожим на маску. На маску скорби.
Глава двадцатая
Была уже поздняя ночь, когда Никий поднялся, быстро оделся, тщательно закутался в плащ и, осторожно ступая, выскользнул в дверь. Ему показалось, что в темноте коридора кто-то есть.
– Кто здесь? – прошептал он тревожно, прислонясь к стене и вытягивая вперед руки.
Сначала раздалось неясное кряхтение, потом голос Теренция произнес:
– Это я, мой господин, Теренций.
– Зачем ты здесь? – недовольно проговорил Никий.– Иди к себе.
Теренций потоптался в темноте, но не ушел. Голос Никия прозвучал жестко, когда он сказал:
– Ты не понял меня, Теренций? Хочешь, чтобы я повторил?
– Нет, мой господин... Но я...
– Что еще?
– Тебе не нужно ходить ночью одному. Позволь мне хотя бы проводить тебя.
– С чего ты взял, что я иду один? – сказал Никий и, пошарив в темноте, коснулся Теренция рукой. Он почувствовал, как тот вздрогнул всем телом.– Что с тобой? Да говори же, у меня совсем нет времени.
– Мне страшно, мой господин,– едва слышно выговорил Теренций.
– Страшно? – усмехнулся Никий.– Тебе всегда страшно, мой Теренций, я уже к этому привык. Помнишь, когда мы еще ехали в Рим, ты испугался, лишь только Симон вышел на дорогу. От испуга ты даже схватился за меч.
– Я не испуган, мой господин, я боюсь,– каким-то особенно суровым тоном произнес Теренций.– Это не как на дороге, это совсем другое.
– Ты опять подозреваешь заговоры против меня? – сказал Никий как можно более беззаботно.– Успокойся, теперь мы строим козни, а не нам. Все будет хорошо, оставь свои страхи и ложись спать.
– Я не об этом, я о другом.– Голос Теренция прозвучал глухо, незнакомо.
– Вот как! Так о чем же?
– О тебе.
При этих словах Никий ощутил холод внутри. Теренций не добавил «мой господин», он говорил не как слуга.
– О тебе,– говорил Теренций в наступившей тишине, которая сейчас показалась Никию особенно разреженной, почти зловещей. Будто не было коридора, не было стен, не было потолка – тишина слилась с темнотой, и Никий стоял совершенно один, беспомощный и жалкий.
– Говори! – выдохнул он, и Теренций сказал:
– Ты губишь свою душу, Никий (он впервые назвал Никия по имени, и почему-то это обращение не покоробило, а прозвучало вполне естественно). Ты можешь погубить ее окончательно. Ты должен остановиться, потому что может быть поздно. Возможно, что уже поздно, но все равно ты должен остановиться.
– Ты... ты...– слабо проговорил Никий и не смог продолжить. Хотел сказать возмущенно, а выходило жалко.– Это Онисим научил тебя! Говори, это он?
– Онисим не нравится мне,– очень спокойно ответил Теренций,– он необуздан и резок, человеческая жизнь для него мало что стоит. Он хочет заставить людей верить в своего Бога силой. Но все равно ты не должен его убивать.
– Что? Что ты сказал?
– Ты не должен его убивать,– внятно повторил Теренций, и Никий услышал, как он вздохнул.
– Но ты... ты... Что ты говоришь! Как ты посмел!..
– Я не знаю, есть ваш Бог или нет,– продолжил Теренций, не обратив внимания на слова Никия,– и так ли Он всесилен и справедлив, как вы говорите. Но я верю в то, что убивать нельзя, ни за Бога, ни против него. Мой бывший хозяин, Сенека, говорил мне, что на небе есть отражение души человека, и это отражение – чистое, честное, непорочное. И если человек загрязняет свою душу дурными деяниями или помыслами, то небесная душа гибнет и чистоты в мире становится меньше – ровно на одну душу. Я не умею это как следует объяснить, но Сенека любил говорить со мной о своих писаниях. Я не все понимаю, но это я запомнил хорошо. Потому что это так.
– Ты говоришь о Сенеке,– сказал Никий,– но разве он не погубил свою душу? Или ты продолжаешь считать его лучшим из живущих?
Теренций отвечал строго:
– Я никогда не считал его лучшим из живущих. Я любил его и был предан ему, потому что я слуга, а он господин. Не мне судить о таком, но я думаю, он погубил свою душу.
Никий усмехнулся через силу:
– Почему же ты не сказал ему об этом, Теренций? Наверное, ты не посмел, побоялся. Наверное, Анней Сенека был для тебя настоящим господином, не то что я. Ну, разве не так?
– Я люблю тебя, Никий, больше жизни и не знаю, почему это случилось. Сенеку я любил как господина и служил ему как господину, а тебя я люблю. Может быть, в этом виновата ваша вера и ваш Бог. Я даже Онисима люблю, хотя он и не нравится мне. Ваш Бог говорил, что любовь выше всего на свете, и я думаю, что он прав. Нельзя убивать того, кого любишь, но нельзя убивать и того, кого ненавидишь. Рим погряз в ненависти, ты не должен жить в нем. Твой Бог погиб за любовь ко всем, а ты должен хотя бы не жить в ненависти. Уедем отсюда, прошу тебя. Я буду с тобой, где бы ты ни был, но тебе нельзя оставаться здесь.
Он помолчал и грустно добавил:
– И мне тоже.
Никий хотел крикнуть Теренцию, что это не его дело, что он всего лишь слуга, раб и его дело служить, а не размышлять. Он хотел выкрикнуть это, но у него стеснило грудь, и он не смог. Внезапный и безотчетный страх охватил его – темнота вокруг представилась ему Богом, и Бог с укоризной смотрел на него со всех сторон, и Никий не мог выдержать этого взгляда.
Он шагнул в сторону, прижимаясь к стене, нащупал дрожащей рукой дверь и, рванув ее на себя, проник в комнату, а потом захлопнул дверь, держась за ручку. Он повис на ручке двери всем телом – казалось, что темнота за ней тянет дверь на себя и, если он не удержит, он погиб.
Обессилев, Никий выпустил ручку и, попятившись, ткнулся ногами в ложе и упал на него, не спуская глаз с двери. Светильники в комнате давали ровный и ясный свет, и постепенно Никий успокоился. Подумал: «Не знал, что я так боюсь темноты»,– и тут же позвал негромко:
– Теренций!
Дверь отворилась, и в комнату вошел Теренций, лицо его было заспанным. Он поклонился:
– Слушаю тебя, мой господин!
Никий медленно поднялся, едва не упал, наступив на полу длинного плаща. Подойдя к слуге, он внимательно его оглядел. Протянул руку, чтобы дотронуться до плеча Теренция, но, тут же отдернув ее назад, спросил недовольно, злясь на самого себя:
– Ты что-то говорил? Я не понял... скажи... ты...
Теренций подался чуть вперед, как бы прислушиваясь, лицо его выразило виноватое непонимание.
– Где ты был? – проговорил Никий отрывисто и зло.
– Я спал, мой господин. Ты сказал, что я не понадоблюсь тебе до утра. Если я провинился...
– Хорошо, иди,– перебил его Никий, но, лишь только Теренций дошел до двери, остановил.– Постой! Возьми светильник и проводи меня, в коридоре так темно.
– В коридоре светло, мой господин, я велел держать свет всю ночь.
– Всю ночь?
– Да, мой господин, всю ночь.– Теренций поклонился.
Никий не ответил, резким движением запахнул плащ и рывком натянул на голову капюшон.
Глава двадцать первая
Никий и сам не понимал, зачем пришел к дому Агриппины. Окна не светились, вокруг стояла тишина, показавшаяся ему зловещей. Он легко перелез через забор и подошел к парадному крыльцу. Отряд германских гвардейцев, охранявших Агриппину долгие годы, уже давно был отозван Нероном под предлогом их неблагонадежности, а обещанные преторианцы так и не прибыли. Впрочем, Агриппина сама не хотела их, говоря, что при такой охране ее когда-нибудь найдут задушенной в постели. Когда Нерону передали ее слова, он расхохотался:
– Задушенной в объятиях, конечно!
Но как бы там ни было, никто не охранял дом матери императора. Никий сначала думал залезть в окно, но потом решил, что если его все-таки заметят слуги, то шуму не оберешься, и постучал в дверь.
Выглянул сонный слуга, подняв светильник, испуганно вгляделся в ночного гостя. Никий скинул капюшон, сказал:
– Марций, ты узнаешь меня?
Тот кивнул, но не посторонился:
– Госпожа спит, она плохо чувствовала себя с вечера.
Никий не стал вступать в ненужные переговоры, просто оттолкнул слугу и вошел в дом. Преданный Марций двинулся следом, что-то жалобно бормоча себе под нос. На лестнице Никий повернулся, выхватил из руки слуги светильник, проговорил строго:
– Мне надоело твое присутствие, Марций. Иди спать, я сам найду дорогу.
Слуга ничего не возразил, потоптался в нерешительности, но отстал. Никий без труда отыскал нужное помещение, вошел, поставил светильник на пол, приблизился к ложу Агриппины. Стоял, неподвижно глядя на спящую женщину. Ее полные красивые руки лежали поверх покрывала, лицо спокойное, умиротворенное. Никий не любовался ею, смотрел с неприязнью, почти со злостью, в сознании мелькали имена любовников, названные Нероном. «Они владели ею как любовники,– подумал он,– а я как раб». Рука его случайно дотронулась до рукояти короткого меча у пояса. Он в страхе отдернул руку, будто меч был живой. Зачем нужны эти хитроумные комбинации, если можно войти в спальню Агриппины в сущности беспрепятственно и одним ударом меча покончить с нею. В конце концов, все можно свалить на обыкновенных грабителей. Но Рим был слишком театрален, чтобы действовать так просто. Из смерти следовало обязательно сделать трагедию или комедию – не имеет значения что, лишь бы все выглядело красиво и высокопарно.
Никий отстегнул меч, осторожно пригнувшись, положил его на пол у ложа. В эту минуту Агриппина спросила тревожно:
– Кто здесь?
Никий осторожно поднялся:
– Не бойся, это я, Никий.
Она привстала на локтях, смотрела на него с испугом и недоверием:
– Почему ты здесь? Что-нибудь случилось?
– Нет, нет, я...
Она резко подалась назад, ударилась о деревянную спинку ложа:
– Тебя прислал Нерон!
Она не спрашивала, она утверждала. Никий быстро шагнул к ней, она в страхе вытянула руки перед собой:
– Не подходи!
Теперь лицо ее стало некрасивым, подурневшим – страх не шел ее лицу, слишком старил. Никий почувствовал удовлетворение, увидев это. Свет в комнате был неяркий, Агриппина по-своему истолковала выражение его лица. Ее вытянутые руки не были уже средством защиты – напряжение исчезло, они плавно колыхнулись в пространстве, приглашая.
– Иди ко мне, Никий,– со сладкой улыбкой проговорила Агриппина,– я так ждала тебя.
Никий понимал, что это неправда, но не мог противиться, подался вперед и – оказался в ее объятиях. Он вспомнил, как Нерон говорил о преторианском гвардейце, которого давным-давно привела к себе мать: «Он плакал, как ребенок». Вспомнил, хотел освободиться от ее рук, но вместо этого почему-то еще плотнее прильнул к ее теплому, пахнущему сном телу, уткнул лицо в грудь.
– О Никий, Никий,– простонала Агриппина,– как я люблю тебя!
Ее голос мог заставить быть страстным даже мертвого. А Никий был еще жив. «Сирена!» – подумал он – последний миг перед тем, как растворился в ее ласках, в звуках ее голоса.
В этот раз Агриппина не была неистова, она оказалась пронзительно нежна. Никий потерял ощущение времени, не понимал, где находится, что с ним уже произошло и что может быть еще. И будущее, и настоящее уже не имели значения – если объятия Агриппины есть забвение от жизни, он больше не хочет жить.
Когда пришел в себя, первое, о чем подумал, было: «Она не может быть моей, значит, не должна жить». Он странно спокойно сказал себе это, повернул голову, посмотрел на лежавшую рядом Агриппину – та неподвижно смотрела в потолок и казалась мертвой. Сам не зная зачем, он сказал:
– Если бы ты могла родить от меня, ребенок стал бы властителем мира.
Проговорил это едва слышно, как бы про себя,– и хотел, чтобы она слышала, и не хотел.
Губы Агриппины дрогнули – то ли в насмешливой улыбке, то ли в скорбной. Она вздохнула протяжно:
– Я уже не могу рожать. Но если бы могла... Нельзя родить двух императоров. Все дети разные – тот, кто сильнее, убьет остальных.
– Я сказал о властителе мира, а не об императоре.– Никий и сам не вполне понимал, что имеет в виду.
Она повернулась, посмотрела на него долгим взглядом:
– Ты говоришь глупости.
Он резко поднялся, спрыгнул с ложа, взял лежавшую на полу одежду. Она не двинулась, не попыталась остановить его, только смотрела с грустью.
– Мне пора идти,– проговорил он, глядя в сторону.
– Иди,– ответила она.
– Ты пришлешь своего человека, как мы договаривались?
– Да, конечно, я же обещала.– Голос ее прозвучал ровно-равнодушно.
– Потом мы уедем с тобой, будем жить тихо, и нас никто не найдет.
– Никто не найдет,– повторила она,– будем жить тихо. Будем жить...– она прервалась, и вдруг Никий увидел, как у Агриппины скользнула слеза, прочертив дорожку от глаза до уха. Она договорила едва слышно: – Или не жить.
Ему сделалось жаль ее, но жалость была какой-то болезненной, перемешанной с раздражением. Он сказал, шагнув к ложу и остановившись над Агриппиной:
– У тебя было много любовников, я знаю, и всех ты одаривала одинаковой любовью. Не понимаю, почему тебя никто не убил из ревности. Не понимаю!
Ее веки дрогнули, когда она произнесла:
– Но меня никто не любил.
– Тебя никто не любил?! – вскричал он с удивлением и возмущением одновременно.
– Нет.
– А твой брат Гай? Ты же сама говорила, ты боялась, что он убьет тебя.
Она усмехнулась грустно:
– Ты не знал моего брата Гая. Чтобы убить, ему не нужно было ни любить, ни ненавидеть, он просто любил убивать.
Никию хотелось крикнуть, что он, он любит ее. Никто не любил, а он любит, но, взглянув еще раз на ее бес-страстное лицо, он промолчал. Нагнулся, чтобы поднять меч, все еще лежавший на полу у ложа. Но лишь только пальцы его коснулись ножен, она спросила:
– Ты что?
– Ничего,– ответил он и осторожно подсунул меч под ложе,– у меня погнулась застежка на сандалии.
– Калигула! – произнесла она, и в какой-то миг Никию показалось, что она сошла с ума.
Он поднялся, тревожно посмотрел на нее:
– Я не понял. Что ты сказала, Агриппина?
– Так прозвали моего брата, Гая. Наш отец, Германик, с детства таскал его по военным лагерям. Калигула – сапожок. Ты сказал про застежку сандалия, а я вспомнила о прозвище, которое дали моему брату солдаты. И еще потому, что ты похож на него.
– Я? Я похож на него? Чем же? – воскликнул Никий с неожиданной злобой и вдруг добавил (не хотел, не хотел говорить, вырвалось само): – Разве я люблю убивать?
– Любишь,– проговорила она уверенно и спокойно,– но еще сам не знаешь об этом.
– Ты!.. Ты...– Он тряс кулаками с искаженным злобой лицом.
Она ответила вяло, даже не пошевелившись:
– Я не вижу в этом ничего страшного, Никий. Ты полюбишь, когда попробуешь по-настоящему. Убивать так же сладко, как любить. Вот и меня ты полюбил, попробовав...
Никий всплеснул руками и, не отвечая, выбежал из комнаты.