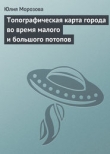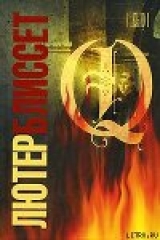
Текст книги "Q"
Автор книги: Лютер Блиссет
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 47 страниц)
ГЛАВА 38
Голландское побережье в окрестностях Роттердама,
20 июля 1534 года
Ветер, играя, ворошит пучки травы, словно бороды великанов. Маленький барак, у которого привязаны рыбацкие лодки, кажется, держится каким-то чудом под напором ветра и волн.
Солнце вот-вот поднимется, ночь кончилась, но день еще не начался: розоватый свет освещает чаек, лениво парящих поблизости и готовых подраться с крабами из-за мертвой рыбы, выпавшей из сетей во время ночного лова. Слабый прибой, низкий прилив, небо над побережьем, спрятавшееся в дымке на севере и на юге… Ни души…
Крошечные насекомые бегают по стволу дерева, принесенного бог его знает откуда. Руки сами сжимаются на мокрой коре. Проводник, предоставленный мне братьями из Роттердама, сказал, что это то самое место. Он не захотел ждать: ван Брахт – не из тех людей, с которыми общаешься с удовольствием.
Три тени, вытянувшиеся на песке… в южном направлении. Вот и они.
Руки сжимаются на пистолетах, скрещенных под плащом, который защищает меня от бриза с Северного моря.
Они приближаются медленно, плечом к плечу.
Мрачные невыразительные лица, нечесаные бороды, мятые рубахи, мечи на портупее.
Я не двигаюсь.
Они приближаются ровно настолько, чтобы были слышны слова:
– Ты немец?
Жду, пока они подойдут поближе:
– Кто из вас ван Брахт?
Он высок, тучен, лицо вытравлено морем и солнцем, мелкий пират, хвастающийся, что захватил двадцать испанских судов.
– Это я. Ты принес деньги?
Позвякиваю мешочком у пояса.
– Где порох?
Он кивает:
– Его доставили прошлой ночью. Десять бочек, верно?
– Где?
Три пары глаз уставились на меня. Ван Брахт едва заметно качает головой:
– Имперские силы прочесывают все побережье, было небезопасно оставлять его здесь. Он на старой дамбе, в полумиле отсюда.
– Идем.
Мы пускаемся в путь, четыре параллельных следа на песке.
– Ты Герт Букбиндер, да? Тот, которого прозвали Гертом из Колодца?
В вопросе нет ни любопытства, ни особого выражения – просто констатация факта.
– Я покупатель.
Дамба – это частокол из прогнивших стволов, море продырявило ее, образовав небольшой канал, теряющийся под землей. На вершине покосилась низкая будка сторожа.
Бочки покрыты промасленной парусиной, по которой разгуливают чайки. Когда материю поднимают, с прогнившей рыбы, наложенной в ящики, поднимается рой мух. Внизу выстроились в ряд бочонки. Один из трех мне разрешают открыть: я указываю на тот, что в центре: пират сбивает крышку и отходит в сторону.
Он стремится заверить меня:
– Его привезли из Англии. Рыбная вонь отпугнет шпиков.
Я запускаю руку в черный порох.
– Успокойся, он совершенно сухой.
– Как мне его везти?
Он указывает рукой за дюны, над которыми виднеются голова лошади и высокое колесо телеги:
– Дальше управишься сам.
Я отвязываю кошель и протягиваю ему.
– Пока ты будешь считать, твои люди могут заняться погрузкой.
Достаточно одного кивка, и пара пиратов нехотя поднимает первые бочки и начинает неуклюже шагать по тропе.
Чайка кричит у нас над головой.
Крабы заползают под остов старой лодки.
Солнце начинает разгонять утренний бриз.
Абсолютное спокойствие.
Ван Брахт заканчивает подсчеты:
– Здесь достаточно, дружище.
С силой сжимаю обе рукоятки:
– Неправда. Тут меньше половины того, что вам причитается. – Мгновенное колебание: они не видят пистолетов под плащом. – Награда за поимку Герта из колодца в десять раз больше.
Я не даю ему времени пошевелиться – стреляю прямо в лицо.
Остальные возвращаются бегом с обнаженными мечами. Двое против одного… Засыпаю порох в разряженный пистолет, забиваю пули; снова порох, утрамбовываю его поршнем, оттягиваю собачку… Они всего в нескольких шагах с оружием наперевес… Глубокий вдох, не дрожать… Целюсь в движущиеся конечности: два выстрела звучат почти одновременно, первый валится к моим ногам, второй падает, его пистолет стреляет… Возможно, я уже мертв, но мой призрак вытаскивает короткий меч и засаживает его ему в горло.
Хрип.
Тишина.
Я стою на том же месте. Смотрю на чаек, которые возвращаются, чтобы вновь рассесться на пляже.
Бочки приходится грузить самому.
* * *
Роттердам, 21 июля 1534 года
– С этими будет пятьдесят.
Адриансон заканчивает проверку, потом протягивает мне перечень груза.
– Пятнадцать аркебуз, десять бочек пороха, восемь бочек свинца. И десять тысяч флоринов.
– Нам понадобятся две повозки. Рейнард дал тебе пропуска?
– Вот они. Он говорит, их не отличишь от настоящих – на них печать, какую ставят в Гааге.
– Они послужат нам до границы. Потом придется придумать что-то еще. Надо выехать как можно раньше. Придется останавливаться еще в Нимвегене и Эммерихе, и я не знаю, надолго ли мы там застрянем. Путь будет долгим, придется избегать самых прочесываемых дорог.
Коновал предлагает мне свернутый в трубочку сушеный табачный лист, присланный из Индии, и рассказывает, что научился курить у голландских торговцев. Испанцы называют их cigarros, от них исходит запах другого мира, хижин, кожи и зеленого перца. Ароматный привкус – от него остается приятное ощущение во рту.
Мы валимся на койки, предложенные братом Магнусом, проповедником баптистской общины Роттердама. Его стол скуден, но щедрость в отношении нашего дела позволяет простить ему полное отсутствие пиршеств.
Мы выпускаем дым, закручивающийся, подобно нашим мыслям, и он еще долго остается висеть в воздухе в комнатушке, приткнувшейся на чердаке.
Здешние братья – слабые люди. Они восхищаются Мюнстером и пожертвовали нам золотые горы, причем буквально. Но они не станут дразнить власти восстанием: они привыкли исповедовать свою религию тайно, на ночных собраниях и совместных чтениях Библии. Я не нашел в них боевого духа, на который, признаюсь, рассчитывал, но их щедрость и уважение к нам вполне компенсировали его отсутствие.
Трудно в чем-то их обвинить: в крупных торговых городах все совсем по-другому, нежели в наших немецких городах-государствах. И здесь тоже прибавилось испанцев – значит, император заправляет и у них в доме.
Я открыл, что и здесь существует партия недовольных, несколько бунтующих братьев, которые хотели бы последовать нашему примеру. Но они малочисленны и неопытны, и у них нет настоящего вождя. Оббе Филипс, давно отрекшийся от своего апостола Матиса и делающий вид, что всегда придерживался той же умеренной линии, что и сегодня. Потом, есть еще молодой Давид Йорис из Делфта, блестящий оратор, которого наш хозяин считает самым многообещающим лидером. Кажется, судьба будущего движения во многом зависит от него. Его мать стала одной из первых баптистских мучениц, обезглавленных в Гааге, когда Давид был еще ребенком. Он разыскивается по всей Голландии как особо опасный преступник, так что встретиться с ним чрезвычайно трудно. У него нет определенного местожительства, он постоянно пребывает в бегах и появляется то там, то там, часто под фальшивыми именами, даже среди братьев и соратников, из страха перед предательством. Кажется, ему не претит ограбление церквей, но он, как и Филипс, яростный противник насилия.
Положение далеко не стабильное, но скорее всего выльется лишь в реки красивых слов.
Между тем мы завтра снова отправляемся в путь, в обратном направлении, с нашим драгоценным грузом, который придется держать подальше от дорожных постов и от княжеских глаз. Надо посетить еще две общины. В Мюнстер мы вернемся только через месяц.
– Спокойной ночи, Петер.
– Спокойной ночи, капитан.
ГЛАВА 39
Мюнстер, 1 сентября 1534 года
Он показывается из-за горизонта, мрачный и угрюмый. Холодный ветер швыряет в лицо снег, заставляя постоянно щурить глаза. Я различаю черный силуэт на равнине, дамбы на Аа, крепостную стену, фонари стражи – единственные звезды в непроглядном мраке ночи.
Мы погоняем лошадей, чтобы сделать последний рывок, промокшие, изнуренные. Адриансон на второй телеге следует за мной по пятам – вопреки всему, мы добрались. Колеса разбрасывают грязь с дороги, мы едем медленно, но все же приближаемся к цели. Вдали на севере я отчетливо различаю черный ряд укреплений: земляные валы фон Вальдека стали непреодолимым барьером, перекрывшим подъезд к городу и пути к отступлению.
– Что-то не так.
Голос кузнеца теряется в шуме дождя: он прав, необычное тревожное ощущение клещами сжимает мой живот изнутри – это предчувствие страшной катастрофы.
– Колокольни, Герт… башни. Куда они подевались?
Вот чего не хватает. Город стал плоским. Пушки епископа не бьют так высоко и так далеко. Что же случилось с колокольнями?
Не от ночного холода дрожат мои руки и ноги: невидимая рука все сильнее сжимает внутренности.
Мы представляемся охране Людгеритора. Мне не знаком ни один стражник, нет, возможно, знаком один, похоже, это сапожник Хансель, но одряхлевший, седой.
– Хансель, это ты?
Бегающий взгляд, как у преступника.
– С возвращением, капитан.
Я хлопаю его по спине:
– Что, черт возьми, случилось с башнями Мюнстера?
На лице виноватое выражение, глаза потуплены, ответа нет. Я протягиваю ему руку, одновременно пытаясь справиться с паникой, подступающей к горлу:
– Хансель, расскажи мне, что случилось.
Он освобождается от моей хватки, как вор, стоящий перед судом:
– Не стоило вам уезжать, капитан.
В ночном воздухе ощущается запах преступления, чего-то жуткого, о чем не говорят вслух. Охваченные тревогой, мы углубляемся в город, направляясь по пустынным улицам к дому Адриансона. Без слов, в них нет необходимости, мы спешим, хоть и вымокли до нитки.
Я вижу, как он стучится в дверь, крепко обнимает жену и крошку сына. В их взглядах нет радости – так ведут себя люди, пережившие общее горе.
Женщина потчует нас горячей настойкой перед тем, как накормить каштанами, которые пекутся в камине:
– Это все, что я могу вам предложить. С тех пор как ввели пайки, трудно достать молоко.
Она очень худа… В горле нервно пульсирует синяя жилка… Необходимость справиться с бедой – единственная сила, которая пока поддерживает ее. После каждой фразы взгляд падает на сына, словно ей хочется защитить его от неведомой опасности.
– Все действительно так плохо?
– Епископ сжал кольцо окружения и усилил блокаду, с каждым днем становится все тяжелее доставать еду. Нам приходится целыми днями простаивать в очередях, чтобы накормить детей. Дьяконы, ответственные за раздачу пайков, постоянно их урезают.
Адриансон умудряется разжечь огонь так, словно это будничное дело может развеять нависший мрак.
– Что случилось с колокольнями, Грета?
Она смотрит на меня без дрожи и колебания – ей чужды трусость и малодушие мужчин.
– Не надо было тебе уезжать, капитан.
Звучит почти как обвинение – теперь я стараюсь избегать ее взгляда.
Муж моментально выговаривает ей:
– Ты не имеешь права предъявлять ему претензий, он рисковал жизнью ради нашего общего дела. В Голландии мы нашли и деньги, и свинец для пушек, и порох для ружей…
Женщина качает головой:
– Вы не понимаете. Вам ничего не известно.
– В чем дело, Грета? Что случилось?
Адриансону не удается сдержать страха и злости:
– Рассказывай, жена. Что произошло с колокольнями?
Она кивает, не отрывая от меня колючего, сурового взгляда:
– Их снесли. Ничто не должно возвышаться, бросая вызов Всевышнему. Никто не должен возгордиться: все мы обязаны смотреть вниз, когда ходим по улицам, нам нельзя носить ожерелья – их реквизировали. Трое детей: две девочки и мальчик – были назначены судить народ. Они освободят тебя от всего лишнего: любой роскошной вещи, слишком нарядной одежды. Все золото и серебро попадает в придворные сундуки.
Адриансон хватает ее за руки:
– А твое кольцо?!
– Все… к вящей славе Господней.
Я глубоко вдыхаю, нужно сохранить спокойствие, хотя бы попытаться понять.
– Какой еще двор, Грета? О чем ты говоришь?
Ненависть, нескрываемый гнев звучат в ее словах.
– Он провозгласил себя царем. Иоанном, царем Мюнстера, царем избранного народа.
Удушье не дает мне заговорить, а она продолжает напирать:
– Все затеял Дусеншнуэр, ювелир, этот мерзкий хромой, вместе с Книппердоллингом. Чудовищное представление: они пресмыкались перед ним, умоляли его, чтобы он принял корону. Они объявили: Бог говорил с ними во сне о том, что он должен принять корону Бога Отца и вести нас в Землю обетованную. А этот грязный паяц отказывался, утверждая, что недостоин…
Кузнец разъярен: он хочет защитить свою жену, он обнимает ее за плечи.
– Мерзкая свинья. Трехгрошовый альфонс.
Я бормочу:
– Никто его не остановил… Где были мои люди… Генрих Гресбек?
– Не стоит винить их, капитан, их больше нет здесь. Они сопровождают миссионеров, которые отправились на поиски подкрепления. Царь окружил себя вооруженными людьми, каждого, кто осмелится сказать против него хоть слово, уводят – и они исчезают неизвестно где, в какой-то подземной тюрьме, возможно… чтобы потом очутиться на дне канала.
Я должен спросить ее, должен понять:
– Бернард Ротманн?
Предшествующая ответу пауза, возможно, даже хуже того, что меня ожидает.
– Он был назначен придворным теологом. Книппердоллинг, Киббенброк и Крехтинг получили графские титулы. Царь говорит, что вскоре поведет свой избранный народ через Красное море вражеских войск завоевывать всю Германию. Он уже раздал принципаты вернейшим своим сторонникам.
Гнев и страх становятся невыносимым грузом, тянущим меня к земле. Я обессилен и истощен, но меня ожидает новый сюрприз – я читаю это в непоколебимом, как сталь, лице, сохранившем свою возвышенную, несмотря на множество перенесенных невзгод, красоту.
– Ротманн заявил, что надо следовать обычаям патриархов Писания. Плодиться и размножаться, а еще он сказал, что каждый мужчина может взять себе столько жен, сколько сумеет удовлетворить, для увеличения числа избранных. У короля – пятнадцать жен, все почти девчонки. У Ротманна – десять, так же как и у остальных. Если бы мой муж не вернулся через месяц, и меня ожидала подобная участь.
Руки Адриансона побелели от напряжения – как бы им, независимо от него самого, хотелось разнести каминную полку.
– О да, мы кричали во весь голос, говорили, что это несправедливо. Маргарет фон Оснабрюк даже высказала, что раз уж Господу столь угодно деторождение, тогда пусть и женщины берут себе по нескольку мужей.
Долгий вдох помогает ей справиться с переживаниями.
– Она плюнула в лицо проповедникам и наплевала на тех, кто пришел забирать ее. Она понимала, что ее ожидает, но не стала молчать. Когда ее уводили, она кричала во весь голос, что женщины Мюнстера боролись бок о бок со своими мужьями совсем не за то, чтобы стать наложницами.
Еще одна пауза, чтобы сдержать слезы ярости. В этих словах необыкновенное достоинство, достоинство того, кто сопереживает отчаянному поступку своего брата или сестры.
– Она умерла, убив их своими словами. Ее примеру последовали многие другие, которые предпочли умереть, оскорбив тиранов, чем принять их законы. Элизабет Хельшер, посмевшая оставить собственного мужа. Катарина Коэнкенбекер, жившая с двумя мужчинами. Барбара Бутендик, обвиненная мужем в том, что осмелилась противоречить ему. Ее не казнили, нет. Она была беременна, и лишь это спасло ее.
Тишина. Только потрескивание в очаге. Глубокое дыхание малыша Ганса в постельке. Шум дождя, барабанящего по крыше.
– Никто не восставал против него?
Она кивает головой:
– Кузнец Молленхеке. Вместе с еще двумя сотнями мужчин. Им удалось запереть царя и его свиту в ратуше, но потом… Что они могли сделать? Открыть ворота епископу? Это означало бы обречь город на смерть. Они не этого хотели. Но потом кто-то освободил царя, и через два часа их головы покатились по площади.
Петер Адриансон хватает старый меч, которым он сражался в феврале на баррикадах. Лицо избороздили морщины – он страшно устал.
– Позвольте мне убить его, капитан.
Я поднимаюсь на ноги. Сделать то, что еще можно.
– Нет. Твоей жене и сыну совершенно ни к чему, чтобы ты стал мучеником.
– Он должен заплатить за все.
Оборачиваюсь к Грете:
– Собирай вещи. Вы уезжаете сегодня ночью.
Адриансон тупо сжимает эфес, не видя ничего вокруг.
– Он нас жестоко обманул, нельзя, чтобы это сошло ему с рук.
– Увози своих подальше отсюда. Это мой последний приказ, Петер.
Ему хочется плакать, он смотрит вокруг: дом, вещи… Я…
– Капитан…
Грета готова, сын на руках уже завернут в одеяло. Хотелось бы мне, чтобы и у Адриансона в этот момент была ее сила воли.
– Идем. – Я волоку его за руку, мы выходим под ливень, идем по улице. Пробираемся вдоль стены – путь, который кажется бесконечно долгим.
Вдруг жена Адриансона шарахается в сторону.
Рука инстинктивно ложится на меч. Два низких силуэта в капюшонах. Один держит фонарь. Они приближаются к нам мелкими шагами по грязи.
Свет поднимается до уровня наших лиц. Я смутно различаю юные глаза, гладкие щеки. Не больше десяти лет.
Мороз по коже.
Девочка указывает пальчиком на сверток, который Грета крепко прижимает к груди. Крошечным белым пальчиком.
Ужас в глазах женщины. Она поднимает уголок одеяла и показывает Ганса, окоченевшего от мороза.
Вторая не отрывает взгляда от моего лица.
Голубые глаза. Белокурые пряди, вымокшие от дождя.
Надменное равнодушие слепого правосудия.
Невероятный ужас.
Инстинктивное желание раздавить ее. Убить.
Сердце стучит, как барабан.
Они проходят мимо.
У Людгеритора.
Наши повозки уже разгрузили, лошади отдыхают под навесом.
– Стой! Кто идет?
– Капитан Герт из Колодца.
Они подходят поближе, чтобы опознать меня. Хансель стал похожим на призрак от голода.
– Запрягайте лошадей в одну повозку.
Неуверенно:
– Капитан, мне жаль, никто не может покинуть город.
Указываю на сверток, который Грета прижимает к груди.
– У малыша холера. Хочешь, чтобы вспыхнула эпидемия?
Перепуганный, он бежит звать напарников. Лошадей запрягают.
– Открывай ворота, живей!
Заталкиваю Адриансона в повозку, всовываю вожжи ему в руки:
– Беги как можно дальше.
Его слезы смешиваются со струями дождя, стекающего с капюшона.
– Капитан, я не брошу тебя здесь…
Крепко затягиваю воротник его плаща:
– Никогда не отрекайся от того, за что боролся, Петер. Поражение не означает, что дело было несправедливым. Всегда помни об этом. А теперь поезжай.
С силой наподдаю лошади по крупу.
* * *
Я больше не чувствую дождя. Пар изо рта висит передо мной, когда я иду по улице, ведущей к соборной площади. Никого. Словно все вымерли: лишь кладбищенская тишина вокруг.
Помост по-прежнему возвышается у церкви, но теперь он увенчан балдахином над троном. Над ним четкими буквами высечено название места, куда решили навечно эмигрировать разумы этих людей: ГОРА СИОН.
Я шагаю дальше, пока не дохожу до света и шума пиршества – сверху, из окон дома, прежде принадлежавшего господину Мельхиору фон Бурену.
Я прибыл ко двору Царя-Шута.
У него на голове корона.
На нем бархатная мантия.
В руках у него скипетр. Сфера, увенчанная короной и двумя мечами, свисает у него с шеи. На каждом пальце – по кольцу, борода уложена волосок к волоску, щеки неестественно нарумянены, как у прихорошенного трупа.
Он сидит в самом центре за столом в форме лошадиной подковы, заваленным множеством обглоданных костей, заставленным сосудами с гусиным жиром, кружками и бокалами с остатками вина и пива. В самом центре зала застыла наглая ухмылка свиньи на вертеле. Справа от царя – царица Дивара, одетая во все белое, еще прекраснее, чем в моих воспоминаниях, ее роскошные волосы удерживает венок из колосьев. Справа от короля коротышка с курносым носом – несомненно, знаменитый Дусеншнуэр. Жены сидят рядом с придворными, подавая вино своим господам и хозяевам.
В глубине зала на троне Давида бесцеремонно развалился мальчишка, закинувший ноги на подлокотники. От скуки он играет с монеткой. На одежде, которая слишком велика ему, множество золотых ожерелий, рукава закатаны до локтей. С трудом узнаю Шеар-Яшуба, любимца Бокельсона, однажды зимним днем спасенного им от участи последователей старой веры.
Царь поднимается, оперевшись руками о стол. Он вертит головой в поисках жертвы, с которой можно скреститься взглядом. Среди участников пирушки переполох. Глаза моментально опускаются.
– Крехтинг!
Министр подскакивает. Все остальные вздыхают с облегчением. Царь напирает:
– За герцогство Саксонское, Крехтинг!
Нарочито подражая крестьянскому говору:
– «Для чего же ты ныне так громко вопиешь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающую? Страдай и мучайся болями, дщерь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле и дойдешь до Вавилона. Там будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих». Кто я? Кто я?!
Крехтинг краснеет, уставившись на обглоданный задок барашка у себя перед носом, толкает локтем соседа в надежде на подсказку.
Царь явно огорчен:
– Достаточно, ты не знаешь…
Взгляд буравит всех, сидящих за столом:
– Книппердоллинг! За курфюршество Майнцское!
Кончиком скипетра он слегка постукивает по кувшину.
Затем одним решительным ударом разбивает его на куски. Вода разливается по столу.
– «Господь Бог твой, который среди тебя». Да или нет?
Бургомистр спешит с ответом:
– Да! Да!
– Нет, ты должен сказать мне, кто я, кто я!
Облаченный в кафтан из парчи, вероятно скроенный из занавесок или обоев дома фон Бурена, Книппердоллинг нервно теребит бороду. Живот, весьма внушительный какое-то время назад, теперь обвис и опал вместе со вторым подбородком. Черный хохолок безвольно свалился набок, как ухо легавой. Потухший взгляд побитой собаки. Он пытается блеснуть ответом:
– Исайя?
– Не-е-е-е-е-т!
Он нервничает. Взбирается на стол:
– Пальк! За Гельвецию и Утрехт!
Он набрасывается на голову поросенка и ввязывается в безнадежную борьбу, сопровождаемую внушительным ревом и криками, пока не раздирает ее пополам. Отбрасывая прочь клочья, он резко оборачивается:
– Кто я, кто я?
Дьякон заметно пьян, он начинает раскачиваться на своем месте и вынужден прилечь на стол. На лице играет довольная улыбка.
– Да, да, простой вопрос: Симеон!
– Неверный ответ, тупица!
Он хватает ребро свиньи и запускает им в Палька. Глубоко вздыхает и обращается к Ротманну, почти незаметному в конце стола.
– Бернард…
Старое изнуренное тело облачено в грязную одежду, на лице печать смерти, крошечные глазки. Кажется, прошли годы с тех пор, как обаятельный проповедник знакомил последователей Матиса с положением дел в Мюнстере, и с тех пор, как монастырь Убервассер опустел от его слов.
– Михей, Моисей и Самсон.
Царь аплодирует, его примеру моментально следуют все остальные.
– Хорошо, хорошо. А теперь, Дивара, царица моя, сыграй Саломею. Давай, давай, Саломея! Музыку, музыку!
Дивара запрыгивает на стол и начинает вращаться и извиваться под звуки лютни и флейты. Платье соскальзывает с ее плеч, ноги обнажены. Она рассекает воздух волосами и сжимает руки над головой, изогнув спину.
Танец Саломеи, стремящейся заполучить голову Иоанна.
Яна Бокельсона, портняжки и сводника из Лейдена, комедианта, апостола Матиса, мюнстерского пророка и царя.
Яна и всех остальных.
Гора трупов. Она это знает.
Я смотрю на танцующую смерть, выбирающую одного за другим, пока не решаюсь выйти из тени, дав ей возможность заметить и меня.
Она останавливается, совершенно неожиданно, словно первая увидела призрак. Сидящие за столом, окаменевшие и разглядывавшие меня с открытыми ртами, возвращаются к жизни, на миг увидев себя моими глазами: одряхлевшие и слабые, безумные, омерзительнейшие калеки и уродцы.
И снова она дарит мне мимолетную улыбку, словно нас лишь двое.
Забери их прочь, их всех.