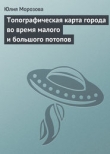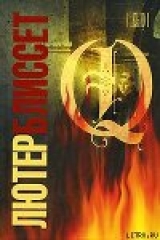
Текст книги "Q"
Автор книги: Лютер Блиссет
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 47 страниц)
ГЛАВА 40
Венеция, 2 ноября 1551 года
Парнишка прекрасно знает, что он должен сделать. Парнишке десять лет. Как только прозвонит колокол, он должен доставить в палаццо записку с условным знаком – оттиском змеи, обвившейся вокруг лезвия меча. В записке говорится:
«Немец в Венеции. Место и время те же».
Парнишка знает, он должен настаивать, чтобы его превосходительство принял его немедленно, иначе его выпорют. Он будет всхлипывать: господин, который послал его, сказал, что это срочно, что иначе «и у меня и у тебя» будут неприятности.
Парнишка с золотистыми локонами до плеч, зубами белыми как первый снег, хитрая бестия: он настаивает, плачет, отдает то, что должен был передать, и вот его уже и след простыл.
Место – церковь Сан Джованни за Турецким Фондако.
Человек без лица пунктуален. Как и было условлено, он садится в исповедальне и ждет.
С другой стороны решетки плешивый коротышка начинает исповедоваться, рассказывая свою историю.
Он говорит о своей грешной жизни, о том, как редко посещал мессы, о том, сколько лет не был на исповеди. Но церкви ему нравятся, они навевают ощущение умиротворения, и в особенности эта. Она такая крохотная, такая удаленная от городской суеты, что ему хочется облегчить свою совесть.
Человек без лица ругается про себя. Он ждал совсем не эту педантичную шавку с тосканским акцентом.
Он молча сидит, ожидая, пока тот окончит.
Голос квакает о том, как его обладатель не смог преодолеть искушения перед азартными играми. О том, какой это тяжкий камень для души – выиграть громадные деньги, и о необходимости использовать их на благие дела.
Что-то с трудом проскальзывает под решеткой, сверкает в свете, струящемся сквозь полог, балансирует на краю и, наконец, словно совершив невероятное усилие, отскакивает ему в ладонь.
Человеку без лица не по себе.
Обладатель голоса рассыпается в благодарностях, ему действительно нужно было избавиться от этой тяжкой ноши, но, по счастью, всегда найдутся такие святые люди, расположенные тебя выслушать. Наконец голос затихает. Его последние слова напоминают о том, что рано или поздно всем нам предстоит явиться перед лицом Всевышнего.
Исповедальня пуста.
Человек без лица вскакивает на ноги. Выходит в неф – никого.
Он раскрывает ладонь, сжимающую монету. Надписи выгравированы на ней с обеих сторон: ему приходится поднести ее к глазам, чтобы разобрать их. Они сделаны на его языке.
«ОДИН ГОСПОДЬ, ОДНА ВЕРА, ОДНО КРЕЩЕНИЕ.
ИСТИННЫЙ ЦАРЬ НАД ВСЕМИ ЛЮДЬМИ.
СЛОВО СТАЛО ПЛОТЬЮ.
МЮНСТЕР. 1534»
Человек без лица вырывается из церкви.
Яркий свет ослепляет его. Он останавливается. От коротышки не осталось и следа.
Царство Сиона. Мюнстер. Венеция.
Между ними – океан времени, заполненный тайной.
Немец… Носящий имя мертвеца.
Призрак, доставивший сюда эту монету.
Затем все происходит слишком быстро, слишком неожиданно, под ясным небом, отражающимся в брусчатке мостовой.
Крохотная площадь неожиданно оживает, даже в воздухе ощущается какое-то необычное возбуждение. Молодые здоровяки с искаженными гримасами ярости лицами, словно безумные, выбегают с противоположных сторон: камзолы Николотти против камзолов Кастеллани. Первые оскорбления, ругательства, несколько ударов, в воздухе уже мелькают палки, затем клубок из переплетенных между собой тел сошедших с ума людей заполняет всю сцену.
Человек без лица, ошеломленный, спиной к стене пытается выбраться через узенький переулок, идущий вдоль церкви Сан Джованни.
Рядом с ним, словно из-под земли, возникает гигантское создание, подталкивающее его в этом направлении. Человек без лица отступает, потрясенный невероятным зрелищем – женщина, высотой метра в два, в шляпе, перегораживающей весь переулок, над которой возвышается высоченная прическа Медузы Горгоны, с белым лицом и глазами подведенными ярко-синим. Окрашенные кармином соски направлены прямо ему в лицо. Высоченные цоколи… Она выступает на них, как на ходулях, и смеется.
Человек без лица больше не верит собственным глазам. Он разворачивается и пытается ускорить шаг в постоянно сужающемся переулке.
В конце его ждет парнишка. Он изо всех сил машет ему рукой: идите же, господин, идите сюда.
Парнишке десять лет, и он знает, что ему делать.
Человеку без лица не остается ничего иного, как направиться к этому сияющему водопаду золотистых кудрей. Когда он видит открывающуюся справа дверь, ведущую во тьму, возвращаться уже поздно. Прямо ему в мошонку упирается нож, который этот парнишка держит твердой рукой.
Человек без лица больше не верит своим глазам.
Его передают брату-сефарду: лезвие кинжала теперь упирается ему в горло. У этого мужчины тонкие и правильные черты лица, на котором играет какое-то подобие улыбки. Дверь закрывается у него за спиной. Человек без лица спускается по узкой лестнице в направлении слабого света факела. Он ощущает прогорклый запах плесени, сырость пробирает его до костей.
Верный друг сефарда накидывает ему на голову капюшон и завязывает руки за спиной. Никто не произносит ни слова.
Его усаживают на неустойчивую скамейку.
Человек без лица больше ничего не видит, он утрачивает чувство времени. Брат-сефард говорит, что ему надо подождать, объяснения обязательно последуют – но в надлежащий момент, никак не раньше. Затем вновь повисает молчание.
Целую вечность спустя раздаются три удара в дальнем конце подвала. Брат-сефард и его друг берут его под руки, поднимают и волокут куда-то по узкому проходу. Человек без лица не оказывает никакого сопротивления: ноги больше не слушаются его. Он чувствует покачивание лодки на воде. Его грузят в лодку.
Горбун опускает шест в воду и направляет лодку в окутанный тьмой лабиринт каналов.
Человеку в капюшоне неизвестно, какая участь его ожидает.
Сефарда ждут в убежище, особняке, выходящем на Сакка-делла-Мизерикордиа. Человека в капюшоне высаживают из лодки и сопровождают в дом. Быстрые спуски и подъемы по лестницам, и его усаживают в удобное кресло.
Сефард сидит напротив. Человек в капюшоне чувствует аромат сигары и видит слабый свет.
У сефарда – изысканные манеры, он умеет ясно излагать свои мысли. Он говорит, что досадное положение пленника сделает всякого, даже самого сильного из мужчин, неспособным предсказать свое ближайшее будущее. Если же в подобное положение попадает тот, кто привык распоряжаться судьбами других, нетрудно представить, насколько это ему неприятно. В любом случае, кое-какая информация, которая поможет объяснить происходящее, без сомнения, немного облегчит камень у него на сердце.
Сефард говорит, что в Венеции необходимо соблюдать особую осторожность в выборе доносчиков. Что здесь, в Венеции, профессия доносчиков, возможно, самая распространенная после проституции, можно даже сказать, что она практически ничем не отличается от последней. В Венеции доносчики быстро меняют хозяев. Впрочем, шпиону нужны лишь приличный заработок и гарантии собственной безопасности; любой, кто предложит ему их, вправе пользоваться его услугами. Так что, вполне возможно, все теперешние неудобства являются лишь следствием скудной оплаты, предложенной инквизиторами, или же чрезмерной щедрости их врагов. И самое смешное во всем этом, что столь щедрая компенсация затрат за труды была предложена теми, кого постоянно обвиняют в скаредности и в жадности.
Человек в капюшоне слышит, как его собеседник расхаживает по кругу.
Несколько мгновений спустя голос раздается вновь. Он говорит, что доверяться непроверенным доносчикам, без сомнения, – беспечность, но и не только это. Еще большая глупость – не оставлять своим врагам путей к отступлению. Накидывать аркан на шею целой общины, обещая ее членам в ближайшем будущем лишь смерть и страдания, – это обязательно должно было вызвать самую непредсказуемую реакцию. Войны бывают не только религиозными, война – еще и изысканное искусство дипломатии, которое из нее вытекает. А уж в этом искусстве, к своему великому сожалению, евреи были вынуждены преуспеть. Если тебя окружают, тебе приходится вырабатывать стратегию выживания, перед лицом смерти приходится бороться.
Сефард заявляет, что им еще о многом предстоит поговорить, например, об этом турке, который бахвалится, что получает от них деньги за то, что шпионит в пользу султана. Но всему свое время. Потому что вначале, после нескольких часов отдыха, его ожидает новое путешествие.
Человека в капюшоне укладывают на жесткую кровать, и он проваливается в беспокойный сон.
ГЛАВА 41
Венеция, 3 ноября 1551 года
Холодные лучи рассвета.
Я пристально изучаю невысокие пенистые волны лагуны, которые должны принести мне Поражение. Поставить меня перед его лицом.
Остров Сан-Микеле. Церковь, ограда, кладбище.
Дело всей жизни сконцентрировано всего в нескольких днях. Разыгрывается последняя партия, и никто не может предугадать ее исхода.
Любая потеря темпа может стать фатальной. Старого баптиста, зайца-еретика, Тициана, наконец-то выследили. Его охотник – в Венеции. Евреи угодили в капкан, из которого одна дорога – на эшафот.
Десятилетия интриг и наступлений, предательств и поражений, терзаний, страхов и мучений уничтожаются одним ударом. Пророки и царь на один роковой день; кардиналы и папы, и новые папы; банкиры, князья, торговцы и предсказатели; интеллектуалы, художники, и шпионы, и советники, и сводники. Повсюду, но для всех – одна война. Они, и я среди них, были самыми счастливыми. Они воспользовались привилегией – сражаться в ней. Оборванцы или благородные, ублюдки или герои, бесчестные шпионы или защитники униженных, грязные наемники или пророки нового времени, они, объятые верой, сами выбирали поле боя, заставляли разгораться костры надежд и тщеславия. И на этом поле они встречали того, кто кромсал их тела, разрубая на куски; находили веру, предававшую их в последний момент; пламя, становившееся костром, на котором они горят сегодня. Они сами были виновны в превратностях собственной судьбы, как и в неизбежности собственной гибели. День за днем они наполняли чашу ядом, который в конце концов убьет их.
И все же мы должны просить прощения за слишком благосклонную к нам судьбу. Разработать последний план. Попытать счастья в этом финальном безумном выходе на сцену.
Ждать осталось не долго. Слабый свет рассвета начинает очерчивать надгробия и белые кресты, выстроившиеся боевыми рядами и тянущиеся к воде.
Колокольня Сан Микеле нависает над плоским островом, вытянувшись к звездам, которые гаснут одна за другой. Ветер с моря горбатит мой шерстяной плащ, забравшись под него. Крайняя усталость ощущается во всем теле и в пульсирующей боли под правым глазом. Мое внимание приковано к каждой мелочи, малейшей детали – мне просто необходим перерыв после всех бесконечных бессонных ночей, проведенных бок о бок с Жуаном, когда мы планировали эту операцию в мельчайших подробностях. Вдали возвращаются лодки рыбаков, старающиеся держаться открытого моря, подальше от отмелей, которые образуются во время отлива. Первые чайки поднимаются в воздух или садятся на холодную воду.
Мне, наверное, следовало испытывать напряжение, возбуждение. Вместо этого я чувствую лишь усталость, ревматические боли и даже какую-то нерешительность. Возможно, в глубине души я даже не хотел узнать это. Я бы лучше сохранил подозрение, существовавшее у меня все эти годы. Перевернул бы страницу и начал бы не столь беспокойную историю, состоящую из мягких постелей и встреч с любимыми людьми. Уполз бы подальше от поля боя и наконец-то отдохнул.
Но мертвые вернутся, чтобы спросить с меня. Все эти лица, настаивающие, чтобы их помнили, и повторяющие, что последний оставшийся в строю должен свести счеты. Выяснить правду. Возможно, я должен сделать это в большей степени для них, чем для себя, для тех, кто остался на поле боя, для пророков, обманутых собственными пророчествами, для крестьян, использовавших мотыги вместо мечей, для ткачей, ставших солдатами, чтобы лишить власти князей и епископов, для товарищей всей моей жизни. Я должен сделать это и ради евреев, необычного народа, пилигримов без цели, с которыми мне выпало пройти последний участок пути.
Или нет. Иногда я думаю, что все это лишь иллюзия, помогавшая мне продолжать идти, отыскивать новые дороги, не останавливаться, чтобы признать, что больше всего меня предали годы.
Или, быть может, это и то и другое вместе. Я больше не придаю вещам такого значения, как прежде. Хотя и надо бы. Теперь, когда я вот-вот должен получить подтверждение тому, что я так долго пытался выяснить, теперь, когда история может подойти к своему логическому завершению. А я почти не хочу этого. Потому что я знаю, что почти наверняка разочаруюсь. Разочаруюсь оттого, что достиг конца, разочаруюсь, узнав человека, тридцать лет продававшего нас врагу. Это абсурдно, глупо, но больше всего я хочу попросить его вспомнить прошлое, вновь заставить появиться передо мной все эти лица. Он единственный, кто действительно знает мою историю, кто еще может рассказать мне о той прежней страсти, о той надежде. Глупое и банальное желание старика. Ничего больше. Или, возможно, лишь усталость тянет меня назад, старый сон, затуманивший разум.
На горизонте появляется лодка, направляющаяся прямо к острову.
Что ж, пришло время покончить со всем этим.
Горбун пришвартовывает барку к крошечному мостику. Человеку в капюшоне помогают сойти на берег. Сефард развязывает ему руки и снимает капюшон. Потом возвращается обратно и вновь садится в лодку.
Старик трет запястья, часто мигая покрасневшими глазами. На его лице лежит печать измождения, седые волосы спутаны. Он поднимает руку ко лбу и растирает глубокий шрам, потом поднимает взгляд на меня.
Я пытаюсь соскрести годы с его лица.
Коэле.
Он заговаривает первым:
– Операция, достойная Капитана Герта из Колодца.
– Когда ты понял это?
Ладонь массирует старую рану.
– Я возвращался в Мюнстер. – Он кашляет, плотнее заворачиваясь в темный плащ. – Я искал тебя много лет, а в конце концов именно ты нашел меня.
– Но ты меня уже вычислил.
– Это было не слишком сложно: Тициан Креститель, сводник с именем еретика. Антверпен, выжившие в Мюнстере… Три дня назад я получил последнее подтверждение. Прекрасно сооруженная западня. Только ты мог подготовить ее.
– Мне рассказывали, что ты погиб в Мюнстере, пытаясь прорвать блокаду епископа.
Он прислоняется к одному из надгробий: руки на коленях, взгляд устремлен в землю. И он, как и я сам, уже слишком стар для таких холодных рассветов. К тому же теперь у него не осталось причин не вспоминать о прошлом.
– Ты ушел от нас весной тридцать четвертого искать деньги и амуницию в Голландию. Ты оказал мне услугу: мне бы очень не хотелось видеть, как и тебя бы увлекло в бездну, которую я собирался разверзнуть. Я прибыл в Мюнстер с заданием: присоединиться к анабаптистам в их борьбе с епископом, стать одним из них со всеми вытекающими последствиями, помочь им превратить город в Новый Иерусалим и в подходящий момент заставить их надежды развеяться как дым. Я представился Бернарду Ротманну, внеся солидное пожертвование на благо общего дела, и рассказал, что я наемник, не бывший в Мюнстере много лет. Если он и не поверил в мою историю, деньги сделали свое дело.
Я смотрю на этого сгорбившегося старика, с трудом узнавая в нем человека, которому я доверял охрану рыночной площади в те дни, когда мы брали Мюнстер. Это лишь осколок, оставшийся от моего лейтенанта, Генриха Гресбека.
Он продолжает:
– Я связался с тобой, потому что мне рассказали, ты сражался с Томасом Мюнцером: ты был единственным, которого приходилось брать в расчет. Приход Матиса, его скорая кончина и избрание Бокельсона его преемником намного облегчили мою работу. Нужно было только, чтобы ты тоже ушел. Я стал доверенным лицом Бернарда Ротманна, превратившегося в простую тень пылкого проповедника, поднимавшего анабаптистов против епископа. Мне пришлось вспомнить лекции Виттенберга, когда я проводил с ним дни и ночи в дискуссиях о порядках Нового Сиона, об обычаях библейских патриархов, чтобы помочь его больному разуму породить фатальное безумие.
Это оказалось не слишком сложно: вскоре после того как Бокельсон провозгласил себя новым Давидом, царем Сиона, по предложению придворного теолога Ротманна, он ввел полигамию, чтобы восстановить обычаи отцов. Это и стало концом. Не помню, сколько женщин было казнено из-за отказа подчиниться новым порядкам. Об этих месяцах у меня сохранились самые смутные воспоминания, как о дурном сне. Голод… Дома, где устраивали обыски, чтобы отыскать последнюю горбушку хлеба… Дети-судьи с печатью смерти в глазах, которые могли показать на любого неугодного, прямо на улице. Бледные, истощенные призраки горожан, почти бессознательно тащившиеся через весь город. Я мог бы уйти уже тогда, и конец наступил бы сам по себе. Но вместо этого, словно по какому-то волшебству, я почувствовал, что последний акт милосердия могу совершить только я. Именно я был обязан положить конец агонии.
Он выпрямляет спину с таким трудом, словно на его плечах лежит тяжелейший груз. Взгляд сфокусирован на какой-то точке в лагуне.
– Я прыгал по стенам, преодолел полмили, отделявшие город от линии фронта епископа, рисковал получить пулю, мок во рву и проторчал там с час, уверенный, что, подняв голову, превращусь в прекрасную мишень для наемников фон Вальдека. Меня схватили, и я избежал смерти, лишь слепив из глины модель крепостных стен и указав, где их можно штурмовать. Этого оказалось недостаточно: мне пришлось доказать справедливость своих слов, взобравшись ночью на стены и вернувшись невредимым. Помнишь? Ты же сам поручил мне проверку оборонительных сооружений. Я изучал их пядь за пядью. Только я мог сделать это. Совершить этот благородный жест пришлось мне.
Он снова скрючивается под тяжестью собственного веса.
Я протягиваю ему пожелтевшие страницы, рассыпающиеся между пальцев. Он читает, отодвинув листы от глаз на большое расстояние и сильно прищурившись.
– И ты хранил их все это время… – Он отдает мне обратно письма, написанные Томасу Мюнцеру двадцать лет назад.
– Ты уже тогда служил Караффе?
– Я был лишь одним из камешков мозаики, собиравшейся в течение многих десятилетий. Когда меня завербовали, я был всего лишь скромным помощником библиотекаря в Виттенбергском университете. Мне поставили задачу – не спускать глаз с Лютера. Тогда очень немногие люди понимали, как может разбушеваться этот тупой и никчемный монах-августинец. Караффа первым взял в расчет, что немецкие князья смогут использовать его как таран для штурма ворот Рима и для наказания спесивого отпрыска, которому Фуггер купил императорскую корону. В столь сложной ситуации передо мной поставили задачу – возбудить у злейшего врага Лютера, Томаса Мюнцера, желание разжечь пламя крестьянского восстания против князей и отступника, ставшего их придворным. Когда восстание распространилось на всю Германию, Рим выиграл время, и Караффа попытался убедить кардиналов в том, насколько опасен Лютер. Но затем ситуация изменилась. Мальчишка-император оказался более амбициозным, чем ожидалось: его положение паладина католицизма на территории, простирающейся от Испании до Богемии, сделало его в глазах Рима значительно более опасным, нежели мелкие германские княжества. С этого момента защитники Лютера превратились в потенциальных союзников против императора. В то же время и восставшие крестьяне уже внушали страх. С крестьянской войной надо было покончить. Эти письма послужили хорошей смазкой для всего механизма. Они стали моим вкладом в эту битву, способствовав моему продвижению по службе.
Постаревший Гресбек переводит дыхание, снова кашляет и смотрит на меня. На его лице появляется ухмылка.
– После взятия Рима в двадцать седьмом Караффа извлек из собственной способности к предвидению все возможные преимущества, теперь никто не осмеливался возражать ему, он с самого начала был прав: лютеране – пропащие люди, которых совершенно не испугало отлучение и которые разграбили папскую резиденцию. Он начал понемногу сосредоточивать в своих руках власть, поднимаясь все выше и выше в церковной иерархии и используя все новые и новые меры предосторожности.
Эти слова вылетают у меня сами собой:
– Сеть собственных шпионов в каждой стране.
Он кивает:
– Ему всегда удавалось получить информацию раньше всех остальных благодаря множеству наблюдателей, которых он держал во всех важнейших местах. Повсюду, где происходило что-то более-менее значимое, можно смело биться об заклад, у старика был свой человек.
Я прерываю его:
– Зачем он приказал тебе покончить с анабаптистами Мюнстера? Какое отношение они имели к Риму?
– Рим повсюду, Герт. В вас постоянно живет бунтарский дух, отказ подчиняться стоящим у власти. Лютер проповедовал безусловное повиновение. Вполне достаточно: с правителями всегда можно договориться. Но не с вами, вы постоянно стремитесь сбросить их иго, проповедуя свободу и неподчинение, а Караффа просто не мог позволить подобным идеям распространяться и впредь. Благодаря моим детальнейшим отчетам он понял, какую силу представляют организованные массы, увидел, что может натворить даже один-единственный Проповедник, такой как Томас Мюнцер. Анабаптистов надо было уничтожить до того, как они превратились в серьезную угрозу.
– В конце тридцатых Караффа отозвал всех своих шпионов. Монастырь театинцев стал местом вашего сбора.
Он заметно удивлен:
– А ты действительно молодец. – Дрожь сотрясает его плечи, но он продолжает говорить: – Мы были нужны в Италии. Караффа вот-вот должен был заставить папу одобрить его проект воссоздания «Святой службы». Мотивы были самыми благородными: противодействовать распространению ереси новыми средствами. В действительности же старик собирался использовать все эти средства для борьбы со своими внутренними врагами в Риме. Ставка на кону была высочайшей.
– Святой престол.
Дрожь пробирает и меня.
– И устранение всех его соперников. Англичанин Пол задал ему хлопот, оказавшись по-своему крепким орешком, но Караффа великолепно разыграл карты, которые были у него на руках. И переиграл его. Мы висели на волоске, но нам это удалось.
– «Благодеяние Христа».
– Вот именно. Я курировал эту операцию с самого начала. По крайней мере, до того, как вновь не понадобился Караффе. Мы с самых первых дней знали, что за Фонтанини с его книжонкой стоит кружок Пола и его друзей. Мы понимали, что кардиналы-спиритуалисты прочитают эту книжонку и будут использовать ее в своей деятельности для сближения с лютеранами. Если бы им это удалось, Карл V объединил бы под своими знаменами весь христианский мир в крестовом походе против Оттоманской империи, и ныне у него не было бы иных врагов. Но Пол не стал папой, и сегодня спиритуалисты падают один за другим под ударами инквизиции. И на этот раз старому театинцу удалось всех обхитрить: он направил против врага его собственное оружие.
Солнце встало над лагуной: кроваво-красный диск разливает по воде свой свет. Мысли беспорядочно теснятся в моем разуме, прорываясь наружу, но я должен заставить себя сдержаться. Я должен помнить – время слишком ценно.
– Что общего имеют со всем этим евреи? Караффа заключил с венецианцами договор, так?
Снова кивок в знак согласия, его глаза впадают все глубже и все больше щурятся от усталости.
– Евреи – это разменная монета. От их уничтожения выиграют все: если маранов признают виновными в тайном исповедании иудаизма, венецианцы смогут конфисковать их имущество. Караффе преподнесут их на серебряном блюдечке, а взамен он водрузит в Венеции стяг инквизиции, провернув столь грандиозную операцию в стране, повсеместно известной своей независимостью от Рима. Очень немногих властелинов в Европе не бросит в холодный пот, когда они узнают подобную новость. Ты снова играешь не на той стороне, Капитан.
Тишина, только ленивый плеск прибоя и крики чаек.
– И в этом и заключалась твоя миссия? Уничтожить евреев?
Тень омрачает его взгляд, словно он говорит через силу, его голос – едва различимое бормотание:
– За этим я и был послан в Венецию.
Усталость завладела всем моим телом, от раскалывающей голову боли она кажется еще сильнее: я прижимаю пальцы к вискам и тоже вынужден прислониться к надгробию, чтобы удержаться на ногах.
Генрих Гресбек изучает горизонт, затем оборачивается и смотрит на меня – годы не пощадили и его, эта бессонная ночь оказалась слишком длинной для нас обоих.
– И какой же будет награда на этот раз?
Он улыбается:
– Быстрый конец, возможно.
– И это награда самому верному слуге?
Он пожимает плечами:
– Только я знаю всю историю с самого начала: Караффа не может рисковать, по-прежнему оставляя меня в обращении. Не сейчас, когда он готовится окончательно взять всю власть в свои руки.
Мой взгляд скользит по надгробиям. На каждом из них я мог бы прочесть имя товарища, мог бы вновь пройти все повороты пути, приведшего меня сюда. Но я не испытываю ненависти. У меня больше не осталось сил кого-то презирать. Я смотрю на Генриха Гресбека и вижу только старика.