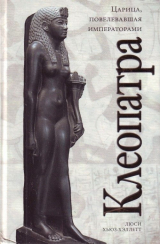
Текст книги "Клеопатра"
Автор книги: Люси Хьюз-Хэллетт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц)
Он начал работу над «Энеидой» вскоре после смерти Клеопатры и умер спустя одиннадцать лет, оставив поэму неоконченной, но толки и шум вокруг неё росли и ширились. Сюжет её был хорошо известен, и отказы Горация и Проперция объяснялись отчасти тем, что они не хотели создавать эпический аналог недавних исторических событий. Это сделал Вергилий и сам объявил в своих «Георгиках» о том, что намерен «изобразить морское сражение». Первая великая латинская эпическая поэма должна была быть посвящена победе Октавия в битве при Акции. Так сказал автор, и ему поверили. Великодушный Проперций, заранее отдавая первенство творению своего собрата по перу, набросал сходный план: «Пусть Вергилий расскажет о берегах Акция, оберегаемых Фебом, и о кораблях Цезаря... Посторонитесь, поэты римские, и вы, греки! Ныне рождается нечто ещё более великое, чем «Илиада» Гомерова».
И римляне были, должно быть, сильно удивлены, когда достоянием «читающей публики» в 19 году до н. э. стал полный, хотя и не выправленный автором черновой вариант «Энеиды». Удивлены, потому что поэма содержала лишь несколько беглых (хотя и лестных) упоминаний об Октавии, а битва при Акции описывалась как одна из многих сцен, изображённых на щите героя. Тем не менее в определённом смысле Вергилий сделал именно то, чего от него ожидали. Римское общество эпохи Августа получило свою мифологию, позволившую самоопределиться и возвыситься в собственных глазах, – и сделано это было по контрасту с тем, что воплощала в себе Клеопатра (опять же, на взгляд римлян). Верность семье и стране, преданность долгу, послушание, самоотречение – вот идеалы и ценности, которым присягает Эней. Преданность этим идеалам делает его достойным отцом Рима. И проявляются они ярче всего в том эпизоде, где Эней преодолевает искушение и отвергает любовь африканской царицы Дидоны.
После падения Трои Эней с небольшим отрядом беглецов много лет скитается по морям. Шторм прибивает корабль к африканскому побережью, где им оказывает гостеприимство царица Карфагена Дидона. Она вдова, она благородна и красива, но мать Энея, богиня Венера, с помощью крылатого Купидона воспламеняет в её сердце любовь к Энею.
С самого начала ясно, что любовь – это проклятие. Дидона, жертва своей страсти, бродит по городу, где она распоряжалась строительными работами и следила за благопристойностью и порядком. Ныне же царица неразумна и рассеянна, как раненая самка оленя. Вместе с нею приходит в запустение и упадок и её государство. Пламенная любовь препятствует созиданию. Карфаген, в котором недавно кипела жизнь, замирает. Во время охоты Дидона и Эней укрываются от дождя в пещере и становятся любовниками. Этот день – первый предвестник скорби и смерти. Всю зиму, позабыв о царстве, они пребывают в «плену сладострастия», о чём судачат карфагеняне. Зло и пагуба, порождённые их страстью, распространяются, нарушая равновесие всего сообщества, сея рознь и вражду: весть о «романе» Дидоны с чужеземным царевичем распространяется по всему северу Африки, и цари сопредельных стран начинают подумывать о войне.
Юпитер, недовольный тем, как Эней, которому на роду написано «стать правителем Италии, основателем могущественной империи, оружейником войны, родить сыновей и привести целый свет под власть закона», пренебрегает своим долгом и сходит со своей стези, посылает к нему Меркурия. Божественный вестник обнаруживает, что тот проводит время в недостойных забавах и развлечениях, стал «ручным мужем» и постыдно покорствует чужеземной женщине – всё это из-за опасной силы любви.
Так упрекал его бог: «Ты сейчас в Карфагене высоком
Зданий опоры кладёшь, возводишь город прекрасный?
Женщины раб, ты забыл о царстве и подвигах громких?..»
Меркурий призывает его вспомнить о своём сыне, если уж Эней не думает о своей чести, ибо великая будущность наследника будет погублена. Наконец в Энее просыпается стыд, и теперь он горит желанием поскорее покинуть Карфаген.
Он приказывает своим спутникам готовиться к немедленному отплытию. Дидона молит его остаться, осыпает упрёками и бранью. Эней проникается к ней жалостью, но решимость его остаётся непреклонной. Он отвечает царице с холодной учтивостью, что не является её законным супругом и обязан исполнять свой долг не перед ней, а по отношению к своему отцу, своему сыну и предначертанному богами уделу основать Рим. «Там и любовь, и отечество там!» И, скованный долгом, он приказывает ставить паруса. На закате Дидона видит, как его корабли покидают Карфаген. Вне себя она проклинает своего былого возлюбленного и молится, чтобы между Карфагеном и Римом отныне не стихала вечная вражда и шла война, жестокая и разрушительная. Затем – глаза её налиты кровью, сердце бешено колотится, щёки пылают, – она выбегает во внутренний двор, всходит на погребальный костёр, сложенный по её приказу, и закалывается мечом Энея.
Поэма Вергилия – это история Дидоны и Энея, история римского героя, соблазнённого африканской царицей, которой всё же не удаётся сделать так, чтобы он, опозорив себя и предав Рим, забыл своё происхождение, предназначение и долг, остался с нею навсегда, невольно наводила читателя на аналогии. Никто не мог отделаться от мыслей о Клеопатре, о Юлии Цезаре, который тоже был «скован цепями долга» и, подобно Энею, вернулся из Африки в Рим, и об Антонии, в котором чувство возобладало.
Дидона любит. Её любовь – это напасть, от которой сам Эней свободен, хотя он вовсе не бесчувствен: её упрёки мучительны для него, её мольбы раздирают ему сердце. Но Эней знает, что любовь – это несерьёзное дело, это не то, чему следует посвятить жизнь, где не должно быть места личным чувствам. Эней исполняет свой долг перед своим отцом и перед своим сыном, ибо на получении и передаче от отца к сыну – по прямой мужской линии – имени и собственности стоит государство. Будь Дидона его законной женой, он бы, наверное, так же ревностно выполнял свой долг и по отношению к ней, поскольку это входит в обязанности уважающего себя мужчины – защищать хозяйку своего дома, почитать мать своего сына. Однако внебрачные связи – это всего лишь мимолётные развлечения на досуге, отдых от трудов. «Частные», личные чувства, заставляющие индивидуума чего-то искать и добиваться для себя самого, причём это «что-то» не обязательно послужит на благо большей социальной группы, следует сурово осуждать и подавлять.
Именно этот закон преступили, как казалось римлянам, Антоний и Клеопатра. Когда Плутарх описывает, как Антоний, в нетерпеливом ожидании Клеопатры, вскакивает из-за стола и подбегает к берегу посмотреть, «не белеет ли ветрило», читателям, воспитанным на примере непреклонного Энея, его поведение казалось в лучшем случае недостойным, а в худшем – просто позорным.
Впрочем, фактические и эмоциональные аспекты этого анекдота, как и многих других, составляющих «легенду Клеопатры», могут быть поставлены под сомнение. Из Парфянского царства на левантийский берег Антоний привёл усталую и деморализованную армию. Клеопатра должна была привезти продовольствие и деньги для выплаты жалованья солдатам, которые в противном случае могли бы взбунтоваться. Так что вполне вероятно, что его нетерпение объясняется не только пылом стосковавшегося любовника.
Мы вправе оспорить и те допущения, благодаря которым строится некая «мораль» этой истории и та система ценностей, где Антоний предстаёт жаждущим, а Клеопатра – безнравственной. Он пробыл в походе восемь месяцев, он видел гибель тысяч своих солдат и сам многократно рисковал жизнью. Что же такого в том, что, оказавшись в относительной безопасности, он обратил свои помыслы к своей возлюбленной и другу, к утончённой и умной женщине, которая родила ему двоих близнецов и которую он, так надолго отправляясь на войну, оставил беременной, к женщине, которая была единственной из всех сподвижников, кто, подобно ему, знала, как тяжко бремя власти? Предположим, что он тосковал по ней. Предположим, что прибытие её откладывалось со дня на день и ожидание делалось столь нестерпимым, что он вскакивал из-за стола и вглядывался в горизонт. Что уж в этом поведении такого нелепого и заслуживающего осуждения? И должны ли мы признать, что судьба, уготованная Юпитером Энею, – воевать, править и пестовать своего сына – исчерпывает до конца и охватывает целиком весь спектр человеческих возможностей? И всегда ли индивидуальное чувство должно быть подчинено жёстким требованиям патриархального, националистического государства? И разве сексуальность нужна для того лишь, чтобы не пресеклась династия? И неужели Дидона всегда обречена на разлуку и смерть?
На все эти вопросы Октавий ответил бы утвердительно. По крайней мере так нам внушают. Так описывает Дион Кассий его визит к Клеопатре после гибели Антония: «Взоры, которые она устремляла на него, речи, которые она обращала к нему, были нежны. Октавий не остался к ним бесчувственным, но не позволил себе увлечься ими и во всё время разговора смотрел, не поднимая головы, себе под ноги». Вот так, подобно Энею и не в пример Антонию, он поборол искушение, которое могло бы помешать ему исполнить свой долг и получить за это заслуженную награду – власть над Римом. Как и Дидона, Клеопатра, по октавианской версии, воплощает всё то, что мужчина, желающий быть истинно великим и истинно мужественным, должен отринуть.
Как и всякое персонифицированное искушение, достойное называться этим именем, Клеопатра – та, кого следует сторониться, – совершенно неотразима. Она сексуальна, женственна, экзотична, свободна от всех запретов, ослепительно красива. Словом, это – воплощённая Женщина. «С одной стороны, – писал психоаналитик Жак Лакан, – женщина становится (или её делают) именно тем, чем не является мужчина; это – сексуальные различия; с другой стороны, как то, от чего он должен отрекаться, она – объект наслаждения». Октавий и его присные разрабатывали именно «инакость» Клеопатры – её половые, этнические, культурные, моральные отличия от идеального римского мужчины. И, поступая таким образом, они волей-неволей делали из неё не только врага, но желанный всем объект вожделения. Подчёркивая, какую опасность представляет для мужчин эта сирена, они прославляли её привлекательность. Порицая её распутство, они неумышленно ассоциировали её с понятием «наслаждение», с невыразимыми словами удовольствиями и блаженством.
Октавий создал незабываемый образ. Память о вымышленной им Клеопатре – царице волшебной страны, соблазнительнице, не ведающей пресыщения, красавице, не знающей себе равных, – не меркла на протяжении столетий, затмевая своим блеском образ самого Августа. Живописуя её пороки, он надеялся ярче выделить собственные добродетели, но нашлось не много охотников подражать этому образцу доблести. Как и во всех подобных случаях, интерес вызывает не тот, кто упорно сопротивляется искушению, а именно то, от чего он отказывается. В поздний классический период и в эпоху раннего Средневековья из всего разнообразия составляющих её легенду историй особой любовью и вниманием пользовался один сюжет – его не только сохраняли, но и разрабатывали. Это её пиршество – воплощение запретной роскоши, которую Клеопатра олицетворяла. Почти через сто лет после её смерти первым в подробностях его описал Лукан в своей «Фарсалии» в той сцене, где царица Египта в своём Александрийском дворце даёт обед в честь Юлия Цезаря. Затем такие же воображаемые пиршества мы встречаем в разные периоды её жизни, но для Плутарха и Плиния, для историка III века Афинея и Сократа Родосского, на которого он ссылается, почётным гостем на этом фантастическом пиршестве становится уже Антоний. Меняется хронология, но суть самого «банкета» остаётся прежней. Он исполнен избыточной чувственности и направлен на соблазнение.
Пиршество – это древняя, но до сих пор не утратившая выразительности и силы метафора сексуального обольщения. Ухаживание и в наши дни начинается с приглашения пообедать. Любовники перед тем, как лечь в постель, садятся за стол. Символическая соотнесённость плотских радостей насыщения и обладания имеет давнюю традицию. Цирцея угощала Одиссея, Дидона – Энея. Клеопатра устраивала пиршества в честь Цезаря и Антония, демонстрируя им своё богатство, предлагая им яства и – себя. Одиссею и Энею удавалось ускользнуть от женщин, за чьими столами они сидели, удавалось с огромным трудом и лишь благодаря героической силе воли. Сумел сделать это и Цезарь. Антоний же потерпел поражение. По словам Плутарха, Клеопатра на Кидне пленила Антония тем, что устроила в его честь пир, а потом, когда он заглотнул наживку, увлекла его за собой в Александрию, где они «что ни день задавали друг другу пиры, проматывая совершенно баснословные деньги». Так Антоний делает первый шаг навстречу гибели. Подобно Персефоне, проглотившей гранатовое зёрнышко и обречённой проводить шесть месяцев в году в подземном царстве, подобно Адаму, съевшему яблоко и потерявшему рай, Антоний променял бесценные сокровища – свою личную независимость и своё великое будущее – на эфемерные плотские наслаждения.
Пир Клеопатры – это нечто большее, чем трапеза: это «дайджест» всех радостей земных. Античные авторы, первыми описавшие его, и средневековые хронисты, разрабатывавшие эту тему, ставят сцену в роскошных декорациях, украшают место действия множеством прекрасных и дорогих вещей. Лукан описывает пиршественный зал «огромным как храм» и подробно перечисляет все предметы его убранства. Стропила литого золота поддерживают украшенные драгоценными камнями потолки. Весь дворец выстроен из дорогих материалов – это агат, порфир, оникс, слоновая кость, яшма. Лукан, которого один из авторов современного предисловия к его сочинениям недаром называет «предтечей жёлтой прессы и костюмных фильмов», описывает всё это как профессиональный мастер интерьеров: «Двери были отделаны панцирями черепах, причём тёмные пятна заменены изумрудами... Стены были не облицованы мрамором, а сложены из мраморных плит, равно как и огромные дверные косяки целиком были сделаны из эбена, а не из обычного дерева, которое украшают эбеновым шпоном». Это – вакханалия богатства. Лукан продолжает описывать инкрустированную драгоценными камнями мебель, пурпурные скатерти, либо затканные золотом, либо с впряденными в них по египетскому обычаю ярко-алыми кошенилевыми нитями, многочисленных и пышно разряженных слуг, которые тоже «подобраны по цветам» и «в тон» меблировке и прочему убранству. «У одних волосы были чёрные как смоль, у других – такие золотые, каких Цезарь, по его словам, не видывал и на берегах Рейна; были среди них и негры, выделявшиеся чёрной кожей, покатыми лбами и курчавыми волосами».
Другие авторы не отстают. Плутарх добавляет к повествованию новые подробности, сообщённые ему дедом, друг которого бывал на кухне у Клеопатры: «Среди прочего изобилия он увидел восемь кабанов, которых жарили разом, и удивился многолюдству предстоящего пира. [Повар] засмеялся и ответил: «Гостей будет немного, человек двенадцать, но каждое блюдо надо подавать в тот миг, когда оно вкуснее всего, а пропустить этот миг проще простого. Готовится не один, а много обедов, потому что время никак не угадаешь».
Подобное безудержное гостеприимство расточительно, вызывающе, непристойно, и рассказы о нём, отлично соотносящиеся с обвинениями Октавия против Клеопатры, разрастаются и ветвятся, приобретая самые фантастические формы, ибо потомство просто заворожено ими. «Этой сумасбродной царице ничто не казалось чрезмерным, – пишет Иосиф Флавий. – Она была столь полно порабощена своим аппетитом, что целый мир не сумел бы удовлетворить выдуманные ею прихоти». Но и в неутолимости её желаний, пусть даже предосудительных, чувствуется некое величие. С течением времени «легенда Клеопатры» развивалась, и безграничная порочность царицы перешла в столь же неудержимую страсть к роскоши.
Антония, которого она развлекала на Кидне, пишет Плутарх, «более всего поразило обилие огней. Они сверкали и лили свой блеск отовсюду и так затейливо соединялись и сплетались в прямоугольники и круги, что трудно было оторвать взгляд или представить себе зрелище прекраснее». По словам Афинея, писавшего в конце II века до н. э., стены были затянуты пурпурными и золотыми коврами, а пол засыпан лепестками роз, в слой которых ноги уходили по колено. Посуда на столе была из золота с драгоценными камнями и тончайшей работы, причём – о чудо! – все эти кубки и тарелки потом раздавались в подарок. На этом волшебном пиру нет места рачительности и бережливости, здесь не думают о завтрашнем дне. Плутарх пишет о том, как слуги приходили в замешательство, когда золотые кубки и чаши беспечно раздаривались гостям. Подобные празднества длились по четверо суток кряду. В первый день, когда Антоний заявил, что ошеломлён подобной роскошью убранства и сервировки, Клеопатра со спокойной улыбкой ответила, что всё это предназначается ему в подарок. Поданные на второй день чаши и блюда были столь массивны и столь тонкой работы, что посуда первого дня по сравнению с ними казалась убогой и скромной. И снова царица подарила их своему гостю. На третий день каждому из военачальников Антония было подарено то пиршественное ложе, на котором он возлежал, и каждого с почестями проводили до отведённых им покоев в сопровождении эфиопов-факельщиков, причём самых высокопоставленных доставили на носилках-паланкинах, а прочим поданы были лошади в серебряной сбруе.
По словам Светония, Октавий опроверг упрёк в роскоши, «так как даже после взятия Александрии он не взял для себя из царских богатств ничего, кроме одной плавиковой[6]6
Чаши из белого плавикового шпата (флюорита) ввозились в Рим с Востока, а потому особенно высоко ценились.
[Закрыть] чаши, а будничные золотые сосуды вскоре все отдал в переплавку». О эти чаши, будь они неладны! Октавий, разумеется, мог отдать их в переплавку, показав, что не одобряет подобные роскошества (а заодно – и получив «живые деньги»), но не в силах был истребить память о них. Царица Зиновия, в III веке правившая Пальмирой, по отзывам современников, владела золотой посудой, некогда принадлежавшей Клеопатре, и таким образом озарилась её блеском и в буквальном и переносном смысле. В римских стихах и греческих историях, в средневековых хрониках и на ренессансных полотнах эти блюда и чаши окружают Клеопатру, символизируя изобилие, необыкновенную щедрость и радость бытия.
Ещё больше, чем сервизами, запомнилась царица Египта своими жемчугами. Для римлян жемчуг был символом роскоши. Юлий Цезарь собирал его и любил взвешивать жемчужины на ладони, и это его пристрастие современникам казалось верной приметой экстравагантности. Уверяли даже, что на поход в Британию его подвигло желание получить жемчуг, ради которого можно было отправиться на край света. «Самое первое место среди всего, что высоко ценится, занимает жемчуг», – писал Плиний Старший. Говорят, что Помпей Великий велел сложить из жемчужин своё изображение; император Калигула носил домашние туфли, вышитые жемчугом; а Нерон приказал отделать им свой скипетр, маску и паланкин. «Но две самые крупные жемчужины, о каких только известно, принадлежали Клеопатре», – писал Плиний.
У Лукана одеяние царицы сверкает жемчугами, выловленными в Красном море, причём их столько, что от тяжести она едва может стоять. В таком наряде она предстаёт живым символом женского тщеславия и сумасбродства, ибо, по словам Плиния, «жемчуг – вещь никчёмная, годная лишь для женских украшений». Жемчуга неразрывно соединены с именем Клеопатры, и в XVI веке Рабле недаром писал, что в загробном мире царица Египта торгует луком[7]7
Это каламбур – слово onion происходит от латинского unio, обозначающего особо крупную жемчужину.
[Закрыть].
Историю Клеопатры и её жемчугов первым рассказал всё тот же Плиний Старший в конце I века до н. э. Антоний ежедневно наслаждается изысканнейшими кушаньями и говорит, что ослеплён таким великолепием. На это Клеопатра надменно отвечает: всё, что представало его глазам до сей поры, – безделки и пустяки. Она может потратить на один пир десять миллионов сестерциев. Антоний не верит. Бьются об заклад. На следующий день устраивается очередное празднество, на первый взгляд не очень отличающееся от обычного. Антоний насмехается. Но затем перед Клеопатрой ставят чашу с уксусом, она бросает туда свои жемчужные серьги, ждёт, покуда они растворятся, и на глазах у изумлённого Антония делает глоток.
Дело не в том, что история эта неправдоподобна (жемчуг не растворяется в уксусе, а сама уксусная кислота способна причинить серьёзный вред желудку того, кто решится выпить его), а в том, что это – своего рода «бродячий сюжет», повествующий о безудержном расточительстве. Светоний делает его героем Калигулу, Гораций и историк Валерий Максим приписывают это деяние одному из сыновей Эзопа. Однако из многих протагонистов Клеопатра остаётся первой и главной – оттого, быть может, что эротическое значение жемчуга, очень часто символизировавшего похотливость, накладывается на её ставший легендарным характер. Раннехристианский теолог Клемент Александрийский очень осуждал женщин, носящих жемчуг. Блудница, явившаяся в видении апостолу Иоанну, сверкала им, а святая Пелагия, до своего обращения бывшая в Антиохии самой дорогой проституткой, носила в то время имя Маргариты-Жемчужины.
«Господи Боже, – писал в XIII веке Жан де Тюим, автор «Истории Юлия Цезаря», – сколь счастливым почитал себя всякий, кто мог заключить эту даму в свои объятия, нагую и алчущую». Историческая, то есть реальная, Клеопатра, отличавшаяся длинным носом и (если верить Плутарху) далеко не миловидным лицом, благодаря усилиям Октавия изобразить её искуснейшей и обольстительнейшей развратницей, способной увлечь на погибельную стезю героя, преобразилась в красавицу, которая дарит своим любовникам неслыханные наслаждения. И её вошедшие в анналы пиры – метафора её славы. В соответствии с версией Октавия, притягательность Клеопатры была сродни взгляду Медузы-горгоны – вспомним, что он и сам-то спасся от чар египетской царицы тем, что стоял перед нею, не поднимая головы. Лукан уверяет, что Юлий Цезарь согласился дать ей полную власть над Египтом, потому что «лицо её сделало просьбу особенно убедительной, а порочная красота способствовала решению дела в её пользу». Дион Кассий считает, будто ей «удалось соблазнить Цезаря, ибо нельзя было не заглядеться на неё и не заслушаться ею, и ей дарована была власть покорять всякого, даже изнурённого любовными излишествами мужчину далеко не в первом цвете юности». Под стать её обворожительной внешности была и её «предрасположенность к любви». Сексуальная алчность Клеопатры была в Античности притчей во языцех. Сохранились фрагменты латинской порнографической прозы, приписываемой (без особых на то оснований) Петронию и озаглавленной «Посрамлённый Приап, или Неутолённая похоть Клеопатры». Со ссылкой на древних авторов там говорится, будто удовлетворить ненасытную царицу было невозможно.
И разумеется, женщина, сочетающая с редкостной красотой подобную сексуальность, влечёт к себе неудержимо. Постепенно созданный Октавием образ сексуальной хищницы, преследующей жертву, уступает место образу более пассивного существа – идеализированному объекту эротических фантазий. Лукан пишет, что Клеопатра была чересчур сильно накрашена и полупрозрачная ткань её одеяния не скрывала белые груди. Более поздние интерпретаторы сохраняли тот же образ, но без этих укоряюще-неодобрительных интонаций. Двое средневековых переводчиков «Фарсалии» взахлёб восторгались нарядами Клеопатры и её физической привлекательностью. В XIII веке анонимный итальянский автор сочинения «Судьба Цезаря» детально описывал её пояс из змеиной кожи, шёлковые туфельки, подбитую горностаем мантию из белой парчи, её алые губы, высокую грудь и ряд мелких белых зубов. Его современник-француз в своём труде «Деяния великих римлян» рисует схожую картину, повествуя, как Клеопатра расстёгивает свой плащ, обнажая своё тело, в подробностях описывает он и крутое бедро, и тонкую талию, и маленькие красивые уши, и свежее румяное лицо, и зубы, белизной затмевающие слоновую кость и поблескивающие меж полуоткрытых губ. Воистину счастлив тот, кому доведётся испытать на себе чары такой дамы.
Побеждённое искушение сродни упущенному шансу, рай, потерянный ещё до того, как он был обретён. Октавий сделал Клеопатру воплощением всего того, что должен отринуть римлянин в интересах мудрого правления (страной и самим собой), превосходства мужского пола и боеготовности. Это – тяжкая жертва, и потому параллельно с ужасом, порождённым пороками Клеопатры, развивалось и сожаление по поводу невозможности насладиться её легендарной, но запретной красотой и всем, что включало в себя это понятие. Даже сам Октавий, как гласит предание, скорбел по Антонию и носил траур по Клеопатре. «Энеида », герой которой отвергает Дидону, суррогат Клеопатры, полна сожалений о времени, потраченном впустую, о нереализованных чувствах. Отношение Вергилия к Энею и к оставленной им царице амбивалентно. По мере того как забывали истинную Клеопатру и всё новые поколения писателей брались за осмысление её истории, царица Египта освещалась печальным светом чего-то утраченного безвозвратно. После битвы при Акции, писал Люций Флор, «многочисленный флот, разбитый в сражении, бросил сокровища арабов, сабинян и тысячи других народов в морскую пучину. И волны в часы прилива то и дело выносили на берег пурпур и золото». «Легенда о Клеопатре», подобно этому великолепному грузу, не меркнет в веках. Она была создана из низменных побуждений, не менее уродливых, чем то женоненавистничество и расизм, которые придали ей окончательную форму. Но независимо от намерений авторов вечный и очаровывающий образ продолжает жить. Словно обломок золотых сокровищ, прибитых волной к берегу, он – след того, что считалось чужеземным и непригодным, того, что Рим и римские наследники намеревались уничтожить, – но образ сохранился, он всё ещё здесь, яркий, сверкающий драгоценными гранями.








