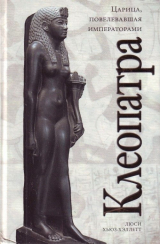
Текст книги "Клеопатра"
Автор книги: Люси Хьюз-Хэллетт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
В 1838 году Генрих Гейне описывает Египет как застывший безмолвный край смерти: «Вы ведь знаете его, этот таинственный Египет... эту узкую, напоминающую гроб, долину Нила... Среди высоких тростников жалобно плачет крокодил... Высеченные в скалах храмы с гигантскими колоннами, и на них морды священных животных, раскрашенные с уродливой пестротой... Повсюду смерть, камень и тайна. И в этой стране царила прекрасная Клеопатра».
Готье приблизительно в таком же духе изображает Клеопатру, подавленную «величественной и торжественной тоской» её мёртвой родины, «которая никогда не была не чем иным, как обширным кладбищем, где живые заняты лишь работой гробовщиков». Он ссылается на чудовищность титанической архитектуры, сухой, пустынный ландшафт, тяжёлое небо, «диковинные химеры и немыслимые монументы», «бесконечные иероглифические сказки, на непостижимом языке» давно ушедших веков. Клеопатра у Жирарден характеризует своё царство как «страну убийства и раскаяния». Её величайшие памятники – это могилы. Даже Нил, с его неизвестными истоками, может нести в себе опасность, а безжалостное солнце, сияющее на недвижимом небе, кажется ей «большим открытым глазом, безмолвно и неотступно наблюдающим за нами».
Историки были заражены тем же настроением, что и поэты. Теодор Моммзен писал в 1854 году о бесконечно скучной «веренице гротескных египетских богов». Как считает Бернал, выдвинутая Кондорсе в 1793 году теория прогресса подорвала репутацию Египта. Древние культуры перестали почитаться за древность. Теперь они превратились в архаичные, изжившие себя, застывшие. Примерно в то же время, как Генрих Гейне, Теофиль Готье и де Жирарден выражали своё отвращение к Египту, Томас де Квинси переживал кошмарные видения, вызванные употреблением опиума. «Тысячи лет я лежал в гробнице с мумиями и сфинксами, в замурованных комнатах внутри пирамид. Меня целовали раки и крокодилы, а я лежал среди гниющих отбросов нильской тины». Он так объясняет свою фобию: «Исключительная древность азиатской культуры, её институтов, её истории и особенно её мифологии и т. п. настолько впечатляющи, что во мне древность расы и наименования подавляла на время моё собственное чувство индивидуальности». Клеопатра, ведущая свой род от царей призрачной древности, становится причастной к таинствам смерти. Легенды о Клеопатре, начинающиеся с мёртвого царства её предков и заканчивающиеся её собственной смертью, приобретают оттенок фатализма. По словам Эдварда Сейда, «сама возможность трансформации, развития, человеческого движения – в глубочайшем смысле этого слова – отрицается Востоком и его жителями». Так, Клеопатры Гейне, Готье, Жирарден и их последователей застыли навеки в вымышленном состоянии «стасиса» – полной неподвижности, нормальная активность оказывается им недоступна. Клеопатра Готье вообще не передвигается сама, она кажется полностью лишённой физической энергии – с места на место её переносят в маленькой повозке, покрытой шкурами леопарда, обнажённые слуги-нубийцы.
Рассматривать цивилизацию Египта эпохи фараонов, культуру, которая просуществовала две тысячи лёг, оставила после себя замечательные памятники, свидетельствующие о её силе и мощи, мудрости и оригинальности, как нежизнеспособную и бессильную, – какое поразительное извращение. Политический подтекст такого извращения фактов очевиден – важно представить наследников этой культуры как людей, неспособных творчески развиваться. Диомед у Жирарден отмечает апатию и неподвижность египтян: «Их можно как угодно облагать налогами и брать десятину, они всё снесут и не решатся восстать, но если вы убьёте птицу ибис в священной роще, то война неизбежна». Такая страна – удобный объект колонизации. Как отмечает в своём исследовании Мартин Бернал, когда в 1830 году Мохаммед Али, добившись независимости, возродил экономику Египта, европейцы всё равно продолжали считать эту страну мёртвой. Ослабленные, упадочные, неспособные к собственному развитию страны можно колонизовать с лёгкой совестью. Умирающий Египет в воображении европейцев – страна, которая ждёт, когда её завоюют.
Это завоевание может иметь как сексуальный, так и геополитический смысл. И опять секс и завоевание, женщина и страна оказываются неразделимыми. Исключительная отстранённость от Запада не только в пространстве, но и во времени, которая получается в результате причисления Клеопатры к Древнему Египту, даёт ещё один выигрыш Западу и шанс для порнографии. В предисловии Готье к «Клеопатре» Жирарден говорится: «Только древность могла породить столь потрясающие личности, столь колоссальные жизни... титанические натуры, что беспечно растранжирили золото двенадцати династий, священные жизни неисчислимого числа рабов и воинов... К обширным достижениям предков Клеопатра добавила очарование сексуальности, доходящее до исключительных высот».
Сплав архаичности с экзотикой вдвойне действует на воображение поэтов. Оно освобождается от оков непритязательной реальности и устремляется в свободный полёт эротических фантазий – в поисках немыслимого.
Для романтиков, а затем для декадентов прошлое имело те же преимущества удалённости, что и Восток. Начиная с готических фантазий Бекфорда, Китса и Россетти и вплоть до псевдоклассических порнографических изображений Алма-Тадемы и Фредерика Лейтона XIX век продемонстрировал целую серию фантазий, придуманных людьми, которые пытались проникнуть воображением в глубь веков. Любое другое время, другие страны кажутся им приятнее, роскошнее и свободнее, чем окружающая их действительность. Забавно и иронично, но для многих наиболее богатым источником для их эскапистских фантазий оказалась Библия. В описаниях двора Клеопатры у Флобера, Оскара Уайльда, Густава Моро и многих других архаический стиль и склонность к каталогизации драгоценностей часто кажутся стилизованной обработкой видения св. Иоанна.
Ирония заключается также в том, что роль и значение, которые приписываются ими Клеопатре, как раз заключаются в её принадлежности к проклятым язычникам. Американец Джон Ллойд выпустил в 1885 году сборник биографий, озаглавленный «Великие женщины». Клеопатра для него является типичным примером «языческих женщин». Он объясняет читателям, чья разборчивость и чувствительность могла быть оскорблена рассказом о столь порочной жизни, что «этот класс женщин» – куртизанки и все те, кто занимается сексом вне брака и «у нас порицаются и изгоняются из общества», были «в языческие времена почитаемы и уважаемы». Оскар фон Вертхеймер, немецкий историк, чья богато иллюстрированная книга «Клеопатра: королевское сладострастие» вышла в 1931 году (романтические настроения не отошли в прошлое с XIX веком), так описывает атмосферу, царившую при дворе: «Открытая чувственность Греции сочеталась с доходящей до предела эротикой Египта и Востока... В Александрии любовь приобрела грубый, нездоровый декадентский характер». При этом он предостерегает читателей: они должны «учитывать, что античный мир вообще был гораздо более примитивно-чувственным, полным жизненности, чем мы, и не имел тех утончённых чувств, о которых мы сейчас так заботимся». Рана Каббани так пишет о вымышленном образе «восточной женщины»: «То, что рассказчик не решается сказать в отношении европейских женщин, то он приберегает для восточных. Они служат для выражения на словах того, чего он хочет от секса». Клеопатра как «восточная женщина» и язычница древности лучше всего подходит для этой роли.
Кроме того, она сразу в двух смыслах воспринимается как соперница Запада. После её смерти, писал Мишле, Рим «объединился и утвердился, поскольку стал получать более ревностную поддержку иудейского и греческого мира». Клеопатра была тем основным противником, победив которого Октавий смог установить власть Римской империи, где три века спустя утвердилось христианство. Согласно Анри Блезу де Бюри, она являлась представительницей «Востока – соблазняющего и демонического, персонификацией древней и проклятой эпохи». Христианские западники всегда (осознанно или нет) отождествлялись с Римом: Они считали себя наследниками Римской империи. Западные институты (такие, как папство, Священная Римская империя, британский парламент, американский сенат, французская республика) наследуют славу авторитетных римских предшественников. Фашисты и якобинцы также ссылались на римские образцы. Военные герои (например, герцог Мальборо, что стоит в тунике на вершине огромной колонны в парке Бленхеймского дворца), политики и поэты равным образом считали, что ссылка на Рим придаёт им особую римскую gravitas и особую доблесть. Данте в XIV веке был уверен, что его родная Флоренция была основана римлянами, а следовательно, является колыбелью христианства, и гордился тем, что происходит от такого священного семени. В XVII веке Мильтон строит «Потерянный рай» на основе «Энеиды», сплавляя христианский миф с римским. В XIX веке – времени экзотической Клеопатры – даже школьники знали из Вергилия об особом таланте римлян к управлению. Поэт Маколей, например, ценил Горация в основном за то, что тот выступал против варваров и предлагал героическую модель Римской империи как пример для современных колонизаторов. Клеопатра представляла угрозу римским завоеваниям, даже хуже того – загрязняла их вызывающим подозрения духом женственного Востока, была персонификацией всего, что чуждо и враждебно Риму, что необходимо отторгнуть.
Клеопатра должна была проиграть, и Восток должен был быть захвачен и аннексирован. В представлении западных писателей XIX века это выглядело так, как будто ещё не родившееся в тот момент христианство требовало, чтобы позже западные нации обеспечили распространение Евангелия среди всех остальных народов мира, образуя империю. Мишле вполне ясно высказывал подобные взгляды: «Аспид, убивший Клеопатру, принёс освобождение от долгого владычества восточного дракона. Этот чувственный мир, мир плоти, умер, чтобы возродиться вновь в очищенном виде христианства... Незаметная змейка Клеопатры является замечательным образом: образом последующего триумфа Октавия, триумфа Запада над Востоком».
Замечательный символ, как и многие другие символы, – вполне вымышленный. В литературе XIX века Клеопатра разрывается между желанием и чувством вины. Наградив Восток ярлыком «мира плоти», западники проецировали на этот восточный мир собственные фантазии для того только, чтобы в ужасе от них отшатнуться. В романе Георга Эберса Клеопатра под конец жизни начинает сожалеть о своей дикости и обращается к мудрому греку Ахибусу, который соглашается заняться воспитанием её детей. Он принимается исправлять врождённый восточным людям вкус к «ужасному, бесчеловечному, дикому» и прививать западные привычки «стойкой моральной дисциплины». Как и школьники Англии и Пруссии, дети Клеопатры должны научиться вырабатывать в себе то, что называется «характер», и полностью избавиться от нечестивой склонности к свободе мышления и мудрёным развлечениям. «Простые истины домашнего очага! – восклицает Октавий у Эберса, придя на обед с mission civilisatrice. – Они слишком прозаичны для вас, александрийцев, впитавших философии с молоком матери». У читателя не остаётся никаких сомнений, что это направлено против Александрии, а не против домашнего очага.
Европейцы, при всём стремлении и при всех своих фантазиях, всё же не могли вообразить ни Восток, ни Клеопатру слишком отличающимися от них самих. Стойкая моральная дисциплина и ценности домашнего очага являются ограниченными идеалами для тех, кто их исповедует, – они не оставляют пространства для творчества, самовыражения и роста. Фантазии о проникновении Запада на Восток имели свои политические последствия, которые мы теперь, в конце XX столетия, не можем расценить иначе как плачевные. (Народам Востока, потерявшим свободу и независимость в ходе реализации западных фантазий, этот горестный результат стал очевиден гораздо раньше). Но хотя картина вымышленного Востока, в которой Клеопатра играет столь яркую роль, послужила целям колониализма, выдумана она была не для этого. Эта картина была придумана для того, чтобы просто удовлетворить желания её создателей. Пассивная, таинственная, сексуально привлекательная и стремящаяся к сексу, атавистическая и антиисторическая – эта картина Востока, созданная романтизмом, и женщины. Восток и женщина не были просто совпадающими по символике образами (сексуальное взаимодействие – аннексия, сексуальное насилие – завоевание), они также символизировали и нечто другое – трудноопределимое восхищение, к которому романтики XIX века чувствовали столь туманное, но постоянное стремление.
Китс описывал своё «чувство» к Клеопатре как «нечто, что я не могу выразить... что-то потустороннее, широкое, выступающее, окружающее и окрашенное величием». Не случайно фантазии европейцев о Клеопатре часто приобретали литургическое звучание. Как писал немецкий критик Ф. Брие, любитель экзотики имеет много общего с мистиком.
«Последний проецирует себя за границы видимого мира, в трансцендентную атмосферу, где он соединяется с божественным; первый переносит себя силой воображения и оказывается вне текущего времени и пространства, надеясь увидеть в прошлом или удалённом от него идеальную атмосферу, удовлетворяющую его чувствам».
Удовлетворение чувств и освобождение духа. Романтики и их последователи мечтали об ином мире, о мире, где они будут свободны от условностей, от мелких коммерческих забот, от личной ограниченности, мире, где секс разрешён, а материальный мир сверкает великолепием, где мужчина (поскольку в основном это были мечтатели-мужчины) будет великим. Такие «восточные» фантазии могут быть опасными, но, подобно всем другим человеческим фантазиям, религиозным или иным, они несут в себе творческий заряд, отказ следовать обыденности, стремление к жизни, полной риска и сказочных приключений, жизни более широкой, благородной и красивой, чем та, что известна нам из нашего опыта.
9
УБИЙЦА

Эпизод из романа Жана Кантеля. Клеопатра на троне во всём блеске величия и драгоценностей. Позади неё – скорчившиеся пленники и темнокожие палачи. Перед ней – красивый доблестный Арсиес, капитан её гвардии, который по её тайному приказу умертвил её брата. Руки его связаны. Его допрашивают. Она наблюдает за допросом. Капитан отказывается признаться, чьё задание он выполнял. «Заставьте его говорить!» – приказывает Клеопатра. Нубийцы начинают загонять острые иглы ему под ногти. Он твёрдо стоит на своём, и никакими пытками его невозможно заставить назвать имя царицы. «Убить его!» – приказывает она. Палач заносит топор над его головой.
«В этот самый момент выражение лица царицы внезапно изменилось: черты лица смягчились, на губах заиграла таинственная соблазнительная улыбка, обещающая сладчайшие наслаждения. Арсиес замечает её улыбку и, счастливый, поднимает на неё глаза – топор падает, – взгляд его всё ещё устремлён на неё – глупец умер с улыбкой на устах».
Клеопатра во всех легендах представлена как обладательница сексуальной власти, часто она изображалась и как жестокая царица. В эпоху романтизма её жестокость и сексуальность слились. Шекспир использовал легенды о Клеопатре, чтобы показать разрушительное безумие страсти, но хотя его Антоний и Клеопатра готовы были разрушить весь мир и погубить себя, они отнюдь не пытались убивать друг друга. Однако после 1825 года, когда Александр Пушкин оживил древнюю легенду, на которую прежде не обращали внимания, – легенду о том, что царица будто бы требовала жизнь мужчины в обмен на ночь в её постели, – Клеопатра превращается в чудовищную, но соблазнительную повелительницу и пожирательницу мужчин – femme fatale. На протяжении всего XIX и ещё в первые десятилетия XX века, когда в поэме Айронмонжер описывается, как она «в рубинах, сверкающих как капли крови», лежит целую ночь в обнимку с трупом Антония, легенды о Клеопатре были насыщены эротикой и насилием.
Те, кто изображал Клеопатру в образе героини-садистки, опирались на уже вполне утвердившуюся традицию представлять её как бессердечную, падшую и эмоционально холодную женщину. В последней четверти XVIII века хитроумная Клеопатра-шлюха оказывается также и злодейкой. В 1775 году итальянский драматург Витторио Альфиери, чей «ледяной ужас» заслужил впоследствии восхищение Байрона, заставил её «снять вуаль и обнаружить истину, скрытую в пропасти изолгавшегося сердца». Обуреваемая жаждой власти и неспособная любить, Клеопатра Витторио Альфиери решает убить Антония, чтобы проще было соблазнять Августа. Антоний бежит от подосланных убийц, возвращается к ней и высказывает всё, что он думает о её каменном сердце. Он говорит, что если Медея или Мегера хотя бы стыдились своих преступлений, то «тебя, о, холодная и жестокая, даже это неспособно затронуть!». В «Трагедии Клеопатры» Александра Соумета, поставленной на сцене в 1824 году, где царица сначала нам является в могильной тьме, окружённая орудиями убийства – кубком с ядом, аспидом в бронзовой клетке, отравленным кинжалом, – она убивает Октавию, а затем терроризирует маленького сына жертвы, показывая ему кинжал, с которого каплет кровь его матери. В «Октавии» Августа фон Коцебу (1801) Клеопатра пытается отравить Октавию, свалить вину на Антония и таким образом избавиться от них обоих. Когда это ей не удаётся, она посылает Антонию сообщение о своей смерти. Антоний умирает на руках преданной ему Октавии, а Клеопатра продолжает тем временем наслаждаться жизнью, удовлетворяя свою похоть, свои амбиции и свою гордость.
Порочность этой Клеопатры из мелодрамы очевидна, но постепенно в XIX веке подлость внешняя, выраженная стала уступать место более тайному вероломству и коварству. Клеопатры Коцебу, Витторио Альфиери и Соумета под конец пьес разоблачаются, и все Антонии приходят в ужас от зла, которое сотворили их Клеопатры. Но ничего подобного не происходит в драмах, которые получили распространение после Пушкина. Как ясно видно из приведённого выше отрывка романа Кантеля, мужчина, которого соблазняет, подкупает и убивает femme fatale, созданная воображением романтиков, добровольно соучаствует в действе, ведущем его к гибели. Как и Ките, он бы «хотел, чтобы она погубила» его.
Было бы большим упрощением объяснять стереотип femme fatale одним только напрямую выраженным женоненавистничеством. Женоненавистничество само по себе вполне признавалось обществом той эпохи. «Война женщине-разрушительнице!» – кричит мудрый советчик героя романа Райдера Хаггарда. Артур О’Шонесси выдвигает в «Эпической поэме о женщинах» теорию о том, что женщину Бог создал бездушной,
...и в том причина, что
Красива с виду, но обманщица в любви,
и выводит из легенды о Клеопатре мораль, которая, будучи общеупотребимым клише, всё же поражает остротой выраженной в ней сексуальной паранойи.
И жребий каждого расписан от рожденья:
Одна всё стерпит, за него себя отдаст,
Но будет он убит другой, что ада порожденье.
Образ femme fatale, потенциально бредовый и абсурдный, получил тем не менее признание, поскольку базировался на уже существующих предубеждениях и предрассудках относительно женского характера. «Клеопатра – женщина, – писал Генрих Гейне. – Ошибочно думать, будто женщины, изменяя, перестают нас любить. Они только следуют своей природе, и если даже им не хочется осушить запретную чашу, их всё-таки тянет хлебнуть хоть глоточек, лизнуть края, чтобы хоть попробовать, каков этот яд на вкус... Да, Клеопатра – женщина в самом очаровательном и самом проклятом значении слова!» Генрих Гейне видел Клеопатру похожей на тот тип «расточительных жён, чрезмерно дорогой семейный обиход которых покрывается чьей-то щедростью со стороны и которые терзают и радуют своих законных супругов» не только любовью, но и «сумасшедшими капризами». Авторы более позднего времени, знакомые с феминистским движением, считали этот тип женщин одним из самых страшных – мужеподобные амазонки, что утверждают свою независимость, отказываясь от брака с мужчиной. По оценке, данной в биографическом справочнике, опубликованном в Париже в 1844 году, к худшим заблуждениям Клеопатры относится то, «что она никогда так и не научилась видеть свою славу в объекте своего выбора; она настаивала на первом месте, выдвигала себя вперёд своего возлюбленного, что для женщин является серьёзной ошибкой». Клеопатра Райдера Хаггарда, склонная «ко всякому злу», открыто проявляет свою порочность, насмехаясь над честным предложением героя и отказываясь выйти за него замуж – «в железные тиски крепкого и неизменного союза». «Брак! Чтобы я вышла замуж! Чтобы я позабыла свободу и добровольно пошла в наихудший вариант рабства!» В романе Кантеля царь Эфиопии просит Клеопатру разделить с ним трон. «Нет! – отвечает она. – Никакая связь никогда не будет цепями у меня на руках». Он предлагает ей сказочные подарки: золото, эбонитовое дерево, пантер, эфиопских рабов. «Этого недостаточно», – считает Клеопатра. Он может отдать ей всё: своё царство, свои богатства, воинов, многочисленных слуг. В обмен на это она согласна позволить ему наслаждаться любовью с ней, но ненадолго. «Но как только я скажу, ты должен будешь уйти и никогда не возвращаться... С моей любовью ты потеряешь все». Царь соглашается; позже мы видим его среди нищих, просящих подаяние. Клеопатра, провозглашая женские права, показана дикой хищницей, отрицающей обязанности брака ради унижения мужчины.
Однако обычное пренебрежение к женщине обеспечивает лишь малую толику того, что было необходимо для создания образа femme fatale. По той же причине, по которой порочные куртизанки выглядят привлекательнее, чем добродетельные жёны, Клеопатры-убийцы также имеют другую сторону. Судя по тому, с каким чувством и вкусом описываются эти Клеопатры своими создателями, они столь же страшны, сколь и желанны. В «Мадемуазель Мопэн» Теофиль Готье, расписав жестокость Клеопатры, которая убивала мужчин после ночи любви, восклицает: «Возвышенная жестокость!.. Каким тонким чувством надо было обладать, о, как хорошо разбиралась она в человеческой природе, и какая глубокая мудрость в этом варварском акте». Пожалуй, наиболее интригующим в этих Клеопатрах является то, что на самом деле они вовсе и не женщины. В романе Георга Эберса главная героиня, замужняя женщина, юная и храбрая при встрече с Клеопатрой, «почувствовала горячее желание прикоснуться губами хотя бы к краю её платья; но вдруг у неё появилось ощущение, будто ядовитая змея зашевелилась внутри прелестнейшего цветка». Символический образ женщины, поднимающей одежду и обнаруживающей змею, не нуждается в интерпретациях. Образ, данный Анатолем Франсом, столь же показателен: Клеопатра окружена со всех сторон «гигантскими колоннами, украшенными на концах человеческими головами или цветками лотоса». В огромном количестве описаний Клеопатра изображается вместе с безошибочно распознаваемыми фаллическими символами. В романе Кантеля, где Клеопатра, как обычно, лениво-праздно валяется на диване, темнокожий гном приносит ей на подносе змей. «Она свивала и распрямляла их скрученные тела. Большая змея обвила её туловище, маленькие как браслеты извивались на руке или обнимали кольцами шею... Она прижимала длинные живые ленты к устам, к плечам, к груди». Такие Клеопатры, снабжённые суррогатами пенисов, которые подчёркивали их силу в противовес женской слабости, были, конечно, двуполыми. «Я хотел бы стать женщиной, чтобы испытать новые удовольствия», – признается один из героев Готье. Такая смена пола предполагает также смену половой принадлежности партнёра. Опера Массне по либретто Луи Пайена начинается со сцены, где Клеопатра лежит на кушетке вместе с двумя убитыми рабами – её последними жертвами. В мужском костюме она собирается идти развлекаться в одной из таверн Александрии и найти среди танцующих мальчиков тех, чьи губы горят «пурпуром желаний». Зигмунд Фрейд отмечал у своих пациентов-мужчин «мазохистские фантазии... помещающие субъекта в типично женскую ситуацию», и предполагал, что «жажда наказания стоит совсем рядом с другим желанием – иметь пассивные (женские) отношения с [отцом]». Клеопатры-убийцы, чьи жертвы очень часто зелёные юнцы, а также мужчины из низших социальных слоёв, замещают в таких вариантах отца. Она часто изображалась мужественной или, по крайней мере, частично обладала мужской психикой. «Клеопатра! – восхищённо восклицает Людовик Буилхет в своей поэме. – Бессмертный образец изящества и мужественности!»
В ту эпоху, как и в предшествующие, подавляющее большинство авторов или художников, изображавших Клеопатру, были мужчины. (Раздражение, которое Клеопатра вызывала у Шарлотты Бронте, уже описывалось). Наиболее значительным образом Клеопатры, созданным женщиной XIX века, была Клеопатра Дельфины де Жирарден. (Трагедия Виктории Сарду писалась специально для Сары Бернар и пришлась звезде по вкусу. Однако тон пьесы таков, что она равным образом могла бы принадлежать автору-мужчине). Де Жирарден представляет нам героиню, почти в точности соответствующую femme fatale. Однако Теофиль Готье сразу замечает, что автор пишет против наклонности собственного пола. Он хвалит её за то, что она смогла сотворить «наиболее мужскую работу, хотя и исходящую от женщины», и заявляет, что её собственный вклад чувствуется более всего в характере Октавии, которая разрывается между женской гордостью благородной жены и завистью к любовнице, которая в отличие от неё может возбуждать страсть. Замечание Готье относится, очевидно, к вопросу о садомазохизме. Он, вероятно, предполагает, что женские мазохистские фантазии сильно отличаются от мужских. Это весьма сомнительно. И в период романтизма, и в наши дни женшины зачитываются романтическими произведениями и проявляют такие же черты бессердечности, распущенности и жестокости, как и худшие из femme fatale. И всё же его предположение показательно в том смысле, что он считает, что черты Клеопатры-убийцы отражают исключительно мужские желания и мужские противоречия.
«Клеопатра скучает, – сообщает Вентидий у де Жирарден. – Мир в опасности!» В пьесе Сарду Антоний любуется танцующими девушками, а Клеопатра развлекает себя, обрывая лепестки роз. Другие Клеопатры разгоняют свою скуку не таким бескровным образом. В книге ливанского писателя Халиля Саадеха «Цезарь и Клеопатра», опубликованной в 189В году, Клеопатра проводит ночи, составляя список знатных вельмож, чьей смерти она желает, а дни – любуясь на казни тех, кого уже соблазнила. Клеопатра Готье смотрит, как тигры раздирают гладиаторов. Клеопатра Райдера Хаггарда радуется, отравляя рабов. И пока отрубленные головы катятся по порфировом полам к её ножкам, она на время отвлекается от утомительной и назойливой скуки. Порочная радость при виде страданий, конечно, проистекает из чужеродности Клеопатры, поскольку жестокость – это один из атрибутов Востока, и в особенности азиатских монархов.
Сладострастная жестокость связана с абсолютной властью восточных царей, подобных Клеопатре. Фантазии о жестоких тиранах имеют тонкий сексуальный подтекст. Поэт, ужасающийся при мысли о пытках, использует этот сюжет как обрамляющую рамку для своих собственных мазохистских выдумок: воображаемый деспот – это возбуждающий жестокий любовник или любовница его мечты в причудливом восточном одеянии. Часто отмечавшаяся связь между садомазохизмом и тоталитаризмом выражается в том, что фантазии о Клеопатре-убийце – это не только сексуальный сюжет, но также и исполнение желанной фантазии о подчинении тоталитарной власти.
Клеопатра в пьесе Халиля Саадеха заявляет республиканцу Бруту: «Народ в Риме вбил в свои глупые головы, что мужчины и женщины равны. В жизни не доводилось слышать ничего подобного». Однако «с этим не так уж сложно справиться с помощью виселицы». У этой Клеопатры кожа как жасмин, а губы напоминают лепестки роз, однако Цезарь влюбляется в неё только тогда, когда она начинает угрожать ему кинжалом.
Современному миру, писал Готье, недостаёт «потрясающего спектакля всемогущества». Именно такое действо могла обеспечить Клеопатра, «со своей золотой диадемой и царским пурпуром, ставящая народ на колени». Как Гелиогабал, Сарданапал и другие тираны древности, она возвышается над «тёмной массой людей», подобно титаническому колоссу. Она – образец тёмных массовых фантазий этих людей о власти. «Эти чудовищные фигуры были воплощением в жизни тех призраков, что посещают людей в ночных дрёмах». Поэтому, полагает Готье, подданные терпели эксплуатацию и измывательства тиранов. Суждение его бросает свет на ряд политических явлений XIX века. Европейцы, лишённые из-за распространения демократии всех внешних атрибутов абсолютистской власти, переместили её в воображение и объединили с подходящими эротическими образами. И фантазии об абсолютной сексуальной власти, безусловно, жестоки. «Человек, не подчинённый никаким ограничениям, – писал Жорж Батай, романтик XX века, – нападает на свою жертву с остервенением обезумевшей гончей».
Многие поэты и прозаики постромантизма свободно и осознанно включали в фантазии садомазохистский элемент. «Избитый на улицах Александрии и осмеянный Клеопатрой, – пишет Мишле, – Антоний пребывал наверху блаженства». Как признается один из героев пьесы Жирарден, «любить Клеопатру – это удовольствие, смешанное с тоской, или страх, полный очарования». «Пусть моя любовь будет кораблекрушением», – молит раб, влюблённый в Клеопатру. Суинберн обожает Клеопатру за её бессердечие и холодность – она «пропускает меж пальцев» те чувства, что разбивают сердца обычных смертных.
В его представлении она воплощает в себе «зло и блаженство всего мира». Ему вторит Банвиль, для которого Клеопатра – «счастье и исполнение желаний всех на свете». И даже разрушительные последствия, которые приносит её любовь, несут в себе болезненную сладость. Русский поэт Валерий Яковлевич Брюсов заявлял в 1905 году, что завидует Антонию, который погиб от рук Клеопатры.
Когда вершились судьбы мира
Среди вспененных боем струй, —
Венец и пурпур триумвира
Ты променял на поцелуй.
.........................
Как нимб, любовь, твоё сиянье
Над всеми, кто погиб, любя!
Блажен, кто ведал посмеянье,
И стыд, и гибель – за тебя!
Брюсов считал Антония благословенным, поскольку тот подвергся осмеянию и стыду ради Клеопатры, и молил о том, чтобы и он сам когда-нибудь смог подвергнуться унижению ради женщины.
О, дай мне жребий тот же вынуть
И в час, когда не кончен бой,
Как беглецу, корабль свой кинуть —
Вслед за египетской кормой!
Герой Хаггарда исповедуется: «Она захватила меня, похитила мою честь, бросила в объятия стыда». «И я, бедный павший, целовал края её платья и был её верным рабом». Изобретатели таких Клеопатр не были одиночными извращенцами. Хотя страсть к бичеванию у Суинберна присутствовала и документально зарегистрирована, но его эротические фантазии, в отличие от его эротической практики, отнюдь не являются экзотикой. Ни в прошлом, ни в настоящем садомазохистские фантазии не были чем-то необычным.








