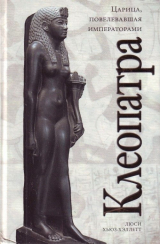
Текст книги "Клеопатра"
Автор книги: Люси Хьюз-Хэллетт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)
С другой стороны, известно, что яд кобр действует как нервно-паралитическое средство. Он не сопровождается внешними эффектами, и хотя жертва испытывает некоторую локальную боль, единственным следом укуса являются две точки, оставленные зубами кобры. Яд вызывает вялость, сонливость и чувство опьянения. Глаза жертвы закрываются, как во сне, следует частичный паралич участков тела, затем кома и смерть. Такую более мягкую смерть Клеопатра могла выбрать для себя. «Аспид», укусивший её, мог быть Naja haja, египетской коброй (или uraeus). Картины, где она изображается с маленькой змейкой, обвивающей её руку, не соответствуют реальности. Томас Браун в эссе «Относительно множества сомнительных предметов, какие можно отыскать на картинах» указывает, что картины, где она изображается с маленькой змейкой, ошибочно несоразмерны. Для того чтобы яда кобры хватило на Клеопатру и её двух служанок, змея должна была достигать около семи футов в длину. Впрочем, там могла быть и не одна змея. Так, например, Проперций, Гораций и Вергилий – все считают, что было как минимум две змеи. Кобра, у которой может хватить яда на одного взрослого человека, имеет размер около четырёх футов. В таком случае не только крестьянин, которого остановили у входа солдаты, должен был нести невероятно крупные смоквы, но и корзина должна была быть невероятных размеров.
Египетская кобра, uraeus, с незапамятных времён была эмблемой египетского царствующего дома. На изображениях царей священная змея рисовалась в виде кобры с раздутым клобуком, готовой изрыгнуть пламя на любого врага. Культ богини Ваджет в низовьях Нила восходил к предысторическим временам и часто ассоциировался с Изидой. Изображения uraeus с надписанным именем Изиды находили в Долине Царей. Во времена Клеопатры uraeus уже повсеместно считался священным животным Изиды. В настенной росписи в Помпеях богиня держит змею в руках, а хвост её обвивается вокруг талии. На саркофаге II века н. э. изображена жрица Изиды с коброй, обвивающей кольцами её руку.
Когда посланники Октавия вбежали в усыпальницу Клеопатры, она предстала перед ними в одеяниях Изиды. Вполне вероятно, что она носила на руке браслет (подобный тем, что покупают сейчас туристы на берегах Средиземного моря) в форме свернувшейся змеи, эмблему Изиды. Позже, когда ремесленникам было поручено изготовить «изображение мёртвой Клеопатры на ложе», которое, как сообщает нам Дион Кассий, было провезено в египетском триумфе Октавия, они, возможно, изобразили её при всех найденных регалиях Изиды. Майкл Грант в своём исследовании о Клеопатре предполагает, что это изображение ввело в заблуждение как современников царицы, так и последующих авторов. Римские женщины, посвящённые в ритуалы Изиды, как, например, Цинтия, о которой пишет Проперций, должны были понимать священный смысл эмблемы на руке Клеопатры. Но историю писали мужчины, и мужчины, подобные Проперцию, который мог быть слишком поглощён любовными приключениями, чтобы разбираться в таких тонкостях:
Руки твои, я видел, покрыты укусами змей,
Скрытым путём шёл яд, и немели члены.
Так пишет он в своей поэме. О нескольких змеях говорится и в 37-й оде Горация:
Нет, умереть желая царицей,
На павший дом взглянула с улыбкою
И злобных змей к груди прижала,
Чтобы всем телом впитать отраву.
И наконец, Вергилий в «Энеиде» упоминает неотступно следовавших за Клеопатрой при Акции «двух змей смерти». Возможно, конечно, что эти свидетельства основаны на ошибочных данных. Например, когда Проперций пишет «я видел», он может сообщать об изображении, которое несли во время триумфа. Да, видел, но, не зная смысла египетской эмблемы, не понимал, что это значит. Принял священный амулет Изиды за изображение сцены смерти в стиле восковых фигур мадам Тюссо. Если прав Грант, то это невежество привело к возникновению ложного исторического рассказа, в который верили и который повторяли с Античности до наших дней.
В то же время есть достаточно аргументов в пользу традиционного представления о смерти Клеопатры. Например, известно, что смерть от укуса змеи для египтян была обычным способом смерти. Греческий врач Гален пишет, что, поскольку смерть от змеиного укуса считалась безболезненной, она применялась для смертной казни в древней Александрии (как наиболее гуманный метод). Кроме того, самой Клеопатре, если принять за данность, что она выбрала себе такой вид смерти, должен был импонировать символический смысл такого жеста. Кобра была символом той богини, земным воплощением которой она являлась. Смерть от укуса такой дружественной божественной змеи придавала иное звучание самому факту смерти: смягчала оттенок неизбежности и неотвратимости, придавала ей смысл, полный вызова, протеста и надежды.
В 1920 году появилось очень оригинальное исследование о Клеопатре Э. Д. Безеля. Оно не было опубликовано, но хранится Британской библиотеке. Эрудиция автора не вызывает никаких сомнений, чего, возможно, нельзя сказать о его здравом смысле. Он пытается доказать, что Клеопатра не умерла в Александрии в 30 году до н. э. Он обращает внимание на то, что её могила так и не была найдена, и считает, что следы аспида на морском берегу, на которые ссылается Плутарх, показывают на самом деле путь её бегства. Пользуясь какими-то фантастическими нумерологическими выкладками, он «доказывает», что она ещё дважды в жизни сыграла определённую роль в истории. Сначала под именем Музы она оказалась женой сразу двоих – парфянского царя Фраата и его сына Фраатаса. Затем она каким-то удивительным способом становится третьей личностью, а именно Девой Марией, и рождает Христа.
Вряд ли стоит слишком серьёзно относиться к этой версии Безеля, за выкладками которого стоит в первую очередь желание доказать, что Иисус Христос по национальности был не еврей. Но его спекуляции лишь подчёркивают мистический ореол, окружающий кончину Клеопатры. Столь дикие теории возникают, как правило, не на пустом месте, а там, где исторические факты оставляют достаточно свободы для их интерпретаций. В любом случае Безель, хотя и ненароком, верит именно в то, во что Клеопатра хотела заставить всех поверить. Её египетские подданные, прослышав о её смерти от укуса священной змеи, должны были сразу понять, что она не просто умерла, но приобщилась к бессмертной жизни и она ещё не раз вернётся вновь на эту землю.
Uraeus был охранительным символом правящего дома Египта. Греки, верившие, что он может убивать взглядом, прозвали его «василиск», или «маленький царь», признавая тем самым его царственное происхождение. В египетской настенной росписи он часто изображается стерегущим ворота рая. Вполне возможно, что изрыгающие огонь драконы, охраняющие сады Гесперид, произошли от него. В египетской Книге мёртвых говорится, что змея сбрасывает кожу для того, чтобы появиться на свет обновлённой, и что она – символ бессмертия. Из того алхимического трактата, что по традиции приписывается Клеопатре, до нас дошли лишь отдельные разрозненные страницы. Среди прочих символов там упоминается orobouros, то есть змея, заглатывающая свой собственный хвост. Символ этот обозначает вечность. Независимо от того, причастна или нет Клеопатра к созданию трактата, ей наверняка был знаком этот символ. Две змеи uraeus, обвившиеся вокруг жезла, были обычным для египтян символом изобильной и неиссякаемой жизни. Этот символ был прообразом кадуцея[9]9
Кадуцей – в мифологии: обвитый двумя змеями магический жезл.
[Закрыть] Меркурия и Асклепия (греческого бога врачевания), жезла Гермеса Трисмегиста и посоха Моисея, который являлся талисманом для защиты детей Израилевых. Клеопатра как воплощение Изиды была уже в определённом смысле бессмертна, но с браслетом uraeus на руке в момент кончины она тем более обеспечивала себе посмертную жизнь. Египтяне, по словам Плутарха, сравнивали аспида «с солнцем, поскольку оба они не имеют возраста и не стареют». Подобно Солнцу, которое было символом предсказанного Золотого века, uraeus означал бессмертие, или возрождение через смерть. Укус змеи означал (на языке действа Клеопатры), что она избежала печальной участи, уготованной ей Октавием, и что царица, так же как и Египет, не только не потерпела поражения, но и не может его потерпеть – они несокрушимы и бессмертны.
Римские поэты воздали должное мужественной смерти Клеопатры. «Решившись умереть, – пишет Гораций, – она проявила действительную храбрость». Если правдива традиционная история с аспидом, то её смерть свидетельствует даже более чем о храбрости. Ослабленная физически, находясь под надзором в плену у врагов, она не только хладнокровно спланировала, но и с большим мастерством осуществила то, что считала важным. Клеопатра, известная нам по книгам и изображениям, обладает некоторыми сверхъестественными чертами, каких, по-видимому, никому из смертных не дано. Однако в этом есть несомненная заслуга вполне живой и реальной Клеопатры, которая всеми силами создавала этот легендарный образ.
ЧАСТЬ II
4
САМОУБИЙЦА

Итак, Клеопатра умерла, но имя её осталось жить в веках. Она жаждала бессмертия, и если считать многовековую посмертную славу некоторым видом бессмертия, то она его получила. Правда, слава эта, подобно хамелеону, на протяжении двух тысяч лет часто меняла свою окраску. Это скорее зеркало, в котором отражаются лица зрителей, тех, кто снова и снова вглядывается в её непостижимый образ, пытаясь разгадать её загадку, но видит не лицо царицы, а своё собственное отражение.
В период заката Римской империи образ Клеопатры под влиянием распространения христианства становится олицетворением чувственного удовольствия и греховности, поскольку удовольствие начинает восприниматься как грех. Однако в период Средневековья и в начале эпохи Возрождения появляется совсем иная трактовка образа древней царицы, прямо противоположная представлению о нечестивой, но красивой обольстительнице. Джеффри Чосер в середине XIV века, а также целый ряд предшествующих и последующих поэтов и романистов видят в Клеопатре эталон женской добродетели: она совершила героический акт, тот единственный подвиг, каковой может очистить женщину от изначально присущей ей скверны, – она покончила с собой из любви к мужчине. Все остальные черты её характера отходят на задний план, на первом месте стоит самоубийство, и им она очищается от всех прочих грехов. Однако и в этом есть своя некрасивая сторона, поскольку, как пишет Блаженный Августин, добродетельная женщина, покончившая с собой, уже не может считаться добродетельной, раз отняла жизнь у невинной жертвы (самой себя). И всё же самоубийство Клеопатры большинство воспринимают на ура. Убив себя, она превращается в хорошую женщину. За этим лежит – не высказанное прямо, но подразумеваемое – мнение о том, что убитая женщина (она сама) в принципе не могла быть хорошей, ибо, подобно всем женщинам, занимающимся сексом, была «дурной» по определению.
«Incipit legenda Cleopatrie, Martiris» – «Так начинается история Клеопатры-мученицы», – пишет Чосер в самом начале «Легенды о достославных жёнах». В прологе рассказывается, что на поэму его вдохновил Бог Любви, что автор намеревается восславить женскую добродетель на наиболее впечатляющих примерах. Некоторые поздние критики подозревали, что, поставив Клеопатру на первое место в своём списке добродетельных женщин, Чосер проявил своё ироническое отношение. Однако подобное предположение – явный анахронизм. Во времена Средневековья образ Клеопатры однозначно стоял в том же ряду, что и образ Пенелопы или Дидоны, и был примером и образцом верности, терпения и самоотверженности. Джон Гувер, современник Чосера, так описывает Клеопатру в своей «Исповеди влюблённого»:
...царицы скорбь,
Что выбрала себе расплату,
Оплакивая горестно утрату
Антония, которого любила.
Она в расщелину со змеями ступила —
Так совершилась Клеопатры смерть.
Вся трагическая история Клеопатры, её усилия на государственном поприще, её жажда власти и честолюбивые замыслы – всё это исчезает бесследно. Чосер, Гувер и многие другие авторы видят и ценят единственное предполагаемое се достоинство – добровольный уход из жизни из-за смерти любимого.
Традиция эта сохранилась и позже. В последующие два столетия множество античных рукописей было найдено, переведено и адаптировано для чтения. В 1551 году Джулио Ланди пишет на основе Плутарха «Жизнь Клеопатры, египетской царевны». В 1559 году Жак Амио перевёл «Сравнительные жизнеописания» Плутарха на французский, а двадцатью годами позже Томас Норт осуществил перевод версии Амио на английский. Но ещё прежде, чем античные источники дошли до читающей публики, драматурги стали использовать сюжет, связанный с Клеопатрой, для трагедий. В течение второй половины XVI века множество Клеопатр продефилировало по европейским сценам. На протяжении шестидесяти лет (прежде чем за дело взялся Шекспир) авторы разных национальностей приложили руку к созданию трагедий о Клеопатре: Чезаре де Чезари и Джованни Батиста Джеральди Цинтио в Италии, Этьен Жодель, Робер Гарнье и Николя де Монре во Франции, Ганс Сакс в Германии, Мэри Сидней (перевод Гарнье), Сэмюэль Дэниел и Сэмюэль Брендон в Англии. Произведения их, очень разные и по стилю, и по морали, и по художественным достоинствам, тем не менее имеют одно разительное сходство, лишь частично объяснимое требованиями трагедийного жанра. Во всех этих трагедиях смысл и суть жизни Клеопатры заключаются в её смерти.
«Мне незачем жить, когда умер мой господин, – сообщает Клеопатра у Джеральди Цинтио. – Он был для меня всей жизнью, без него и жизнь как смерть». Чувство очень трогательное, но несколько ограничивающее. Конечно, если считать Клеопатру только возлюбленной Антония, тогда, вероятно, и стоило бы её похоронить вместе с ним или сжечь на погребальном костре, как некую вещь, принадлежавшую ему при жизни, как, например, его любимый меч, или пару сапог, или какую другую неотъемлемую от него собственность, с которой он не расставался и которая не имеет своего, отдельного от него существования. Героини чосеровской «Легенды о достославных жёнах» также не желают ничего другого в своей жизни, что бы выходило за рамки их любовных отношений. И именно это их самоуничижение, их готовность жить только ради мужчин и является их основной добродетелью. Дидона, в этой версии скорее патетическая, чем трагическая, всходит на жертвенный костёр, когда узнает, что она брошена. Фисба закалывает себя мечом, чтобы не быть разлучённой с Пирамом. Наиболее высоко оценивается здесь Клеопатра, которая в надгробной речи, обращённой к Антонию, говорит, что с того благословенного мига, как она поклялась жить только ради него, она ни разу не изменяла своей клятве. После чего она добровольно спускается в яму со змеями. Чосер высоко, хотя и несколько превратно оценивает её подвиг, замечая: «Каким же должен был быть тот мужчина, что горе о нём подвигло её на такое!»
Смерть ради любимого, которую приписывали Клеопатре, была уважаемой добродетелью по законам жанра куртуазного рыцарского романа. Настоящий рыцарь должен был продемонстрировать свою привязанность, преодолевая жестокие испытания и не раз подвергая свою жизнь опасности ради прекрасной дамы (независимо от того, отвечает она на его любовь или нет). Самоубийство из-за любви также почиталось. И если чосеровская «Легенда о достославных жёнах» больше напоминает не пантеон добродетели, а каталог трупов, то это связано с прямым заимствованием повествовательной схемы мартирологов, то есть Житий святых, которые выполняли в средневековой культуре функцию укрепления моральных устоев. Адаптируя христианские формы к новым веяниям придворной светской культуры и воспевая Бога Любви, Чосер следовал общепринятой литературной норме своего времени. Другим примером того же рода может служить «Исповедь» Гувера, где Клеопатра шествует в толпе святых по зелёной прогалине, напоминающей о небесных райских полях. В этом занятном жанре присутствуют десять заповедей» любви; «заутрени» и «хвалы» любви распеваются птицами, а молитвы возносятся Венере. На одной из иллюстраций французского манускрипта конца XV века изображены Антоний и Клеопатра, стоящие бок о бок на зелёной лужайке. Он в полном облачении втыкает в себя меч невероятной толщины. Она в одежде, аккуратно спущенной до пояса, в головном уборе прикладывает двух змей к груди. Некий намёк на эротизм делает эту картинку забавной для наших современников. Однако для того периода такие полуобнажённые фигуры были шаблонным приёмом изображения святых и мучеников, поскольку только так можно было идентифицировать того или иного страстотерпца – через показ ран или других деталей, эмблематически отражавших его или её подвиги или мучения. Имя Клеопатры упоминается в ряду мучеников ещё в ранний период христианства. В самом конце II века карфагенский христианский апологет Тертуллиан пишет обращение к группе преследуемых и заключённых в темницу верующих, призывая их, если потребуется, принять мученичество за веру. Он приводит в пример мужество язычников. Язычники были способны на доблесть, и даже женщина «с радостью приняла смерть от хищников более страшных, чем бык или медведь». «Клеопатра дала укусить себя аспидам, чтобы живой не попасть в руки врагу». Интересно, что, говоря о ней, как об образце храбрости и достойного поведения, он закрывает глаза на многочисленные сексуальные связи Клеопатры. И это пишет Тертуллиан, считавший, что самое «лучшее для человека – совершенно избегать женского пола», и ставивший девственность на первое место. Впрочем, мертвецы неизбежно целомудренны, даже если они женского пола.
Подчёркивая, что и те, кто сам расстаётся с жизнью, и те, кто претерпевает мучения, равно обладают храбростью, Тертуллиан привлекает внимание к этическим различиям между самоубийством и мученичеством. Здесь он выходит на сложные вопросы, с которыми столкнулись многие последующие поколения христианских мыслителей и над которыми ещё до них ломали голову их языческие предшественники. Эта этическая проблема подробно обсуждалась и греческими, и римскими философами. Платой считал, что самоубийство допустимо в случае, если надо избежать неизлечимой и мучительной болезни или если оно совершается по приказу государственных властей (случай с Сократом). Но в общем случае Платон полагает, что самоубийство свидетельствует о недопустимом высокомерии, нельзя приписывать себе власть над жизнью и смертью, которая по праву принадлежит только богам. Аристотель считает это уклонением от гражданского долга. Пифагор, по словам Цицерона, запрещает людям расставаться с жизнью без высшего божественного соизволения. Среди римских авторов и Юлий Цезарь, и Овидий дебатировали вопрос о том, что является истинной храбростью: уйти из жизни или пытаться справиться с испытаниями судьбы, а Вергилий в «Энеиде» воображает жалкую участь тех, кто лишил себя жизни:
Дальше – унылый приют для тех, кто своею рукою
Предал смерти себя без вины и, мир ненавидя,
Сбросил бремя с души.
Эти голоса умеренных почти всегда заглушались теми, кто воспевал храбрость самоубийц или восхищался принципиальностью тех, кто умирал принципа или чести ради. Философ-киник Диоген заявлял: «Либо оправдание, либо верёвка». Такое формулирование проблемы звучит просто, ясно и цельно, не требует компромиссов. Те, кто отвергает жизнь, как ни странно, часто выглядят более смелыми, вдохновляющими, чем те, кто её принимает.
Для стоиков самоубийство имело и политическое значение. Римский философ Сенека считал, что выбор времени и места собственной смерти спасает человека от капризов судьбы или тирании других людей. Сенеке пришлось в конце концов покончить жизнь самоубийством по настоянию его ученика императора Нерона. Если бы философ смог осуществить уход из жизни до того, как впал в немилость императора, то его смерть была бы иллюстрацией пропагандируемых им взглядов на добровольную смерть как на краеугольный камень человеческой свободы. «Видишь этот крутой обрыв? Спуск вниз – это путь к свободе. Ты видишь – внизу расстилается море, кромка берега, тишь да гладь? Во всём этом заключена свобода. Ты спрашиваешь, какой высший путь к свободе? Ответ – любая вена твоего тела». Трагический конец Сенеки восхищал и вдохновлял многих драматургов Возрождения. Это не без его влияния Спенсер в «Королеве фей» говорит с уважением о «высокой мудрости Клеопатры, которая покончила с собой, прибегнув к змеиному укусу», а шекспировская Клеопатра восклицает:
...С честью
Вождя мы похороним, а потом,
Как римлянам бесстрашным подобает,
Заставим смерть объятья нам открыть.
Эта система ценностей отрицалась раннехристианскими авторами. Тертуллиан, писавший на границе II—III веков н. э., вдохновлял мучеников примерами языческих героев, покончивших с собой, но Блаженный Августин уже причисляет самоубийство к виду убийства. В христианском мышлении акценты смещаются. Классические примеры героизма – самоубийство Лукреции после насилия или Катона после поражения – тесно были связаны с понятием о чести, с тем, как герои выглядят в глазах окружающих. Августин Блаженный считает, что эти герои самоутверждались ради похвалы. Христианин, по его мнению, не должен интересоваться глупым мнением света, а должен следовать исключительно голосу разума. И если разум говорит ему, что он согрешил, то ему следует обратиться к Богу с покаянием, а не впадать, подобно иудеям, в грех гордыни. По мнению Августина, самоубийством Катон только доказал свою слабость, неспособность перенести жизненные невзгоды. Примером мужества для христиан был многострадальный Иов, который терпеливо переносил всё, что выпало на его долю. В последующие столетия мнение Августина стало общепринятым и ортодоксальным, но в современной ему среде оно вызывало большое изумление, и ему неоднократно приходилось спорить и доказывать правоту нового и необычного подхода. В главном труде своей жизни, сочинении «О граде Божием», он подчеркивает этот спорный для современников пункт с помощью торжественной эмфазы: «И так мы говорим, и так мы объявляем, и так мы всеми средствами отстаиваем положение, что никто не имеет права даже помышлять о самовольном уходе из жизни, пытаясь избежать быстротечной болезни, но по крайней мере он должен быть безнадёжно болен и неизлечим».
Доказательства Августина принимались всеми последующими христианскими авторами. Роберт Бартон в «Анатомии меланхолии» причисляет Клеопатру к тем, кто «добровольно пошёл на смерть, чтобы избежать худших бедствий нищеты, или спасти свою честь, или восстановить своё доброе имя». Такая «честь», по мнению Бартона, ничего не стоит. Он относит это к «извращённым языческим понятиям, нелепым парадоксам стоиков, порочным примерам». В подобном же духе трактует смерть Клеопатры английский памфлетист XVII века Иоанн Сим. Среди «горестных примеров» тех, кто сам лишил себя жизни и тем доказал свою склонность к ложной «мудрости плоти и крови, порочным страстям и плотским интересам», он упоминает и Клеопатру.
И всё же история отношения к самоубийству показывает со всей ясностью, насколько людям свойственно думать одно, а чувствовать другое. И хотя для большинства на протяжении последних пятнадцати столетий самоубийство ассоциируется с грехом и преступлением, тем не менее, как любят повторять христианские авторы, порочная гордыня часто говорит громче, чем мужественная скромность, а безудержная храбрость привлекает сильнее, чем спокойная самоотверженность. Постоянно, говоря о самоубийстве, авторы подчёркивают различие между добродетелью и «величием». Под «величием» понимается сразу целый комплекс атрибутов: высокое социальное положение, храбрость, цельность, самоуважение. Тот же Августин, например, противоречит сам себе, замечая: «Можно восхищаться величием души тех, кто имел мужество уйти из жизни, но не их мудростью». Двенадцать веков спустя английский священник Иеремия Тейлор равным образом затрудняется в оценке, не зная, можно ли осудить тех, кто проявил такую решительность и храбрость. Защищая свою честь и пренебрегая жизнью, они не только заслуживают прощения, но вызывают восхищение. Хотя, конечно, «это всё равно нельзя считать законным». Но пока теологов волновали добродетель и законность, поэтов вдохновляли слава и величие. Клеопатра со змеёй у груди была готовой героиней трагедии и образцом стойкости. Несмотря на совершение осуждаемого христианством греха, ею восхищалась вся средневековая и ренессансная Европа.
«Разве испугается смерти та, которой грозит смерть её славы?» – вопрошает Ирас в трагедии Этьена Жоделя «Пленённая Клеопатра» (1553 год). «Нет, ни за что! – отвечает ей Клеопатра. – Лучше умереть, чем дать Цезарю отпраздновать победу над нами!» Хор аплодирует ей, превознося её подвиг и объявляя, что она будет знаменита по всей земле, ибо предпочла смерть унижению и тем самым доказала, что обладает ещё более мужественным сердцем, чем мужчина, – «un соеur plus que d’homme». В «Трагедии Клеопатры» Сэмюэля Дэниела, впервые увидевшей свет в 1594 году, сама Честь увлекает за собой Клеопатру на дорогу смерти. В трагедии Роберта Гарнье о Марке Антонии они оба, и Клеопатра, и Антоний, с радостью ступают в объятья смерти. И этот подвиг, как возглашает хор, славнее, чем все победы Октавия.
О! Антоний с возлюбленной милой —
В смерти славный и в несчастий счастливый!
Их двойное самоубийство было не только спасением от врагов, но и искуплением. «Я должен, должен умереть!» – восклицает Антоний.
Я должен, должен умереть достойно,
В минуту тягостную прибегнув к смерти от своей руки.
...мгновения моих последних дней
Да уберут с души все призраки теней!
Таким образом, избрав смерть, Антоний защищает свою честь и проявляет мужество. То же относится и к Клеопатре, но самоубийство женщины почти всегда несёт дополнительную нагрузку: смерть Клеопатры доказывает её верность Антонию.
Образ женщины, чья любовь сильнее смерти, очень древний. Когда Сенеке было приказано покончить с собой, его жена желала последовать за ним. Плиний Младший рассказывает историю о женщине, которая, узнав о неизлечимой болезни мужа, привязала его к себе и вместе с ним утопилась в озере. Когда в I веке один из сенаторов императорского Рима был обвинён в заговорщической деятельности, его жена – Аррия – заявила, что умрёт вместе с ним. Её имя стало нарицательным для обозначения супружеской верности.
Язычники Рима ценили верных жён. Христианские апологеты добавили к этому уважению также почитание женского целомудрия, в котором практическая этика граничила с духовной практикой. Когда Тертуллиан высоко оценивает твёрдость и решимость Дидоны или Лукреции, его восхищает не только их мужество, но и то, что они предпочли смерть сексуальной неверности. В сочинении «О поощрении целомудрия» он пишет, что второй брак должен считаться не чем иным, как видом распутства. «Пусть будут нам примером те женщины-язычницы, что прославились непоколебимостью в единомужии: такова Дидона, которая искала убежище в чужой стране и должна была даже стремиться к супружеству с тамошним царём, но, чтобы избежать второго брака, предпочла броситься в костёр». Тертуллиану была известна не та версия истории Дидоны, что рассказывает Вергилий, а более древняя, где нет речи об Энее.
Высокая оценка женщин, которые предпочли смерть неверности умершему мужу, переходит и в творения ранних отцов церкви. Создаётся своего рода культ женщин-мучениц, убивавших себя ради сохранения целомудрия. Евсевий рассказывает историю Домнины, христианки из Антиохии, схваченной вместе с двумя дочерьми во время гонений на христиан при Диоклетиане. Боясь, что солдаты могут посягнуть на их целомудрие, они все втроём, взявшись за руки, бросились в реку и утонули. Пятнадцатилетняя святая Пелагея, когда в её дом ворвались грубые и похотливые воины, попросила разрешения переодеться в другое платье и удалилась к себе в комнату. Оттуда она выбралась на кровлю и бросилась вниз, разбившись насмерть. Даже Блаженный Августин не осуждает такого рода самоубийство. В конце концов, после столь убедительного доказательства их девственности или верности мужьям такие женщины заслуживают снисхождения. «И кто не тронется человеческой симпатией к ним и решится осудить их, а не предоставить им прощения?»
Казалось бы, примеры подобного рода имеют весьма слабое сходство с историей Клеопатры – царицы, покончившей с собой из-за крушения её политических амбиций, дважды бывшей замужем (при этом, возможно, умертвившей обоих мужей) и имевшей четырёх внебрачных детей. Однако, сколь ни нелепо это выглядит, история её жизни была помещена именно в сей неподходящий контекст и, что ещё более удивительно, стала образцом женской добродетели. Называя Клеопатру мученицей, Чосер отнюдь не предполагает, что она подвергалась религиозным преследованиям. Нет, как он понимает её историю, она отдала свою жизнь за некий абстрактный идеал – не за римское понятие о чести, а за вполне христианский идеал женского целомудрия. По форме «Легенда о достославных жёнах» в точности соответствует христианским житиям святых и мучеников, и покорные жёны и верные возлюбленные в его рассказах ничем не отличаются от безупречных святых мучениц, ибо целомудрие и верность жены идёт вторым номером сразу за изначальной девственностью. Итак, связь Клеопатры с Цезарем была забыта или игнорировалась, а её воображаемая похотливость полностью стёрлась из коллективной памяти. В том, что она последовала в могилу вслед за Антонием, виделась наиболее приличествующая женщине добродетель. Верность и сексуальная сдержанность – это единственные доказательства, которые для женщин, существ непостоянных по своей природе, могут считаться решающими.
Почтительное отношение к тем, кто лишил себя жизни во имя любви, просуществовало достаточно долго. В популярной биографии Клеопатры уже в XIX веке американский автор Джон Ллойд вопрошает: «И что касается её, этой эгоистичной чаровницы, наделённой талантом и красотой, что делает она, видя, что её возлюбленный умирает – умирает ради неё? Следует ли она его примеру? Нет, это не для неё. Разве самовлюблённая женщина может покончить с собой из-за любви?» В предисловии Р. X. Кейза к трагедиям Шекспира, выпущенным в 1906 году издательством «Арден» и до сих пор пользующимся спросом у британских студентов и прочей читающей публики, нежелание Клеопатры пережить Антония однозначно приравнивается к добродетели. Стереотип женщины, которая не способна пережить смерть любимого, и по нынешний день остаётся популярным. Женщина лишает себя жизни или просто умирает от горя, она не может продолжать жить счастливой и полной жизнью в одиночестве или в обществе другого мужчины. Распространённость этого стереотипа создаёт иллюзию нормальности такого отношения к жизни. Сравним такое восприятие истории Клеопатры с некоторым феноменом, на первый взгляд весьма чуждым западной культуре, а именно – с индийским обычаем самосожжения вдов на могиле мужа. Он был официально отменен британскими властями в 1829 году, но продолжал практиковаться и в XIX веке.








