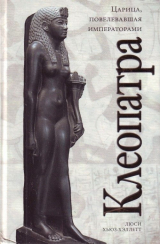
Текст книги "Клеопатра"
Автор книги: Люси Хьюз-Хэллетт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
Ты думаешь, перед тобой Антоний?
И затем продолжает свою мысль:
Бывает иногда,
Что облако вдруг примет вид дракона,
Что пар сгустившийся напоминает
Медведя, льва иль крепостную стену...
.........................
Перед тобою конь, и вдруг мгновенно
Он в облаках теряет очертанья
И, как вода в воде, неразличим...
.........................
И я теперь – такой же зыбкий призрак.
Ещё Антоний я, но этот образ Теряется.
Раньше он стойко переносил лишения и трудности военного похода, теперь окружён атмосферой праздничного пира и наслаждений. Знаменитый полководец, славившийся своими победами, оказался не у дел. В Риме он, Антоний, был именно Антонием – воином с железной хваткой. Он знал, какие доблести положены воину, и знал, что он ими обладает. Перенесённый в место, где римские понятия мужественности, чести, славы не имеют значения, он не может с уверенностью сказать, кто он такой.
В туманном мире царства Клеопатры мужчина растворяется, «как вода в воде». Секс размывает и незаметно меняет его формы. Эта потеря себя является одновременно страшной и очаровывающей. Если бы Антоний потерял себя как личность в тот момент, когда он покидал Рим, то ответственность за это лежала бы на нём, это было бы его собственным решением. Но в Александрии, городе женщин, он забывает Рим. Он развлекается прогулками по ночному городу в переодетом виде. Таким образом «он» становится как бы уже и «не он». Антоний уже не тот муж, который должен хранить верность Фульвии, а потом Октавии, не полководец, от чьего решения зависит безопасность Рима и его границ. Даже обычные занятия, вроде рыбной ловли, приобретают необычный, сказочный оттенок: в реальности солёная рыба не может попасться на крючок. С Клеопатрой он наслаждается жизнью, полностью выключенный из окружающего его социального контекста. (Их политическому союзу не место в этой сказке, так же как и их троим детям). Ему становится трудно сохранять римские серьёзность, взрослость и ответственность. Реальная жизнь тяжела и трудна. И только в сфере секса, и в особенности в сфере сексуальных фантазий, озабоченный римский гражданин может насладиться такими безграничными сказочными возможностями беспробудного и ничем не ограниченного чувственного влечения, отправиться в отпуск или на каникулы от тягот и сложностей реальной жизни. Это и делает шекспировский Антоний, и в этом одна из разгадок необычайной привлекательности его истории. Она воплощает фантазию, о которой мечтают миллионы современных отпускников и туристов, отправляющихся ежегодно в дальние уголки света. В Александрии Антоний с Клеопатрой наслаждаются самым лучшим в мире «курортным романом».
Клеопатра, «ветреная, лихорадочно кокетливая женщина», бесконечно изменчивая царица, которой всё дозволено и в которой даже пороки становятся привлекательными, вполне подходящая возлюбленная мира Александрии, зыбкого и ненастоящего. Своенравная, переменчивая и вероломная, она является квинтэссенцией традиционного представления о женщинах.
Октавия в пьесе Гарнье говорит:
В природе женщин – измененье,
Меняют мненье каждое мгновение.
В царстве Клеопатры, где всё меняется и ничто не остаётся незыблемым, мужские и женские качества смешиваются и растворяются друг в друге. «Сюда идёт Антоний», – говорит Энобарб. Хармиана поправляет: «Не он идёт – царица». Возлюбленные становятся неразличимыми, в особенности Антоний, который из монолитного, вооружённого в доспехи колосса становится столь же переменчивым, как Клеопатра. «Соединяя тела, возлюбленные соединяют также и души», – говорил Гермес Трисмегист, египетский божественный мудрец, чьи труды высоко ценились учёными Возрождения. В акте любви род стирается: «Женщина получает мужскую силу, а мужчина расслабляется в женском покое». Таким образом, Клеопатра вбирает в себя вирильность Антония и в то же время отрицает её.
Навек рассталась с ним!.. Нет, не хочу!
То представляется он мне горгоной,
То снова принимает облик Марса —
так говорит царица об Антонии. Марс – римский образ мужества, а змееволосая горгона Медуза, обращающая людей в камень, – это воплощение женской мощи и намёк на возможность кастрации, что приводит в ужас мужчин. Поскольку секс (и здесь опять всплывает туман, который реальный Октавий навёл за шестнадцать столетий до того) всегда превращает мужчин в женщин. В пьесе Гарнье Антоний «из солдата превратился в дамского угодника», безработного лодыря, проводящего время в женских покоях. В трагедии неизвестного автора того же времени добрый гений корит Антония: «Ты стал низменным и женственным, Антоний, ты теперь солдат при юбке, годный лишь на подвиги в постели». Точно так же шекспировский служака, чьё мировоззрение держалось на трёх китах – сила, война, мужчины, превращается в силу своего влечения в глупца, игрушку в женских руках. В Александрии язвит Октавий:
Не мужественней он, чем Клеопатра,
Которая не женственней, чем он.
Клеопатра развлекается, вспоминая, как она обрядила Антония в женскую одежду, а сама нацепила его меч, воплощение (как это отмечал, но не изобрёл Фрейд) его мужественности, мужской фаллический символ. Различие в половых ролях не имеет значения в Александрии, где верховной царицей является женщина. Потеря Антонием мужественности плачевна, в частности, конечно, из-за того, что быть женщиной само по себе означает быть низшим сортом. Шекспир устанавливает два полюса – мужчин и женщин. Условная демаркационная линия, отделяющая сферу женских качеств от мужественности и мужских качеств, ничуть не изменилась за многие века, прошедшие после создания первоначальной легенды о Клеопатре. Презрение, с которым описывается феминизация Антония, попавшего в Александрию, вполне соответствует тому желаемому эффекту, который планировал Октавий, впервые пуская в ход свою версию. Но у Шекспира изменения, произошедшие с Антонием, ведут его не только к обдумыванию того, что представляет собой мужчина, но и к более глубокому и сложному вопросу о человеческой личности вообще.
Половые отличия третируются как социально опасные. Антрополог Мэри Дуглас красноречиво описывает универсальный и свойственный всем людям феномен: панический ужас перед аномалиями. Подвергая критическому анализу «Книгу Левит», она заключает: «Благочестие требует, чтобы индивидуальная особь подчинялась тому классу, которому она принадлежит. И благочестие требует, чтобы отдельные классы не смешивались с другими». Животные, которые считаются нечистыми и которых потому запрещено есть детям Израилевым, – это животные, не укладывающиеся в три основных класса сотворённых живых существ: крылатых птиц, покрытых чешуёй рыб и четвероногих млекопитающих, имеющих шерсть. Свиньи, змеи, «все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли или реках» – всё это является скверной. Такое внесение в проскрипционные списки существ (многие из которых и по сей день вызывают фобические реакции) – это мощное выражение общечеловеческого страха перед всем, что лежит между определёнными категориями, не описано и не занесено в реестр.
Тот же страх лежит в основе такой усложнённой формы расизма, как враждебность к людям смешанной национальности. Это также объясняет, почему неопределённая половая принадлежность ощущается как угроза. Отсюда дрожь отвращения перед гермафродитами и неприятие гомосексуализма. «Женщина должна носить свою одежду и не одеваться как мужчина, также и мужчины не должны одеваться в женское платье, ибо это есть мерзость перед Господом», – сказано в Девтерономии. Мужественная женщина и женоподобный мужчина – оба являются угрозой для человеческого порядка на фундаментальном уровне. Это отвратительно. Отвращение – реакция на грязь, а грязь (в соответствии с древними понятиями) – это нечто, расположенное не на своём месте. Андрогин, отрицающий свою принадлежность к женскому или мужскому, – символический вызов всему, на чём стоит цивилизация.
Шекспир свободно играет понятиями рода: в его пьесах девушки переодеваются в мужчин, мужчины – в женщин. Он вырос в стране, где пожилая королева третировала и дразнила юных фаворитов. Во времена, когда он писал «Антония и Клеопатру», Англия и Шотландия управлялись формально женатым, но бесстыжим и гомосексуальным королём. Шекспир был не единственным, кто замечал лёгкие гомосексуальные нравы того времени. Его современник Уильям Харрисон в «Описании Англии» говорит, что мода на «унисекс» приобрела такие размеры, «что уже не в моих силах различить, где мужчины, а где женщины». Тридцать лет спустя король Яков I счёл необходимым потребовать от церкви «гневно обрушиться на нахальство наших женщин, носящих мужские камзолы, шляпы, коротко остриженные волосы и даже кинжалы и стилеты». Кроме женщин, одевающихся как мужчины, были и мужчины, одетые по женской моде.
Драматург елизаветинских времён Барнаби Рич был шокирован модой юного поколения совершенно так же, как родители 60-х годов XX века – модой своих детей: «И откуда только взялась мода носить длинные волосы? Какая нездоровая любознательность может заставлять молодых людей завивать локоны подобно женщинам? А на что похожи эти накрахмаленные кружевные воротнички, которые пристали разве только девушкам на танцах... И разве в этом заключены храбрость и сила духа, что подобают джентльмену?»
Если такую готовность пересечь границы, разделяющие один пол от другого, можно назвать неожиданной, то этого никак нельзя сказать о выплеснувшейся по сему поводу волне негодования и ругани. Женщины в мужской одежде, писал пуританин Филип Страбб в 1583 году, были, по его мнению, «смердящими перед лицом Господа, оскорблением для мужчин, но, сверх того, ясным указанием всему свету, к каким порочным последствиям могут привести их извращённые речи». Нарушение привычного послушания раскрыло сущность ортодоксальных установок, и шок, который испытали ортодоксы, отражал не только их собственный консерватизм. Они выражали ту глубокую древнюю озабоченность, о которой говорила Марина Уорнер, обсуждая вопрос об андрогинности в ходе дискуссии о Жанне д’Арк: «Фрейдист здесь увидел бы аналогию смерти, а не жизни, поскольку преодоление половых различий видится как прекращение времён, отказ от изменчивости, наследницей которой является всё живое».
Сблизила Антония и Клеопатру взаимная чувственная страсть, они преодолели ограничения отдельного существования и почти не подвластны времени. Лукан, описывая пир Клеопатры, говорит о вине, что выдерживалось с невероятной скоростью, и о гирляндах неувядающих роз на гостях. Шекспир подхватывает эту тему. Его Александрия – это страна несбыточного, где время остановилось. Энобарб отвечает другу в ответ на предположение, что Антоний бросит Клеопатру:
Не бросит никогда.
Над ней не властны годы.
Ведомая любовью, она выводит Антония за грань времён: «В моих губах, глазах ты видел вечность». Таково их преображение. И в этом же заключается основная причина их совершенной легкомысленности. Жизнь в Александрии, выдернутая из линейного времени, не подвластна законам причинности. Ничто последовательное, закономерное ей не свойственно.
Когда Бодлера спросили, где он предпочёл бы жить, он дал характерный для романтика ответ: «Где угодно, где угодно, только за пределами мира». Александрия как раз и была подобным местом, но Шекспир, в отличие от Бодлера, не отрицал земной жизни. В том, ином мире, как он предполагал, солнце заходит только через мрачные врата смерти. «Над ней не властны годы» – в реальной жизни это можно сказать только над трупом. Знаменитые слова Энобарба о красоте Клеопатры нашли своё отражение, хотя и не вполне точное, в поэме Лоренса Биньона «Погибшим в 1914—1918»:
Они не повзрослеют, как повзрослеем мы,
И годы их не утомят, годы над ними не властны.
Жить – значит изменяться. Сверхприродная неизменность выдуманной Шекспиром Александрии, где царит вечная юность, где пол неразличим, где нет места политике и законам причинности, – это зеркальное отражение состояния смерти.
Согласно Плутарху, Клеопатра и Антоний назвали свой предсмертный союз орденом тех, кто умрёт вместе, – «Союзом неразлучимых в смерти». В видении Шекспира – это то, чем они всегда и были. Пиком истории Антония и Клеопатры, как понимал её Шекспир и множество других авторов, было их двойное самоубийство. Именно оно придаёт смысл их жизни, оно является также и их наказанием. Близость смерти и сексуального экстаза воспринимается людьми нашей эры как нечто героическое и значительное. «Нет такого распутника, сколь бы мало он ни продвинулся в пороке, который бы не знал те чувства, что испытывает закоренелый убийца», – писал маркиз де Сад, открывая эротическую моду, просуществовавшую до наших дней. Но Шекспир не был ни столь склонен к убийству, ни столь романтичен. Его Рим безлюбовный, управляемый одним только разумом, возможно, был фригиден, но его Александрия, управляемая страстью, – полностью стерильна. Антоний и Клеопатра отвернулись не только от общества, но и от всего человеческого. Демонстрируя убийственность безудержной страсти, Шекспир ясно показывает, что он считает такую любовь, какой бы грандиозной она ни была, враждебной жизни.
Померкло всё —
заявляет Клеопатра после смерти Антония, —
Так разве грех
Войти в заветное жилище смерти
Незваной гостьей?
Её решение неизбежно, поскольку самоубийство – только формальное подтверждение того решения, которое уже было принято окружающим миром относительно них. Кроме того, конечно, самоубийство защищает страстную любовь от её врагов. Вполне в природе «курортного романа», чтобы такая антисоциальная страсть, как любовь Антония и Клеопатры, исчезла, испарилась бесследно. Страстная влюблённость должна сгорать без следа, сгорать раньше, чем реальный мир вступит в свои права. Однако Шекспир не даёт своим героям, пока они живы, никаких поблажек. Реальность, в виде сценария реального Октавия, достаёт Клеопатру даже в волшебном александрийском царстве. Экстаз, который они испытывают, постоянно прерывается. Они почти не остаются на сцене одни, и даже если это случается, какие-нибудь важные мировые события прерывают их любовные ласки. Смерть кажется Клеопатре желанной, потому что
...кто волею своей
Всё оборвал, кто обуздал случайность,
Остановил движенье и уснул,
тот навсегда остаётся в уснувшем заколдованном королевстве. Смертью Клеопатра достигает того, чего они с Антонием не смогли добиться другими средствами: их праздничные каникулы, любовный отпуск продлится бесконечно. Они навсегда останутся в волшебном очарованном царстве.
Смерть – предательский хеппи-энд, вырастающий из их собственных фантазий. Их нигилизм здесь оборачивается против них самих. «Пусть будет Рим размыт волнами Тибра», – восклицает Антоний в первой сцене пьесы. Но Рим слишком силён, чтобы его можно было сбрасывать со счетов.
И расплачивается за это Антоний. «О, девушки, взгляните! Венец вселенной превратился в прах». Под влиянием её чар он отказался от Рима, от «мира работы», от мира-какой-он-есть. Теперь, когда ему не осталось места, где жить, он может только умереть, поскольку мир-какой-он-есть не может простить такой бунт. Как писала феминистский критик Хелен Сиксоуз, Шекспир показывает полный восторг любви только для того, чтобы тут же отказаться от подобной возможности: «Когда бунт подавлен и должностные лица водворены на законные места, кто-то должен заплатить за всё. Или, другими словами, – немедленная и кровавая смерть всем неорганизованным элементам!»
Как царица любви, Клеопатра неизбежно является и царицей смерти. Энобарб говорит о ней: «Она умирала на моих глазах раз двадцать... Она умирает с удивительной готовностью – как видно, в смерти для неё есть что-то похожее на любовные объятия». В плодородном иле Нила рождается жизнь, трупами кормятся личинки мух, а Клеопатра, древняя нильская змея, находится в родстве с аспидом, который её убил. Подобно рептилиям женского рода, каковые в изобилии наполняют фольклор и мифологию, подобно всяческим русалкам и горгонам, Клеопатра смертельно опасна для того, кто её полюбит. Сексуальная амбивалентность, сходство с фаллической парой змей, в ней проявляется в виде гермафродитической потенции, которая может обратить мужчину в камень, кастрировать или убить. В трагедии Писторелли из Вероны «Марк Антоний и Клеопатра», впервые опубликованной в 1576 году, Антония посещает видение, в котором Клеопатра обращается в змею и двойным кольцом обвивает его столь плотно, что слуга не может убить её, не убив своего господина. Микеланджело нарисовал её буквально со всех сторон увитой змеями: аспид обвивается вокруг плеч, две змейки обрамляют голову, как раздвоенное украшение её причёски, волосы её извиваются, подобно змеям, и также змеевидна спускающаяся на шею коса. В более поздней картине (возможно, Вазари), опирающейся на этот рисунок, Клеопатра превращается в Ламию – полуженщину-полузмею-полувампира. Аспид её кусает, но она, неподвижно застывшая, открывает пустые страшные глаза, глядя назад и выискивая беспомощную жертву.
Соблазнительницы времён Ренессанса предвосхищают более поздние романтические образы belles dames sans merci[11]11
Прекрасных и безжалостных дам (фр.).
[Закрыть]. В XIX веке датский критик Георг Брандес писал о пьесе Шекспира: «Всё тонет, всё рушится – личности и желания, доминионы и принципы, мужчины и женщины. Всё червивеет, отравляется змеиным ядом чувственности, всё приходит в упадок и мертвеет». Сильные слова, и хотя сексуальный подтекст добавлен самим Брандесом, но в нём отражены те темы, что присутствуют в шекспировской драме. Его Клеопатра – исключительно точное изображение ужасной femme fatale.
Стереотип femme fatale обычно употребляется, чтобы приписать женщине вину, которая лежит на мужчине, но Шекспир не пытается использовать смерть Клеопатры, чтобы обелить Антония. Вместо этого он концентрирует внимание на саморазрушительной силе страсти как таковой. «Приходит мягкий, хитрый вор, что нас крадёт у нас самих» – такими словами приветствует свою смерть Клеопатра у Сэмюэля Деньела.
И потеря своего «я», и аналогия смерти, и эротический экстаз включались в легенду о Клеопатре и до Шекспира. Боккаччо описывал, как «её тело, привыкшее к нежным объятиям, теперь обнимала змея». Корреляция становится ещё более очевидной, если рассмотреть картины художников того времени.
В них эта тенденция проявилась с большей наглядностью, чем в литературных источниках. Плутарх совершенно ясно говорит, что царица перед смертью оделась в царский убор. Деталь эта была прекрасно известна во времена Возрождения и многократно использовалась при постановке пьес. Тем более примечательно, что на картинах и в скульптурах того периода Клеопатра, как правило, предстаёт в момент смерти в обнажённом или полуобнажённом виде.
На картинах XVI века итальянских, нидерландских и французских живописцев она изображена нагой на фоне идеализированного ландшафта и обязательно со змеёй – композиция, которая неизбежно вызывает ассоциации с изображениями другой известной соблазнительницы и погубительницы мужчин – Евы. Полная чувственности картина неизвестного автора из Фонтенбло даёт представление о большинстве картин такого рода. На ней Клеопатра лежит на боку с полузакрытыми глазами, её обворожительное тело полностью обнажено. Голова полуопущена на руку, обвитую аспидом. Комната задрапирована мягкой тканью, что усиливает интимность обстановки. Поглощённая приятностью собственной смерти, предоставляя пассивно на обозрение обнажённое тело, умирающая Клеопатра, вне всяких сомнений, является эротическим объектом для зрителя.
Ещё одно отклонение от исторических обстоятельств самоубийства Клеопатры является дополнительным эффектом, усиливающим порнографическое воздействие. Плутарх и Дион Кассий упоминают, что след укуса был обнаружен у неё на руке. На иллюстрации XV века Клеопатра полностью одета, а рукава платья аккуратно закатаны, чтобы было видно, как две малюсенькие, похожие на мышей змеи обвивают её руки. Эта картина, несмотря на зоологические странности и исторический анахронизм (Клеопатра одета в средневековое платье), всё же более верно передаёт обстоятельства смерти царицы, чем произведения живописцев последующих веков. В середине XVI века флорентиец Пьетро Витторио справедливо сокрушается по поводу того, что современные ему художники неизменно рисуют Клеопатру, «прикладывая змея к её груди». В 1638 году английский писатель Примроуз перечисляет среди других «популярных медицинских ошибок» легенду о том, что Клеопатра была укушена змеёй в грудь. Безрезультатно. Медицина здесь бессильна. Клеопатра, либо совершенно нагая, либо в deshabille, предлагает на обозрение зрителям верхнюю часть тела, в то время как окаянный аспид обвивается вокруг её груди, чтобы прильнуть головой к соску. Поза оскорбительно вывернутого сюжета Мадонны с младенцем. Ещё более очевидный результат: такое представление Клеопатры делает её объектом не только вожделения зрителей, но и метафорического изнасилования. Такова Клеопатра на картине художника Джакомо Франча: женщина с роскошным телом, прикрытая лишь развевающимися волосами, пытается в страхе прикрыться рукой, как будто она защищается от нападения. Это лишь одна из множества картин, которые представляют Клеопатру в виде сексуального приза.
Шекспир развивает тему, представляющую Клеопатру как сексуальный приз, превращая двойное самоубийство Антония и Клеопатры в радостное единение за гробом. По пьесе смерть для них – облегчение. Как пишет критик Терри Иглетон, «их последнее слово – политическая безответственность». Совершенно верно. Безответственность – это именно то, к чему стремятся любовники в пьесе Шекспира: к свободе от социальных обязательств, от последствий собственных действий, от всего, что отвлекает от погружения в восхитительный экстаз.
Перед смертью Антоний разоблачается. Он требует, чтобы слуга его, Эрос, помог снять вооружение и доспехи:
Снимай! – И семислойный щит Аякса
От этого удара не спасёт.
Сбрасывая с себя доспехи, он снимает скорлупу своего прежнего «я», разоблачает себя перед лицом всех добропорядочных мужчин. Он раздевается и открывает себя для любви (не случайно именно Эрос даёт ему пример мужественной смерти).
Но ведь и я со смертью уж помолвлен
И к ней стремлюсь на брачную постель.
Клеопатра также готовится к самоубийству с той пылкостью, как иные – к свадьбе. «Иду, супруг мой», – говорит она перед смертью.
Несите царские мои одежды,
Ценнейшие уборы. Вновь плыву
По Кидну я Антонию навстречу.
Смерть приходит к ней в виде змейки, принесённой в корзине с винными ягодами (другие названия – смоква, инжир, фига). Их очевидная эротическая форма отмечалась Плутархом задолго до Д. X. Лоренса, когда он писал, что фиги «кажутся очень похожими на воспроизводящие органы». О смерти она говорит, что, «верно, смерть – та сладостная боль, когда целует до крови любимый». Прижав к себе змейку, Клеопатра лучится счастьем. Смертельный «яд сладок-сладок. Он как успокоительный бальзам, как нежный ветерок!». Но тут её описание прерывается непроизвольным восклицанием, которое обычно вырывается в момент экстаза любви: «О мой Антоний!»
Из всех шекспировских трагедий эта имеет самый счастливый конец. Влюблённые наконец остаются наедине друг с другом (что им не удавалось на протяжении всего действия) в воздушном замке своей любви.
В этом есть что-то роскошное и опьяняющее. Это благородно и величественно. Это вдвойне возбуждает – абсолютность смерти обеспечивает оргазмическое удовлетворение – и совершенно легко. Как две соперничающие нации испытывают облегчение, перейдя от бесконечных уловок и дипломатических интриг к прямому «убить или быть убитым на объявленной войне», так же Антоний и Клеопатра падают вместе в любовные объятья смерти, которая освобождает их от беспрерывного бегства от забот и тревог реального мира. Это вызывает зависть. Китс, томясь по современной Хармиане, умоляет, чтобы она погубила его, мечтая о таком же освобождении от бремени. Мужчина, который погиб, уже не отвечает за свою глупость. Он больше не обязан думать. Он может быть грубым или глупым, жадным или жаждущим, невинным и разрушительным, как малое дитя. Многие взрослые время от времени мечтают о таком освобождении. Таким образом, вероятно, бессознательно, Шекспир оживил античную традицию: Антоний в трагедии забывает свой долг перед Римом, предпочитает разуму чувственную страсть, то есть вновь выводит на сцену черты бога Диониса – господина всеобщего сумасшествия, андрогинного бога женщин, ревностные сторонники которого стремятся преодолеть ограниченность индивидуального существования, которое перетекает в бессознательную жизнь природы.
Шекспир заставляет нас чувствовать притягательность такого самозабвения, но сам Шекспир – не сторонник дионисийского характера. Только со времени романтиков Запад стал признавать страстную любовь как освобождающую и облагораживающую. В изображении Шекспира герои такой страсти ограниченны и душевно нечистоплотны. Клеопатра ревнива и сварлива. Те (немногие) добавления к сюжету, которые введены Шекспиром в историю Плутарха, направлены на то, чтобы представить её именно в нелестном виде. Сцена, где она допрашивает гонца о том, как выглядит её соперница Октавия, выдумана Шекспиром: Клеопатра предстаёт в этой сцене ограниченной и глупой. Её ревнивая вспышка, когда она хватается за кинжал, чтобы убить гонца, принёсшего плохую весть, – также изобретение драматурга. Эти добавления должны подчеркнуть, к чему приводит бесконтрольное попустительство страсти и желаниям. Антоний, который после разгрома при Акции сначала бранит Клеопатру, а затем начинает по-детски дуться, также не вызывает восхищения. Зритель на основании этих сцен должен сделать вывод, что страстно влюблённые люди теряют волю и морально деградируют. Данте помещает Клеопатру в ад, туда, где
...адский ветер, отдыха не зная,
Мчит сонмы душ среди окрестной мглы
И мучит их, крутя и истязая.
Это пятый круг ада, предназначенный
Для тех, кого земная плоть звала,
Кто предал разум власти вожделений.
Под ударами ветра своих собственных необузданных желаний живут и любовники Шекспира.
Александрия в трагедии – это странное размагничивающее место, золотая клетка. В действительности двор Клеопатры, скорее всего, представлял собой довольно шумное и хлопотливое собрание государственных чиновников, сведущих в своём деле. Сомнительно, чтобы реальная Клеопатра, склонная как к учёным занятиям, так и к активной административной деятельности, проводила ночи без сна, сочиняя письма своему возлюбленному. Однако Шекспир воображает Александрию как город бездумной мечты, иррациональное место, далёкое от жизни и от политики. Его Клеопатра, когда Антоний уезжает и она остаётся одна в окружении служанок и евнухов, не знает, чем себя занять, её посещает ужасное предчувствие: что будет с Александрией, если в ней прекратятся пиры и празднества. Это, конечно, почти столь же скучно, как публичный дом без посетителей. Только страсть может оживить картину, но и страсть может наскучить. Как писал испанский философ Ортега-и-Гассет: «В душе влюблённого человека – тот же спёртый дух, что и в запертой комнате больного».
По мнению Шекспира, неумеренная любовь бессодержательна и абсурдна. В своих комедиях он неоднократно насмехается над напыщенным языком любовников. Секс в обыденной жизни, домашний, никем не воспеваемый, составляет забавный контраст с выспренними словами о любви. Комические противопоставления используются им постоянно и в «Антонии и Клеопатре». Пьеса полна возвышенных поэтических описаний любви Клеопатры и Антония и их взаимной страсти, приобретающей чуть ли не гиперборейские размеры. Одновременно на сцене мы видим двух вполне обычных людей, ведущих себя столь же глупо и непоследовательно, сколь это свойственно всем людям. Их отношения полны ссор и перебранок, и поверить в чувственный любовный экстаз, о котором они говорят, легче, когда их нет на сцене. Сочетание элементов возвышенной рыцарской поэмы и реалистической приземлённой бытовой комедии воспринимается как неуловимое глазом мерцание, придаёт особое ощущение, характерное для этой пьесы.
Позднейших критиков, писавших в то время, когда романтическая традиция уже воспринималась как норма, приводила в замешательство амбивалентность «Антония и Клеопатры». Вот что писал Джордж Бернард Шоу в предисловии к своей собственной версии Клеопатры:
«Шекспировская пьеса «Антоний и Клеопатра» должна бессознательно вызывать раздражение у нормального здорового гражданина, потому что, дав верную картину солдата, погрязшего в кутежах и попойках, и типичной распутницы, в руках которой такие типы обычно и оказываются, Шекспир после этого навешивает огромное количество риторики и сценического пафоса, чтобы придать их бесславному концу театральную возвышенность и убедить простаков-зрителей в том, что мир потерпел двойную утрату с их кончиной».
Оценка Шоу самой пьесы верна – в ней есть указанное несоответствие, но он слишком обобщает, полностью отвергая Шекспира. Джанет Эйдельман, американский критик, высказывается более сдержанно. Она пишет: «Это есть по существу трагическая история, обрамленная комической рамкой. Такое представление столь же предательски болезненно, как сама жизнь». Демонстрируя пропасть между грандиозными притязаниями эротических фантазий и банальными удовольствиями реальной жизни, Шекспир тонко и сочувственно говорит о любви как таковой.
После смерти Антоний приобретает во сне Клеопатры черты сказочного героя, колосса, величественного и подобного богам:
Его лицо так лучезарно было,
Как небосвод...
.........................
Он мог бы океан перешагнуть,
Его рука увенчивала землю,
Как гребень шлема. В голосе его
Гармония небесных сфер звучала...
.........................
Разбрасывал, как мелкую монету,
Он острова и царства...
Клеопатра спрашивает Долабеллу:
Как ты считаешь, – мог быть наяву
Приснившийся мне человек?
Он отвечает: «Нет». Это верно. Такого Антония нет даже в воображаемом мире пьесы. Тот Антоний, которого мы видим на сцене, раздражителен, вспыльчив, бесчестен, правда, он привлекателен, но никак не колосс. Такая же пропасть лежит между Клеопатрой, как её воображают действующие лица пьесы, и той Клеопатрой, которую мы видим и слышим на сцене. Проницательно заметила актриса Элен Терри: «Если бы она была представлена великой женщиной... роли не подходили бы друг другу». В то время как Энобарб описывает её как пусть сладострастную, но великую царицу, мы видим на сцене флиртующую нервную женщину, склонную к резким переменам настроения. Она причиняет массу хлопот слугам, чуть не убивает гонца, хвалится сексуальными победами, как незрелый подросток. Мы видим женщину, которой присущи все людские слабости, и однако в то же самое время Энобарб отзывается с восхищением о её сказочной привлекательности:








