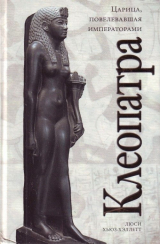
Текст книги "Клеопатра"
Автор книги: Люси Хьюз-Хэллетт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
Драматург XVII века Афра Бен считал, что куртизанка – «это торжествующая наглая штучка, которая обращает в рабство весь род мужской». Однако стоит этим рабам отвернуться в другую сторону, и слава куртизанки рушится как карточный домик. Поскольку власть, какой обладают Клеопатры-распутницы, держится исключительно на красоте, а красота, как справедливо замечает Клеопатра в пьесе Седли, – это прекрасный, но быстро увядающий цветок, она эфемерна. Кроме того, она не имеет своего собственного существования. У каждого своё представление о красоте, и в любой момент её может отвергнуть наблюдатель. Та женщина, что не добивается более существенной опоры, по-прежнему слаба.
Когда в воображаемом мире романтиков XIX века Клеопатра превращается в femme fatale, она на какое-то время утрачивает слабость, однако сексуальная мораль, которая предполагает, что женский характер полностью обусловливается и определяется её взаимоотношениями с мужчинами, остаётся прежней. Жена либо не жена, плоха или хороша, ответ всегда зависит от того, взял или не взял её под своё покровительство какой-либо мужчина. В эпилоге «Цезаря в Египте» Колли Сиббер полемизирует от имени автора с «Главной ханжой», которая считает, что «низменный огонь», каковым является внебрачная связь, как у Клеопатры и Юлия Цезаря, должна заканчиваться смертью и безысходным отчаянием. «Но разве красота и красавицы должны из страха отказываться от радости жизни?» – задаётся автор справедливым вопросом. Но, придя к очевидному отрицательному ответу, всё же не может на нём успокоиться. С тех пор никогда больше Клеопатре не удаётся достичь положения «приличной женщины», какой она была для авторов Ренессанса. На карикатуре начала XIX века Джеймса Джильрея изображён сэр Уильям Гамильтон, рассматривающий коллекцию портретов, среди которых находится также двойной портрет «Антоний и Клеопатра», под видом которых изображены его жена и лорд Нельсон. Имя Клеопатры стало синонимом адюльтера. Колридж с осуждением пишет о шекспировской Клеопатре: «Ощущение преступности её страсти чуть смягчается для нас, когда мы вглядываемся в её силу и глубину, однако в то же самое время нас не оставляет чувство, что сама эта страсть произрастает из привычных желаний распущенной натуры». В 1813 году миссис Сиддонс отклонила предложение сыграть роль Клеопатры, заявив, что она возненавидит самое себя, если сыграет такую роль.
Брак и преступление против брака – этим исчерпывается понимание Клеопатры на протяжении XIX века. В шекспировской пьесе, по мнению анонимного автора статьи в «Фрэзер мэгэзин» в 1849 году, «Клеопатра переживает унижение из-за того, что она не является женой Антония». Такое поразительное прочтение трагедии Шекспира могло сформироваться лишь на определённом моральном фундаменте. Виктор Гюго в 1868 году, отзываясь о той же пьесе, пишет о том поразившем его факте, что когда «разгневанная жена настаивает на своих правах в разговоре с куртизанкой, то нас трогает не она, нас трогает эта куртизанка!». Жена или куртизанка, куртизанка или жена. Две роли, из которых «слабая» женщина обязана была выбирать. Для того чтобы выжить, чтобы найти своё место в обществе, нужно было прежде всего добиться благосклонности мужчины. Ценой этой благосклонности был отказ от собственных природных сил и способностей, так как мужчинам не нравились сильные женщины. Характер Клеопатры, писал 1852 году популяризатор истории Якоб Эббот, сильно исправился в результате её взаимоотношений (по-видимому, без секса) с Юлием Цезарем: «Живость и подвижность её характера, которые в более поздние годы её жизни вылились в чудачества и горячность, теперь были смягчены и поставлены в должные границы тем уважением, какое она испытывала по отношению к Цезарю». Согласно Эбботу, брак влияет на женщин примерно так же: «Свойство чистой и законной любви – смягчать и подчинять сердца, пронизывая все действия смягчающим и умиротворяющим духом; в то время как те, что подобны Антонию и Клеопатре, взламывают барьеры, установленные для людей природой и Богом, стремясь сделать женщину мужественной и пылкой, укрепить её и разрушить природную мягкость и боязливость, которые столь неотразимо очаровательны в женщинах».
В 1853 году Люси Сноу, героиня романа Шарлотты Вройте, рассматривает типичное академическое изображение Клеопатры того времени. Люси описывает картину в характерном для неё сардоническом тоне:
«Она полулежала на кушетке, непонятно по какой причине, ибо кругом царил ясный день. А у неё был столь здоровый и цветущий вид, что она могла бы легко справиться с работой двух кухарок... Кроме того, ей следовало бы одеться поприличней... но и на это она оказалась неспособной; из уймы материала (полагаю, не меньше семидесяти пяти ярдов ткани) она умудрилась сшить какое-то куцее одеяние».
Мосье Поль оттаскивает Люси от картины в дальний угол.
«– А что случилось, мосье Поль?
– Она спрашивает, что случилось? Как вы, юная барышня, осмеливаетесь с хладнокровием какого-нибудь юнца сидеть здесь и смотреть на эту картину?»
Он усаживает Люси, отведя её подальше в «мрачный угол», где висели «безобразные картины».
«– Какой мрачный угол и какие безобразные картины!
Они и вправду были безобразны, эти четыре картины, объединённые под названием «жизнь женщины»... На первой, под названием «Юная девица», эта самая девица выходит из церкви; в руках она держит молитвенник, одета чрезвычайно строго, глаза опущены долу, губы поджаты – гадкая, преждевременно созревшая маленькая лицемерка. На второй была невеста, на третьей мать и на четвёртой вдова на могиле мужа. Все четыре «ангельских лика» угрюмы и бледны, как ночные воры, холодны и бесцветны, как привидения. Как можно жить рядом с подобной женщиной – лицемерной, унылой, бесстрастной, безмозглой, ничтожной! Она по-своему ничуть не приятнее, чем праздная, похожая на цыганку Клеопатра».
Немного позднее Люси спрашивает мосье Поля, какого он сам мнения о Клеопатре. «Она никуда не годится. Роскошная женщина – осанка царицы, формы Юноны, но я бы не пожелал её ни в жёны, ни в дочери, ни в сёстры».
Итак, наконец, язвительный женский ум противопоставляет себя двум устоявшимся стереотипам женской слабости, в пределах которых, начиная с Реформации, варьировались легенды о Клеопатре: первый – это зависимая и самоотверженная жена, второй – домогающаяся мужчин проститутка. Несмотря на девственность, Люси Сноу имеет черты, что роднят её с типажом Клеопатры-проститутки, как он виделся в XVII веке. Люси так же экономически независима и не выносит ханжеской и жеманной общепринятой дамской морали. Однако, в отличие от них, она – хорошая. Этот персонаж Шарлотты Бронте говорит твёрдое «нет» в ответ на ограничения «либо – либо», накладываемые на женщин. Это не значит, что Люси Сноу лишена слабостей. Платой за проявленное мужество является эмоциональная подавленность и сексуальные ограничения: отчаянная жажда независимости доводит её до состояния нервного срыва. Однако она находит в себе умственные силы, помогающие ей выстоять. Она отвергает в качестве жизненного образца модель «хорошей» жены и насмехается над воображаемым очарованием «плохих» любовниц. Тем самым она расчищает для себя внутреннее психологическое пространство, в котором может развиваться самостоятельно, не пытаясь втиснуть себя в прокрустово ложе ограничивающих моделей. Показательно, что образ Клеопатры используется автором, чтобы продемонстрировать готовность героини идти своим собственным путём. Со времён Реформации те чередующиеся образы Клеопатры, которая представала то в виде псевдожены, то в виде проститутки, или в образе женщины, безуспешно мечтающей о браке, или любовницы, были живой демонстрацией ограниченности возможностей выбора, предоставленных женщинам. В точности так же, как Люси невозможно представить похожей на домашнего ангела или на цыганку, ни один из авторов XVII—XVIII веков не мог создать основу, достаточно широкую и гибкую для изображения Клеопатры – любовницы, бывшей одновременно безжалостным политиком, царицей, интересующейся философией, и матерью-одиночкой.
7
ЦАРИЦА

«Трагедия Клеопатры» Томаса Мэя начинается со сцены, где группа приближённых Антония обсуждает нежелательные последствия страсти Антония к царице, то, как это дурно сказывается на его репутации и на его характере, как аморально с его стороны по отношению к собственной жене впутаться в любовную историю. Высказываются приличествующие случаю чувства, и течение беседы вполне предсказуемо до тех пор, пока вдруг не вмешивается Канидий:
Какое дело нам до того,
С кем развлекается Антоний?
Клеопатра и её прислужницы могут увлекаться любовью, неважно, истинной или притворной, но у мужчины есть более важные дела для обсуждения – такие, как тирания и свобода, долг и принципы, права граждан и конституция, наиболее подходящая для управления хорошо организованного государства. В течение двух веков, когда в Англии, Америке и Франции бурно обсуждались демократические формы правления, драмы и трагедии о Клеопатре и её похождения часто были не чем иным, как декорацией для обсуждения тех реальных политических или литературных идеологических проблем, которые волновали мужчин того времени.
Среди занятий, «каковые ослабляют и ведут к разрушению благосостояния», Томас Гоббс в 1651 году называл и чтение «историй древних римлян и греков». Такие истории сеют смуту, столь убийственную, в понимании Гоббса, как и бешенство, поскольку они могут внушить «молодым людям и другим, кто не обладает достаточным противоядием здравомыслия», что «подданные демократических государств наслаждаются свободой, а при монархическом управлении они не что иное, как рабы». Так писал Гоббс, находясь в ссылке в Париже, где исполнял должность учителя математики при бежавшем из Англии юном Карле Стюарте, недавно лишившемся отца, короля Карла I. В Англии всходила звезда судей-цареубийц, во Франции регентство Мазарини периодически трясла Фронда. Гоббса можно подозревать в том, что его рассуждения навеяны современными событиями, но в одном он безусловно прав. Возрождение классического образования в Европе совпадает с возобновлением дебатов, которые в Риме прекратились после того, как Октавий получил в свои руки абсолютную власть и создал бюрократическое централизованное правительство.
К этим аргументам со времён Реформации и до Французской революции всегда прибегали, ссылаясь на античные источники. Никколо Макиавелли в комментариях к Титу Ливию предложил римскую республику как образец мудрого управления, хваля Брута как освободителя и ругая Юлия Цезаря за тиранию. Сторонник авторитарности Жан Боден, философ и политический мыслитель, писал в 1576 году, отвечая и Макиавелли, и всем тем, кто «превозносит до небес римскую республику», рекомендуя им припомнить «зло разногласий и беспорядков, какие она влечёт».
Английский монархист Роберт Филмер вторит ему в «Патриархах», написанных в 1630 году, но изданных только после Реставрации: «Демократия ещё хуже тирании... цена за римскую свободу... та, что не исключает возможность быть убитым. Такое не может быть одобрено при монархическом правлении». Для политической мысли того периода и последующих теоретиков государственного устройства города-государства античной Греции и в ещё большей степени пример древнеримской республики были пробным камнем и критерием, примерами par excellence[15]15
Преимущество в силу превосходства (фр.).
[Закрыть]. Ла Калпренеда призывает «держащих в руках скипетр», то есть всех царствующих особ, объединиться против республиканцев-римлян, которые являются «врагами рода человеческого» вообще и королей в особенности. Любой восставший был Брутом, любой военный диктатор – Помпеем. Убийство Юлия Цезаря было постоянным примером во всех дискуссиях по поводу тираноубийства. Ну, и конечно, когда речь шла об абсолютной власти, неизменно вспоминался старый неприятель Клеопатры – Октавий Август.
Октавий был для демократов тех времён воплощением всего, что они ненавидели. Монтескье называет его «ловким тираном». Вольтер идёт дальше: «Человек, лишённый стыда, чести, совести и веры, вероломный и неблагодарный, жадный и подлый, хладнокровно идущий на преступление...» Напротив, для придворных того времени он был высшим воплощением славы монарха. Шарль Перро заявлял, что правление Людовика XIV можно справедливо сравнить с «Золотым веком Августа». Несомненно, что такое сравнение польстило королю. А потом уже сам король возжелал нарядиться Аполлоном для версальского празднества, прикатил на бал в золотой карете и по собственному желанию позировал художнику Жану Нокре, одетый в традиционные для римского Аполлона одеяния.
Обе любовные сюжетные линии в легенде о Клеопатре получили соответствующую политическую окраску. Когда Юлий Цезарь прибыл в Александрию, он уже разделался со своим основным соперником. Его связь с принцессой, особой королевской крови, вписывалась в сюжет и казалась иллюстрацией его продвижения к наследственной диктатуре, следующей монархической модели правления. И хотя соперничество мёду Октавием и Антонием было прежде всего борьбой двух честолюбцев, но в те времена их взаимоотношениями вскрывался характер происходящих политических изменений: позади – республика, впереди – империя. «Величие вашей власти потрясает небеса!» – говорит Агриппа Октавию в трагедии де Бенсерада. Смерть Клеопатры открыла новую эру неведомой до тех пор абсолютистской власти. По мысли большинства из тех, кто писал об античном государственном устройстве, – именно в этом главный смысл и значение событий, связанных с Клеопатрой.
Мораль, выводимая из легенды о египетской царице, варьировалась в зависимости от взглядов авторов и доступности источников, из которых они черпали сведения. Наиболее полно пребывание в Египте Юлия Цезаря описано в «Фарсалиях» Лукана. Ими пользовались как источником Сиббер, Флетчер, Мэй и Пьер Корнель. Несмотря на то что какое-то время Лукан вращался при дворе Нерона, сам он был страстным противником империи и в возрасте двадцати пяти лет поплатился за свои взгляды. Его вынудили к самоубийству, поскольку он был замешан в заговорщической деятельности Пизона и «не только публично прославлял тираноубийство, но и похвалялся друзьям преподнести в подарок голову Нерона». Устами Пофина, евнуха Птолемея XIII, Лукан говорит: «Дворец – не место для честного человека, добродетель не согласуется с монархией».
Через тысячу пятьсот лет эта проблема всё ещё оставалась на повестке дня. «Наши предки не зря пустили в оборот крылатую фразу «из дурного человека выходит хороший король», – писал Жан Боден, отстаивая необходимость жёсткого управления. Макиавелли, правда, преследуя другие цели, приходил к такому же выводу. Князь должен быть готов отказаться отданных им обещаний, предать союзников, приговорить к смерти подданных, поскольку «тот, кто лучше умеет притворяться, тот и достигнет большего успеха». В 1620 году Пофин у Джона Флетчера повторяет Лукана:
Не дальше звёзды от земли удалены,
Чем выгода от честности...
Присущая королевской власти аморальность вызывала живой интерес современников.
Противоположные и во многом более автократичные взгляды Диона Кассия послужили важным источником для другой интерпретации легенды о Клеопатре. У Диона Кассия Октавий советуется с Меценатом и Агриппой, как ему следует дальше управлять Римом. Агриппа рекомендует ему сложить с себя власть, то есть вернуть сенату его конституционные права, и говорит несколько подходящих фраз о пользе демократии. Однако Меценат в гораздо более пространной и убедительной речи уверяет Октавия, что давать народу власть – это всё равно что «вкладывать меч в руки ребёнка или сумасшедшего»: «Ибо пресловутая свобода черни является самым горьким видом рабства для людей достойных и одинаково несёт гибель всем. Напротив, свобода, везде ставящая на первый план благоразумие и уделяющая всем справедливое по достоинству, делает всех счастливыми.
Ты не думай, что я советую тебе стать тираном и обратить в рабство народ и сенат. Этого мы никогда не посмеем: ни я – сказать, ни ты – сделать.
Но было бы одинаково хорошо и полезно и для тебя, и для государства, если бы ты с лучшими людьми диктовал законы, а чтобы никто из толпы не поднимал голос протеста».
В одной за другой пьесах драматургов XVII—XVIII веков Агриппы (Агриппа в жизни, как известно, был верным сторонником Октавия и никогда не помышлял об отказе того от верховной власти) произносят патетическую речь в защиту подавленного плебса, а Меценаты почти дословно цитируют Диона Кассия. Спор не потерял своей остроты.
По всей Европе сравнительные достоинства демократии, олигархии и автократии оспариваются либо мечом, либо пером.
Из-за этих споров образ Клеопатры приобретает черты тех идеологий, которым следуют авторы и драматурги тех столетий. Некоторые писатели XVII и XVIII веков сверяются с античными источниками, но большинство интерпретируют легенду о Клеопатре в том ключе, который может, удовлетворяя их вкусам, понравиться современной им публике. Пьер Корнель, взяв за основу лукановские «Фарсалии», делает из этого, по сути республиканского и эгалитарного текста трагедию, в которой центральной темой является превосходство знатных особ, благородных по праву рождения, и в особенности королевской особы. Чарльз Седли, писавший после реставрации Стюартов и предназначавший пьесу публике, на чьей памяти ещё происходила казнь Карла I, рисует Октавия как расчётливого политика, склонного при этом к мании величия и мечтающего о мировой империи, который запугивает и обманывает сенат. Мудрецы неодобрительно качают головами, а Агриппа горестно замечает, что первые римляне купили свободу, «этот драгоценный дар», ценой своей крови, когда свергли древних царей:
Мы, рождённые свободными, бились с тиранами,
Чья гнусная суть – радоваться нашим цепям.
В совершенно противоположном духе написана «Клеопатра» Мармонтеля, впервые поставленная на придворной сцене королевской «Комеди Франсез» в 1750 году. Преимущества единоначалия активно подчёркиваются, и Октавий, хотя признает, что свобода иногда и удобна, с сожалением объясняет, что
Народ этого теперь не достоин.
Рабы по натуре, нравится нам это или нет, но они распродадут
Свободу на рыночной площади из жажды наживы.
Чтобы уберечь их от этой слабости и от беспринципных учителей, необходим сильный лидер. Благородно возложив на себя самого сию нелёгкую задачу, Октавий соглашается стать их диктатором и тем самым принести им отдохновение, приятное и счастливое состояние «мирного рабства».
В каком бы стиле авторы ни представляли Октавия, но этот персонаж был всегда – не важно какой, плохой или хороший – однозначен. С Клеопатрой дело обстояло сложней. Если рассматривать её саму по себе, то она – представительница наследственной монархической власти, варианта автократического государства, которое уже представлено Октавием. Если её брать в тандеме с Антонием, то речь может идти об олигархическом правлении с опорой на родовую аристократию, которая на протяжении XVII и XVIII веков последовательно оттиралась в сторону монархами, стремящимися к прочной централизованной власти, поддерживаемой выслужившейся буржуазией. В трагедии, впервые опубликованной в Болонье в 1628 году, Клеопатра описывает Октавия (с заметной долей снобизма) как «ловкого» и «двуязычного». Она же, как представитель благородного и славного древнего царского дома, воплощает в себе «благородную верность и бестрепетное мужество». Октавий для публики того времени был воплощением нового, более эффективного, но менее романтически привлекательного порядка. Конституционная монархия во Франции, где Людовик XIV выступал в альянсе с Кольбером, или Англия после 1688 года были заполнены новым дворянством – noblesse de robe[16]16
Знатность «по одёжке» (фр.), то есть дворянские титулы полученные, а не унаследованные.
[Закрыть], – и Октавий ассоциировался с этим новым строем. Антоний же и Клеопатра в пьесах того времени были высокомерны и знатны, благородны от рождения, но не умели ни управлять, ни подчиняться. Их кичливость, неуправляемость и независимость были сродни спеси и своевольству князей и графов средневековой Европы. Антоний в пьесе Седли гордо отказывается заключить мирный договор, который чреват обязательствами Риму, поскольку он не собирается «подчиняться государству». Клеопатра в трагедии Каппони взбешена ответом Октавия, когда он сообщает ей, что должен обсудить её дальнейшую судьбу с сенатом. Она согласна иметь дело с ним, единовластным правителем, но не допускает даже мысли о том, чтобы её участь обсуждалась на каком-то нелепом собрании. Вздорный характер аристократии не пользовался популярностью ни у демократов, ни у диктаторов. Кроме того, в XVII и XVIII веках, так же как и в Риме эпохи Августа, они всё ещё представляли собой угрозу централизованной власти. Октавий в трагедии «Клеопатра» Александра Соумета провозглашает намерение установить свою власть и привести к единому правлению «все эти народы, которые трясутся под гнетом своих царей». Меценат у Диона Кассия советовал Августу приблизить и держать при себе людей «благородного происхождения, высокой чести и большого богатства». «Таким образом в вашем распоряжении будут и помощники, и безопасность, так как вы соберёте и будете удерживать главных людей всех провинций. Потому что эти провинции, лишённые признанных лидеров, не решатся восстать». Умный совет, которому последовал (хотя, возможно, и не зная об этом) Людовик XIV, собравший вокруг себя в Версале весь цвет французской аристократии.
В тех пьесах, где Антонию и Клеопатре отведены роли спесивых аристократов, обычные доводы в пользу монархии используются против них. Эти доводы – самого разного порядка: начиная с обыденно-практических и кончая религиозными, каковые, как правило, имели наибольшее значение. Роберт Филмер ссылается на св. Иоанна Златоуста[17]17
Иоанн Златоуст (ок. 347—407) – один из величайших отцов церкви, толкователь Библии и проповедник, в 398—407 годах – архиепископ Константинополя.
[Закрыть]: «Бог сотворил род человеческий из одного человека, потому что он хотел научить людей жить под управлением короля, а не под руководством многих». Короли правят Божьей милостью, утверждал Жак-Бенинь Боссюэ, потому что, когда дети Израилевы оказались в пустыне, они молились Господу, чтобы дал им предводителя, а не позволил остаться как овцам без пастуха. И ещё более убедительный пример единого управления, чем предводительство Моисея, был дан самими небесами. Как это популярно излагает Агриппа в пьесе Гарнье,
На небесах, известно, Бог – един,
Вот и внизу в миру – монарх один.
Клеопатра, пытаясь противостоять попыткам Октавия захватить власть над миром, таким образом не только искушает его соблазном, но и бросает еретический вызов монотеизму. «Кто посягает на суверенного господина, тот посягает на Бога, чьим представителем он является», – пишет Боден.
Религиозные обоснования монархической власти часто завершаются, а иногда и подменяются примерами из жизни природы. Так, Гарнье написал «Гимн монархии», где сравнивал королевство с пчелиным ульем – правильно организованным сообществом, где все члены привязаны к королеве и эффективно работают на неё и тем самым косвенно и на себя, ко всеобщему благу. В пьесе Каппони один из подданных Клеопатры сравнивает царей с солнцем, дающим всем тепло и свет, или с ветвями могучего дуба, под которым укрываются и растут под защитой другие более мелкие растения. Но наиболее распространённым символическим образом монархического государства было сравнение его с патриархальной семьёй. «Разве не кажется нам, – писал Филмер, – что в любой семье естественным образом управляет кто-то один». Адам, первый человек, по мнению Филмера, был первым царём. После потопа, когда люди рассеялись по всей земле, каждый род имел своего патриарха, и от этих патриархов произошли современные короли. «Так было и так будет до конца времён – естественное право авторитета прародителя над любым множеством лиц».
Клеопатра и Антоний, сопротивляющиеся авторитету Октавия, ведут себя как непослушные дети, которые восстали одновременно против будущего патриарха (реальный Октавий после победы над ними принял титул «Отца римского народа») и против святого института семьи – главного оплота государства. Адюльтер и видимость детскости (их родительские роли редко находили отражение у писателей и художников) очень хорошо вписывались в сюжет. Философы и политики от Аристотеля до Маргарет Тэтчер признавали связь между иерархическим устройством семьи и централизованным государством. Мятеж Клеопатры, разрушительницы чужого брака, и Антония, неверного мужа, имел не только сексуальный, но и политический смысл. Когда Октавий по ходу пьесы (а это бывает часто) заявляет, что он хочет отомстить за оскорбление сестры (Октавии), то это не всегда преувеличение. Отказываясь занять место в иерархической структуре семьи, предпочитая делать выбор по собственному усмотрению, Антоний задевает не только личную гордость Октавия, но и выступает против его политических убеждений. Как говорил Боден, семья, которая имеет «лишь одного главу», – «истинный образ» автократического государства.
Если Октавий (и Клеопатра в роли царицы) мог представлять монархические взгляды, а Антоний (и снова Клеопатра, но уже как его сподвижница) – аристократическую олигархию, то взгляды демократического клана теоретиков тех времён остались на долю второстепенных лиц. Октавий в пьесе Седли говорит, что для хорошего самочувствия ему необходимо, чтобы его приказы выполнялись беспрекословно. На косвенное возражение («Люди сражаются лучше, когда понимают зачем. И к чему плодить недовольство?») он раздражённо заявляет, что обсуждать это с чернью «ниже моего достоинства».
Так что ни Клеопатра, ни Антоний, ни Октавий, в каких бы одеждах они ни выступали, не годились для выражения эгалитарных демократических представлений. Поэтому глас народа в этих пьесах часто исходит от египтян. И у Седли, и у Драйдена в пьесе «Всё за любовь!» подданные другой расы высказываются и против тирании, и за право нации на самоопределение. Алекс у Драйдена пылко выступает против тиранов любых форм и видов и считает, что их надо искоренять мечом. В пьесе Мэя двое египтян, обсуждая гражданские войны в Риме, соглашаются между собой в том, что всё это – следствие строительства Римской империи. Попытка римлян завоевать весь мир «смертельна для любых аборигенов». Так, в коротком разговоре двух незначительных персонажей в легенду о Клеопатре впервые была введена мораль о вреде империализма.
Ни в одной из подобных политических дискуссий сама Клеопатра участия не принимала. Ни глупая домохозяйка, ни соблазнительная шлюха не интересовались политическими теориями. Клеопатра, легендарный знаток языков, участница множества дипломатических переговоров, друг философов и участница их диспутов, превратилась в эти века в безмозглую и пустую женщину – неважно, собственно, кокетку или курицу, которая использует государственные бумаги только как папильотки или мусор для растопки. Но хотя Клеопатру полностью лишили возможности понимать абстрактные суждения, всё же она как персонаж выражала определённые принципы. Вместе с Антонием – принципы аристократии, а сама по себе – монархический принцип наследственной власти. Вопрос о наследственном праве вызывал живейший интерес, он так или иначе затрагивается почти во всех версиях легенды о Клеопатре.
Из всего того, что написал Плутарх о Клеопатре, наиболее часто упоминаемыми оказались строки, где Хармиона перед смертью комментирует самоубийство своей госпожи: «Да, поистине прекрасно и достойно преемницы стольких царей!» Клеопатра, как представительница царской династии, была «благородной». Понятие «благородный» изначально имело смысл – «значительный по рангу, титулу или рождению», но с начала XVI века стало постепенно меняться и приобрело впоследствии второе значение – «имеющий высокие моральные заслуги, выдающийся по доброте или по великодушию характера». Такое значение касалось уже не нового круга или слоя высшей знати, а переводило понимание в другой контекст, противопоставленный старому. Если для Средневековья из сообщения о том, что кто-то является «значительным по рангу, титулу или рождению», автоматически следовало, что это человек, «выдающийся по доброте или по великодушию характера», то теперь эти понятия разъединились. Написанная в прозе вымышленная «Клеопатра» Да Калпренеды вдвойне анахронична. Это одновременно и слишком ранняя повесть, и уже устаревший куртуазный роман, со свойственной ему системой ценностей. Так, после описания любви Клеопатры и Юлия Цезаря Да Калпренеда пускается в подробнейшее описание истории Бритомара, юноши необыкновенной красоты и утончённейших манер, прекрасного наездника, непобедимого участника турниров, изысканного поклонника женского пола. Этот персонаж из-за предполагаемого низкого происхождения не может сразиться на дуэли за принцессу, в которую влюблён. Длинное описание дано, чтобы стала ясна несправедливость употребления эпитетов «низкий» или «подлый» по отношению к такому прекрасному юноше, которому так не повезло – он «низкого» происхождения. Единственная беда Бритомара заключается в том, что другие персонажи слишком тупы, чтобы понять, что человек столь высоких достоинств, конечно же, является скрытым принцем. Такова ткань романа. Здесь же и завязка трагедии. Высокое социальное положение Клеопатры делает её подходящей героиней. Для трагедии, согласно Аристотелю или его ренессансным подражателям, необходимо, чтобы главный герой был достаточно высокого ранга, чтобы было откуда падать и чтобы падение вызывало достаточное чувство жалости и ужаса.
Итак, в литературе всё ещё делались попытки сохранить анахроничную систему ценностей, оставшуюся в наследство от средневековой рыцарско-аристократической Европы. В 1528 году Кастильоне задаётся вопросом, является ли благородное происхождение «только достоянием наших предков или и нашим собственным?». В течение последующих двух столетий такой вопрос всплывает неоднократно, и ответ на него не всегда оказывается ясен.
Корнелевский Цезарь заявляет, что римская доблесть включает в себя «ненависть к именам и отвращение к рангам». Цезарь у Колли Сиббера говорит брату Клеопатры, что он презирает унаследованные титулы: «Что наследуют от предков, то в руках слепой фортуны». Однако такой поверхностный эгалитаризм не надо принимать за чистую монету. В обеих пьесах стремление Клеопатры к браку вызвано её возвышенными понятиями о жизни, каковые в свою очередь есть результат её высокого происхождения.
Величие отнюдь не всегда сопровождается добродетелью или политической прямотой. Герой не обязательно является святым. И точно так же как самоубийство одновременно осуждается и воспевается, так и высокомерие знатной персоны может заслужить одобрение даже у демократа. «Быть государем, – говорит Октавий в пьесе Дэниела, – это больше, чем быть человеком». Он обращается при этом к Клеопатре. В этой пьесе, где её принадлежность к царскому роду является основной характеристикой, Клеопатра меньше, чем обычно, страдает от женских слабостей. Стандартные женские недостатки: хилость, робость, хитрость, двуличие – это всё принадлежности «низшего» класса. Клеопатра, когда она отождествляется с «государем», лишена этих недостатков, ведь эти известные дамские слабости, возможно, просто следствие, а не причина их приниженного социального статуса.








