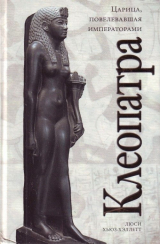
Текст книги "Клеопатра"
Автор книги: Люси Хьюз-Хэллетт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
В роли царицы Клеопатра обладает смелостью и решимостью. «Помни о том, какого ты рода», – напоминает Клеопатра Арсиное в тот момент, когда во дворце идёт отчаянное сражение. Две сестры остаются царственно спокойны, когда их слуги трепещут:
Вы из рода царского.
Дочь царя. Сестра царя. Свойственно вам
Духа величье. Но я, скромная ваша служанка,
Страха сдержать не мшу.
Когда приносят труп Птолемея и Арсиноя начинает рыдать, Клеопатра недовольно говорит:
Низкие люди делают так, но ты
Учись умирать достойно.
Смелость высокородной Клеопатры Пьер Корнель именует «благородной и приличествующей гордостью». Великая Клеопатра никогда не загрязнит себя.
Тому, кто в чести рождён, рабская жизнь
Противней, чем смерть, —
так заявляет советник Клеопатры в пьесе Каппони. Дэниел, де Бенсерад, Седли, Мармонтель и Дельфино – все как один уверяют нас, что Клеопатра слишком высокого рода, чтобы перенести унижение её царства. В этих пьесах она умирает по довольно неясным причинам, возможно, не желая, чтобы окружающие сочли её «подлой» или «низкой», что было синонимами. Такая странная причина проясняет неразрывность связи между ней самой и её ролью царицы. Если она не остаётся царицей, то всё кончается – и самоуважение, и добродетели. Её собственные качества не имеют значения: её величие, её честь полностью зависят от занимаемого ею места в социуме или от её влияния на политической арене. Антоний в пьесе Седли настаивает: «Государь не отступает никуда, кроме как в могилу». «Никто, – объявляет Клеопатра в трагедии кардинала Дельфино, – не заставит меня склонить голову перед силой меньшей, чем смерть». Рождённые править не могут согласиться с тем, чтобы ими управлял какой-либо простой смертный, они также не могут позволить себе ошибаться, иначе основание их королевской власти будет подорвано. Такое настаивание на королевской гордости, которая во всех иных контекстах воспринималась священнослужителями как грех, в случае с Клеопатрой вызывает необыкновенное восхищение у кардинала.
Честь обязывает таких царственных Клеопатр соответствовать запросам своего высокого ранга. Им также предписано чёткое соблюдение некоторого кодекса чести. В частности, они обязаны тщательно соблюдать законы гостеприимства. Клеопатра в пьесе Мэйре объясняет Октавию (и он соглашается с её объяснением), что она принимала в Египте Антония потому, что этого требовал этикет: как гостеприимная хозяйка она не могла отказать ему в помощи и поддержке. Это был её долг. Клеопатра у Пьера Корнеля потрясена, когда слышит, что её брат намеревается убить Помпея, гостя их страны. Такой подлый и неблагородный план, она уверена, не мог зародиться в голове её брата, он внушён кем-то со стороны: «Когда государь полагается на свои собственные суждения, они всегда несут печать благородства». Юный Птолемей должен отвергнуть дурные советы Ахилласа и Пофина и положиться на возвышенные принципы, которые с пелёнок знают и сердцем чувствуют люди благородного происхождения.
Храбрость в бою, несгибаемость в отстаивании своего места в иерархии, прямая и откровенная враждебность без хитростей и уловок, иными словами – «величие», как оно понималось в XVII и XVIII веках и как очень многими продолжает пониматься и сейчас, – это неотъемлемые качества, квинтэссенция мужской доблести. Этот примитивный кодекс чести уходит корнями в немыслимую даль времён. Гомеровский Ахилл укрылся в своей палатке, так как обиделся на Агамемнона за то, что тот не так с ним обошёлся. И Клеопатра решила пожертвовать жизнями (своей и своих приближённых), только бы не уронить своего достоинства царицы. Романтико-героические сказания сохранили в западноевропейском сознании понятия чести племенных вождей норманнов, чьё выживание зависело от преданности военному главарю, физической крепости и смелости, а также от благородства и терпения тех соседних племён, на чьих землях они оседали. Этот древний кодекс чести, который помогал выживанию, и сейчас ещё формирует образы вымышленных героев в современной западной культуре. Кроме того, он влияет, иногда достаточно сильно (и, как правило, неблагоприятно), на наши государственные институты.
Клеопатра, как царственная особа, стоит особняком по отношению ко всем остальным действующим лицам: голубая кровь удерживает её от контактов с людьми низшего ранга. В пьесе Флетчера Пофин, предлагающий ей замужество, с негодованием отвергнут из-за «грубости... ещё более низменной, чем его род». Долабелла предполагает, что он нравится Клеопатре. Она жестоко высмеивает его, не понимая, как он мог предположить, что она согласится на любовь плебея. Точно так же поступает Клеопатра в пьесе Седли, резко оборвав признания в любви Тиррея: «Римляне все с сердечным изъяном, когда речь идёт о монархах». Как и историческая Клеопатра, сия вымышленная героиня считает, что принадлежит к древней расе, не сравнимой с римскими выскочками. Она не может себе позволить такое неблаговидное смешение кровей.
Идея о принципиальном превосходстве прирождённых дворян или особ королевских кровей над простыми смертными выдвигалась в разных видах и вела к разным политическим выводам. Во многих драмах XVII—XVIII веков Клеопатре отводилась роль молчаливой свидетельницы яростных дебатов, разворачивающихся между сторонниками авторитарной власти и демократами. Аристотель считал, что человеческий род делится изначально на «тех, в чьей природе править и творить», и тех, кто «по природе раб». Боден пошёл дальше. «Дурные и порочные, каковых большинство», не имеют права на управление. «Способность управлять не может быть равной у всех, как хотелось бы сторонникам народного государства, потому что все мы знаем, что некоторые по разумению своему недалеко ушли от тупой скотины, а в иных свет божественного разума таков, что они скорее кажутся ангелами, чем людьми». Вымышленная царица Клеопатра, которая благодаря голубой крови отличается невероятной смелостью и гордостью и потому превосходит обычных людей, – яркая иллюстрация к сказанному Боденом. Такого рода Клеопатры созданы, чтобы исподволь внушить повсеместную веру в то, что некоторые качества классов обусловлены и передаются только по наследству, следовательно, настоящим правителем может быть только тот, кто уже принадлежит к господствующему классу.
«Высокой добродетелью», о которой идёт речь в пьесе Пьера Корнеля, обладают в основном представители царского рода, но не только. Военные или политические успехи вкупе с достаточным богатством могут сделать человека «добродетельным». Простой человек может стать великим, если у него есть свой частный доход. Но «низким торгашам, что сражаются за деньги», доверять нельзя. Так считает Клеопатра в пьесе Седли. Те, кто получает плату, не заслуживают доверия. Их денежный интерес вызывает подозрение. Но великие мира сего (такие, как Антоний, Октавий, Цезарь) могут разговаривать с Клеопатрой на равных, поскольку инстинктивное взаимопонимание между людьми, обладающими огромной властью, таково, что позволяет стереть границы между монархией и аристократической республикой. Корнелевский Цезарь заявляет, что испытывает отвращение к рангам и ненавидит титулы, а у Колли Сиббера объявляет себя республиканцем, но в обоих случаях Клеопатра совершенно права, предполагая, что Цезарь, как и она, достаточно благороден, чтобы негодовать по поводу смерти Помпея. Величие можно завоевать, а также и унаследовать. В этом оно схоже с богатством. Действительно, эти понятия пересекаются и в реальности (деньги дают власть, власть управляет деньгами), и символически. Древняя традиция, рисующая великого вождя как распространителя и расточителя благ, иллюстрирует эту связь. Так поступает и Клеопатра, которая на своём знаменитом банкете демонстрирует и своё огромное богатство, и властное аристократическое пренебрежение им (когда она растворяет жемчужину).
Пир Клеопатры был очень популярным живописным сюжетом в течение двух столетий перед Французской революцией. Вереницы ковров, предназначенных украшать реальные пиры и банкеты, были посвящены знаменитому пиру Клеопатры. Художники использовали этот сюжет, дававший простор пышным и многоцветным украшениям. На ковре XVII века фламандской работы миловидная Клеопатра, чуть глуповатая, с аккуратно уложенной причёской, угощает Антония al fresco в тени узорчатого лиственного шатра цветущих плодовых деревьев. Стол и земля вокруг усыпаны розами и садовыми гвоздиками. Празднично одетые пажи несут блюда с яблоками и грушами. Всю композицию обрамляет гирлянда цветов и фруктов, символизирующая полноту жизни и веселья. Этот праздник чувственного довольства – лишь одна из сторон пира Клеопатры. Веселье и хвастовство часто идут рука об руку. Приход гостей – прекрасный повод похвастаться своим несметным богатством, и сказочное угощение на пиру у Клеопатры – это такой же продуманный элемент мифа, как и прикуривание сигар от банкнот в мифах о современных миллионерах.
«Укрась свою столицу, – советует Меценат Октавию. – Не скупись на траты и обустрой фестивали, праздники, игры разного рода. Для нас, у кого в управлении множество народов, будет верным, если мы превзойдём их всех и докажем своё превосходство во всех областях». Демонстрация богатства, приятные пиры и празднества, прекрасные дворцы и роскошные одежды – всё это внушает благоговение и страх и тем самым укрепляет власть. Реальные властители заботятся о том, чтобы их власть приобрела зримые и всем понятные формы, поскольку в результате такой демонстрации они её ещё больше подкрепляют. Властителю это приносит самоудовлетворение, он одним махом убивает двух зайцев: хвастается своей властью и получает в обмен ещё больше той же самой власти. Лаура д’Эсте, в XVII веке – одна из богатейших дам Италии, пожелала запечатлеть себя в образе Клеопатры. Она смотрит на нас с картины Бачаччо холодным уверенным взглядом, опуская в золотой бокал жемчужину величиной с голубиное яйцо. Корона лежит рядом на блестящей поверхности мраморной столешницы. Композиция в целом подтверждает старую истину о том, что где богатство, там и власть.
Это и другие подобные изображения Клеопатры на картинах XVII—XVIII веков были отражением представлений их заказчиков о том, как выглядит богатство и знатность. Их взор тешило великолепие, которым славились и они сами: парчовые одеяния, дамасский шёлк, тонкие кружева. Рукава, отороченные мехом горностая или пышными складками кружев. В причёску вплетены жемчуга, золотые цепочки украшают верх платья, на шее ожерелья из изумрудов и рубинов. Роскошные туалеты почти заполняли пространство картины, подавляли изобилием дорогих тканей. Значение таких изображений не только показать принадлежность к избранным – королям, аристократии. Они представляют собой не только доказательство величия, но и богатства. На многих картинах, как, например, на полотне Тревисани, Клеопатру окружает огромное количество золота: золотые блюда на столе, золотые подсвечники по стенам, и даже на полу рядом с ней – золотые чаши и подносы. Золотая сервировка обеда в Александрии восхищает богатых заказчиков картин. Их уважение и восхищение вызвано не сказочной иностранкой, а своим родным богатством, удовольствием созерцать то, что они могут себе позволить.
Семейство Лабья, заказавшее серию фресок о Клеопатре художнику Джанбаттисте Тьеполо, было из nouveau riche[18]18
Нувориши (фр.).
[Закрыть] – богатые торговцы тканями, они заплатили солидную сумму за внесение своего имени в золотую книгу венецианской знати. Они славились кичливостью и чрезмерной пышностью нарядов. Предок заказчика Тьеполо в своё время закатил ужин, где гостям подавали блюда на золотой посуде, которую по окончании пиршества выбросили в один из венецианских каналов. Тьеполо изобразил Клеопатру во главе стола, который также сервирован драгоценным металлом (на эскизе фрески, хранящемся в Лондонской национальной галерее, имеется ещё и буфет, буквально забитый до отказа золотыми тарелками). Заказчица – вдова (как и Клеопатра) – была знаменита коллекцией сказочно дорогих драгоценностей, и ей, конечно, должно было доставлять большое удовольствие принимать гостей в комнатах, украшенных изображениями египетской царицы, с которой она могла сравниться по богатству.
Легенды о Клеопатре-царице и её двух возлюбленных – подходящий сюжет для развлечения королевских придворных. Драматические постановки, музыка, балет – всё было использовано. Знаменитые музыкальные драмы XVII века не сходили с европейской сцены вплоть до конца XVIII века. Многие из них сопровождались балетными постановками. Некоторые, как, например, героический балет Фузильера, впервые поставленный на сцене в королевских апартаментах Версаля, где роль Клеопатры исполняла герцогиня де Бранка, были предназначены только для избранного круга. Другие пользовались широкой популярностью: музыкальная трагедия Антонио Сографи «Смерть Клеопатры» на протяжении двадцати лет трижды шла в Венеции, два раза ставилась в Лондоне и по разу в Вероне, Триесте, Генуе, Модене, Неаполе, Парме и Париже. Эти постановки отличало особое внимание к специальным сценическим эффектам. Во французской эпиграмме 1750 года высмеивается механический свистящий змей, который был использован в одном из таких спектаклей. В балете Фузильера, когда Клеопатра появляется на ладье на сцене, её сопровождают танцующие египтяне, вакханки, юноши и девушки, наряженные моряками, и оркестр из двадцати музыкантов. В ремарках Генри Брука к постановке пьесы на сцене предлагалось, чтобы при первом появлении Клеопатры роскошная ладья спускалась со сцены и «плыла» между рядами зрителей под аккомпанемент нежных звуков флейт. Когда Дэвид Гаррик в 1759 году вновь ставил на английской сцене трагедию Шекспира, постановщик рекомендовал не читать пьесу (это не соответствовало вкусам XVIII века), а устроить зрелищное представление, где «сценические эффекты, наряды и парады развлекают и отвлекают взгляд от поэта»[19]19
В елизаветинские времена на сценической площадке в центре находился поэт-декламатор, а вокруг на стульях располагались слушатели.
[Закрыть].
Парад богатства и великолепия избранного класса обеспечивал беспроигрышный успех у богатых и знатных представителей старого режима. Заказчики могли любоваться портретами Клеопатры у себя на стенах, лелея приятные мысли о том, что они являются славными обладателями весьма похвальных качеств, доставшихся им от рождения, и что, подобно ей, они могут распоряжаться и своей судьбой, и своими подданными. По крайней мере, им хотелось в это верить. Но демонстрация власти, пусть и великолепная, ещё не означает самой этой власти. Судьба настоящей Клеопатры – живой тому пример. Когда в Александрии Клеопатра сидела на золотом троне, а Антоний провозглашал её «царицей царей» – это вовсе не соответствовало их реальной власти на тот день. Скорее, это была символическая демонстрация того, что им хотелось бы иметь. Правда, золото и серебро у них были, но власть над империей, которую символизировали золото и серебро, нужно было ещё завоевать. Октавий, конечно, менее «велик» в этом отношении. Он даже не захотел принять царский титул. Однако его дальновидность подтверждена той властью, что сосредоточилась в его руках, – он обладал гораздо большим влиянием, чем любой из королей. Как и Кольбер, управляя Францией, позволял аристократии наслаждаться празднествами и балетами, а сам довольствовался реальной властью, а не внешними её атрибутами. «Сейчас не те времена, когда монархи требуют себе титула «великий», – писал Эдмунд Берг в 1796 году. – Сейчас они философически удовлетворяются, если их признают хорошими». В разгар Французской революции старую родовую аристократию, наследующую древние традиции воинской элиты, постепенно замещали люди служилые, городская ростовщическая верхушка и разночинцы, которые считали претензии на величие смешными и никчёмными. Хор в трагедии Колли Сиббера начинает восхвалять утончённость и изысканность Клеопатры, на что Пофин цинично замечает:
Всё притворство!
В толпе двора как просто низость прикрывать!
Сиббер не предполагал, что на слова Пофина кто-либо обратит внимание, ведь Пофин всего лишь ничтожный египтянин, однако именно он выражает мнение, которое в XVIII веке находило себе всё больше сторонников: величие аристократии, даже её наиболее выдающихся представителей – это всего лишь позолота, но не золото истины.
8
ЧУЖЕСТРАНКА

В 1831 году французский историк Жюль Мишле писал, что, когда Юлий Цезарь прибыл в Египет, он «стремился проникнуть в молчаливый и таинственный мир Востока». Воплощением этой тайны являлась Клеопатра. Как считает Мишле, она – «восточная» царица. При жизни Клеопатры Октавий стремился придать легендам о Клеопатре вид противоборства Востока и Запада. Ленивые и праздные восточные народы должны были подчиниться божественной имперской расе. Параллельно всплывали соблазнительные фантазии о неведомой легендарной земле, где всё доступно, о стране сказочной роскоши, богатства и неограниченной сексуальности. Чуть меньше двух тысяч лет спустя, когда Османская империя распалась на ряд мелких государств, Восток вновь привлёк пристальное внимание европейцев. Именно эта сторона легенды о Клеопатре стала вызывать повышенный интерес. В воображении XIX века имя Клеопатры снова крепко-накрепко связалось с представлениями о Востоке. Безгласная (поскольку фантазии существуют только в голове их создателей), загадочная и возбуждающая, она возлежит на восточных подушках или на экзотически украшенных чужеземных ладьях, в ожидании (как и весь Восток) прихода и проникновения.
Писатели и художники, творившие до 1800 года, мало заботились о том, чужестранка ли Клеопатра или нет. Шекспир блестяще обыграл драматический эффект, возникающий из противопоставления Александрии и Рима. Однако все восточные орнаменты, используемые в постановках его трагедии, – анахронизм. В первой постановке пьесы Шекспира и Клеопатра, и Октавия были одеты в юбки с фижмами по моде XVI века. Современные ему писатели ломали голову над тем, как выглядела историческая Клеопатра. До нас не дошло никаких цветных изображений египетской царицы. Представительница греков-македонян, она должна была выглядеть достаточно красивой, однако кое-кто предполагал, что у Клеопатры, жительницы Северной Африки, цвет кожи должен быть как у мавра Отелло. Роберт Грин в 1589 году пишет, как об очевидном факте, что «Антоний был влюблён в чернокожую египетскую царицу Клеопатру», и сокрушался, до чего доводит страсть, в силу которой «чернь эбонита сияет ярче белизны слоновой кости». Авторы, считавшие Клеопатру чернокожей, свято верили, что из-за этого она была непривлекательной. «Её обожжённая солнцем красота не могла прельстить его», – говорит Планк в пьесе Сэмюэля Брендона. «Египтянки растут под слишком жарким солнцем и вряд ли могут представить интерес для римского ловеласа», – кокетливо заявляет Клеопатра в трагедии Сиббера. Эти замечания заводили в тупик тех, кто желал возродить легенды о Клеопатре. Её репутация красавицы, хотя и не подтверждённая историческими свидетельствами, была неотрывна от неё. Но невозможно считать красивой женщину, которая не похожа на бледнолицых европейских леди. Воображаемый идеал всегда использует как модель образцовых представителей социальной и этнической элиты. Проблема представлялась неразрешимой, а посему большинство европейских авторов вплоть до XIX века попросту игнорировали чужеземное происхождение Клеопатры и меняли её внешность сообразно своим идеалам.
Так, в одной средневековой хронике Клеопатра предстаёт красивейшей на свете женщиной с золотыми волосами. В эротической поэме Гийома Бейяра «Трогательная любовь Марка Антония и Клеопатры» ослепительная белизна её кожи сравнивается с белизной слоновой кости, сверкающие на солнце локоны затмевают блеск золота, пунцовые щёки цветут ярче любых майских роз, а груди, круглые и твёрдые, как пара бильярдных шаров, – опять же из слоновой кости. У героини Гарнье, любящей и героической жены, волосы «пламенеют золотом», а Бенсерад цвет лица Клеопатры сопоставляет с нежными «розами и лилиями».
Художники Ренессанса и барокко, следуя той же логике (или её отсутствию), изображали Клеопатру в соответствии с представлениями своего времени и окружения. У Клеопатры на картине Тьеполо (как и у дюжины других художников) белокурые волосы, прозрачно-голубые глаза и нежно-перламутровый оттенок кожи. На одежде её слуг можно заметить турецкие и еврейские мотивы, впрочем весьма небрежные. Архитектурное обрамление типично для Возрождения, сама Клеопатра одета по итальянской моде XVIII века, а внешне очень похожа на изображение Беатрисы Бургундской на картине того же Тьеполо «Свадьба Фридриха Барбароссы». Для венецианских художников, как и для большинства их современников, Клеопатра – знатная дама, почти неотличимая от знатных европейских дам того же ранга. Поразительная, конечно, но отнюдь не чуждая. Такие Клеопатры, хотя и были царицами Египта, но не слишком далеко удалялись от Европы. Они не настолько отличались от создававших их образы европейцев, чтобы считаться таинственными или загадочными. Это также избавляло их от таких характеристик, как жестокость, леность, сексуальная ненасытность, которые появились позже – уже в эпоху романтизма. Клеопатры предшествующих веков не вызывали ни особого трепета, ни особых подозрений. Экзотика, которая для нас неотделима от образа Клеопатры, была внесена в её легенду только в начале позапрошлого столетия.
Примерно в начале XIX века Клеопатра и её двор были срочно «выселены» из Европы, приобрели соответствующие экзотические черты, стали чужеземными и весьма странными. В эпоху Просвещения и учёные, и поэты стремились к определённого рода философской сдержанности, к всеобъемлющей интеллектуальной системе, которая давала бы возможность понимать и описывать окружающий мир и живущие в этом мире народы. Романтизм XIX века внёс страстную тягу искать во всём различия, противопоставлять чувствующую личность всему миру, устанавливать дистанцию между человеком и миром, создавать некое буферное пространство, которое заполняется воображением. Реальная жизнь слишком ограничена – некие иные сферы, совершенно непохожие на здешние земные, должны быть обнаружены свободным духом, если ему будет дан простор для движения.
На облако взгляни: вот облик их желаний!
Как отроку – любовь, как рекруту – картечь,
Так край желанен им, которому названья
Доселе не нашла ещё людская речь.
Так описывает этот порыв Бодлер в стихотворении «Плаванье», которое завершается примечательным призывом. Отчаявшись обнаружить на земле страну своей мечты,
Мы жаждем, обозрев под солнцем всё, что есть,
На дно твоё нырнуть – Ад или Рай – едино! —
В неведомого глубь – чтоб новое обресть!
Писатели и художники XIX века искали это новое и необычное и в своём собственном воображении, и в опиуме, и на небесах, и в утопиях, – и, конечно же, на Востоке. Кроме того (поскольку это в основном были мужчины), необычность искали и в женщинах – чужестранках по природе. Вновь Клеопатра и Египет стали воплощением женственности в противовес мужественности, с которой всегда отождествлял себя Запад. Как женщина и как представительница Востока, Клеопатра заняла своё место в романтическом воображаемом пространстве. «Только на Востоке, – восклицает Наполеон у Мишле, – можно вершить великие дела». Клеопатра Мишле царствует в Александрии, которая больше не является одним из изначальных центров европейской культуры, а превращается в восточный «караван-сарай». То же происходит и с легендой о Клеопатре. Всё объясняется теперь таинственным восточным влиянием, таким далёким и таким загадочным, и уже сама история Клеопатры перестаёт быть европейской, а оказывается «восточным мифом о змее, что мы отыскали в древнеазиатских источниках».
Такое явное изменение в понимании легенды о Клеопатре отражало не менее глубокий сдвиг в воззрениях европейцев. Новое восприятие Востока совпало с изменением текущей политической ситуации. В последнее время появилось немало исследований (Эдвард Сейд, Норман Деньел, Алан Гросричард, Рана Каббани), в которых прослеживается тесная связь между ориенталистскими сюжетами европейской литературы и искусства и западной политикой притеснения восточных народов. Тот период, когда Клеопатра перестала быть признанной европейцами леди и превратилась в экзотическую чужестранку, совпал и с романтическим культом национализма, и с усилиями таких историков и антропологов, как де Гобино, Мейнерс и Бальдунг Нибур, выдвинуть «прогрессивные» теории об отставании в развитии народов, не принадлежащих к белой расе. Они считали, что по сравнению с белой расой такие народы морально, социально и политически недоразвиты. Появление этих теорий совпало с колониальными притязаниями европейцев. В задачу данной книги не входит подробный анализ сложного взаимопереплетения теории и практики империализма или выяснения того, что чему предшествовало – теория практике или, наоборот, практика – теории. Как бы там ни было, к тому времени, как Клеопатра превратилась в чужестранку, акценты уже были расставлены. И западное восхищение, и западная подозрительность в отношении Востока были, возможно, новым феноменом для Европы, но не для Клеопатры. Всё это уже было и в её собственное время. Однако сочетание духа романтизма с политикой империализма придавало новую окраску. За второе десятилетие XIX века страны Восточного Средиземноморья, с которыми европейцы искони торговали, воевали и общались, вдруг неожиданно превратились в заморские страны, населённые чуждыми и непонятными народами, совсем не теми, с кем Европа всегда общалась и имела общие культурные корни.
Этот культурный феномен Эдвард Сейд анализирует в контексте расовой дискриминации и территориальных претензий. Однако, как замечает Сейд, когда речь заходит о Востоке, то надо учитывать не только реальную колониальную политику, но и связанный с этим вымысел. Этот вымышленный сказочный Восток, так же как и воображаемая сказочная женщина, отвечает страстным желаниям тех, кто его или её изобретает. Клеопатра XIX века, подобно царице Шеба у Флобера, – это и женщина и целый воображаемый мир. Генри Хауссей, пытаясь дать представление о Клеопатре, пишет на страницах своей биографии в 1875 году следующее: «Вообразите азиатскую пышность, величие египетских пирамид, римскую утончённость – всё собранное в одной женщине, чувственной и величественной, утопающей в безумстве роскоши и удовольствий». Для Анри Блез де Бюри, писавшего в 1875 году, она была «воплощением поэтичности мира, лишённого всех основ, поскольку красота без сдержанности, дух без сознания долга и бесконтрольная страсть могут привести и к свету, и к тени, и к любви, и к опьянению или непристойности». Любовь такой Клеопатры – это сексуальная одержимость. Кроме того, это территориальная и политическая экспансия. Она есть Восток, а Восток – это женщина. Представления о Клеопатре в эпоху романтизма – причудливая смесь расовых предубеждений и эротики, сложным образом переплетающихся друг с другом. И ещё глубже лежит третья составная часть. Красивая женщина, как и экзотическая страна, – символ несбыточной мечты, грёз, место бегства или безумства, возможность стать более живым, более беззаботным, чем это позволяют ограниченные рамки обыденного существования.
Этот Восток населён Клеопатрами Пушкина, Готье, Суинберна, Виктора Гюго, Райдера Хаггарда и ещё длинной вереницы других, менее известных авторов. Из художников, что рисовали этот вымышленный мир, можно назвать Лоуренса Алма-Тадема, Дж. Джерома, Гюстава Моро. Известнейшая картина Энгра «Турецкие бани» была написана в Париже, этот художник никогда не покидал пределов Европы. Готье безумно влюбился в Восток не потому, что он там побывал, а потому, что увидел картину Проспера Марилхата «Площадь Эзбекие в Каире». «Эта картина... породила во мне ностальгию по стране, куда не ступала моя нога. Я подумал тогда, что нашёл наконец свою истинную родину». Сказочное королевство мечты, вдохновляющее на такое чувство, рассчитано как раз на удовлетворение тех, кто обладает подобным воображением. Гюстав Флобер интуитивно уловил, как именно используют европейцы понятие «Восток», когда писал другу из Египта: «...Это похоже... на большую сцену, предназначенную специально для нас». Жерар де Нерваль, один из немногих поклонников Востока, который решился не только восхищаться им издали, а совершить путешествие в волшебную страну, с грустью признавал, что реальность совершенно не совпадает с ожиданиями и разочаровывает. Он писал Готье с изрядной долей юмора и с достаточным пониманием тех чувств, что поддерживают фантазии о сказочном Востоке: «Для тех, кто ни разу там не бывал, лотос – это лотос. Для меня же это просто луковица».
«Луковичная» реальность не может заменить лотос фантазии. Вымышленный Восток чарует именно потому, что это сказка, в которой сочетаются мистика и порнография. Задача сказки – дать альтернативную реальность. Реальность, в которой желания удовлетворяются, а запросы осуществляются. Реальность, где, несмотря на избыточную остроту ощущений, материальное отсутствует, место, где отступают заботы и возможен экстаз. «Что мы хотим описать, – пишет Теофиль Готье в 1845 году, – это высшее удовольствие, празднество, пред которым бледнеет пир Балтазара, – ночь Клеопатры. Как нам, добродетельным и холодным французам, выразить эту оргиастическую свободу, мощный стихийный разгул, когда вместе с бокалом вина поднимается и кубок с кровью, когда дикий экстаз едва переносимого наслаждения продолжается со всем пылом чувственности и, не сдерживаемый строгой указкой христианской морали, стремится преодолеть невозможность!»
Клеопатра Теофиля Готье – плод эротической фантазии, однако подспудное желание, выраженное здесь, не ограничивается только объектом сексуальности, оно идёт дальше, к почти религиозным высотам, к чему-то настолько безграничному и безмерному, что может быть выражено только с помощью отрицания. Для Готье, как для многих других ему подобных, Клеопатра и её страна – это всё, что не-здесь, немы, не-известность, не-возможность. Есть известный анекдот о том, как некий провинциал, посмотрев спектакль о Клеопатре в исполнении Сары Бернар, выходя, воскликнул: «Ах! Как же это не похоже! Совсем не похоже на нашу дорогую королеву!» Забавно и поучительно. Ремарка отражает общее чувство превосходства «нашей» морали, но главное здесь то, что привлекательность Клеопатры заключается как раз в её непохожести, в её противопоставленности всему, что было так свойственно викторианской Англии. Иноземцы – это не только противники. Она, он, оно являются также и воплощением несбыточных надежд.








